Читать книгу "Путеводная звезда"
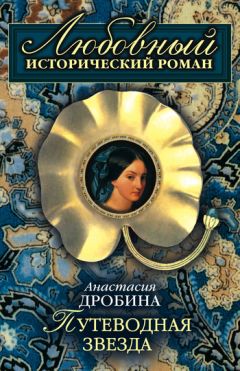
Автор книги: Анастасия Дробина
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
В полуоткрытое окно пробрался сырой сквозняк, шум дождя стал отчетливее, и Настя, не вставая, прикрыла створку. Склонилась над столом, опустила голову на руки. Подумала о том, что хуже той осени у нее не было дней в жизни. Даже когда она лежала в больнице с изуродованным лицом, даже когда цыганки сплетничали ей об изменах Ильи, даже, грех сказать, на недавних похоронах отца ей не было так плохо, как в ту дождливую осень. Хуже всего было то, что Настя знала обо всем, что произошло, все понимала и никому ничего не могла рассказать. Не могла даже успокоить Митро и Илону, которые чуть с ума не сошли, когда их старшие дети исчезли из родительского дома. Шум из-за этого побега поднялся страшный, вся цыганская Москва гудела, спорила и сплетничала о несчастье в семье Дмитриевых. Предположения высказывались самые невероятные: среди женщин нашлись даже такие, которые вспомнили, что Яшка и Маргитка – не кровные брат и сестра, а значит, чем черт не шутит… Настя теряла последнее терпение, слыша такие разговоры, кричала на баб, обзывала их проклятыми сплетницами, плакала от злости прилюдно, но поделать с цыганками ничего было нельзя, и языки в каждом доме на Живодерке чесали больше месяца. Но тяжелее всего было смотреть, как убивается Илона, постаревшая за этот месяц на десять лет, утешать Митро, который первый раз на памяти Насти был совершенно выбит из колеи и мог только растерянно спрашивать: «Но куда же их черт понес, Настька? Совсем ничего не понимаю… Маргитка-то ладно, всю жизнь безголовой была, но Яшка-то, Яшка… Куда их нелегкая погнала? И зачем, зачем?!»
Настя молча глотала слезы. Сердце разрывалось, в горле стоял ком, несколько раз она была близка к тому, чтобы упасть на колени перед братом, словно она сама была виновата в его горе, и рассказать обо всем. Слава богу, ей хватило ума понять: от правды лучше не станет. Настя не только жалела Митро, но еще и ясно понимала: если все вскроется, ее мужу, Илье, не жить.
Илья не ушел от нее. И Настя не смогла прогнать его, потому что все-таки они прожили вместе семнадцать лет и у них было семеро детей. Потому что в душе отчаянно надеялась: перебесится, забудет, успокоится, заживут как жили… Илья ни о чем ее не просил. Настя ни о чем его не спрашивала. Еще месяц они прожили в Москве: уехать от семьи Митро, когда там случилось такое несчастье, было бы просто свинством. К тому же их отъезд был бы воспринят цыганами как демонстрация смертельного оскорбления: ведь Дашка после бегства Яшки осталась брошенной невестой. Митро даже попытался извиниться за сына перед Ильей. И этого Илья, хорошо знавший, почему уехал Яшка, уже не выдержал.
Их разговор с Настей состоял из трех слов. Ночной разговор, когда она сидела на постели, закрыв лицо ладонями, а Илья стоял, отвернувшись к стене.
«Уедем, Настя?»
«Уедем…»
И они уехали, никого этим не удивив. У Митро просто не было сил уговаривать сестру и ее мужа остаться. На прощанье он все же предложил им оставить Дашку в Москве как его законную невестку, но Илья не согласился, и дочь уехала с ними.
Дашка держалась на удивление стойко. Настя поражалась, глядя на дочь – настолько та была уверена в том, что Яшка непременно приедет за ней. Они перебрались в Старый Оскол, жизнь пошла своим чередом, осень сменилась зимой, Настя в душе уже точно знала, что Яшка не вернется, и уже думала, как бы поосторожнее поговорить об этом с дочерью, но… каждый раз не хватало духу при виде Дашкиного лица, светившегося улыбкой при одном упоминании имени Яшки. В конце концов Настя решила не трогать дочь. Гораздо больше ее беспокоил муж.
Илья никогда не был особенно разговорчивым, а теперь и вовсе перестал открывать рот: за всю осень и зиму Настя могла по пальцам пересчитать дни, когда они с мужем говорили о чем-то. Куда делись их споры о Дашке, о детях, о родственниках и даже о романсах, которые Настя пела в Москве! Теперь Илья упорно молчал, в самом крайнем случае скупо роняя: «Делайте что хотите» или «Твои дела». Он стал надолго уходить из дома, отговаривался «лошадиными делами», пропадал в таборах, ездил к какой-то дальней родне то в Смоленск, то в Калугу, то в Псков, и Настя не могла отогнать от себя мысли о том, что Илья ищет Маргитку. И когда муж возвращался – потемневший, злой, иногда в чужой обтрепанной одежде, пахнущий водкой и лошадиным потом, – Настя наряду с облегчением чувствовала острую боль под сердцем. Иногда, проснувшись среди ночи и закусив до крови губы, она слушала, как муж беспокойно ворочается во сне, зовет: «Чайори мири[3]3
Чайори мири – девочка моя (цыг.).
[Закрыть]… Чайори…» Слава богу, такое было нечасто, и наутро Илья, кажется, ничего не помнил. И Настя молчала, прятала слезы, из последних сил надеялась: пройдет… И, может, впрямь прошло бы, если бы весной, когда с холмов пополз почерневший снег и в небе над городом закричали журавли, к ним в дом не заявился Яшка.
Парень повзрослел, вытянулся, сильно раздался в плечах, еще сильнее стал походить на отца. Увидев племянника на пороге, Настя только всплеснула руками и слабо ахнула. Яшка сдержанно улыбнулся, попросил разрешения войти. Настя, с трудом взяв себя в руки, вошла в комнату, где семья сидела за ужином, но успела только выговорить: «Илья, посмотри, кто к нам…»
Закончить она не успела: Дашка вдруг поднялась из-за стола и уверенно, словно была зрячей, пошла прямо к Яшке. У парня дрогнуло обветренное лицо. Он протянул руку, поймал Дашку за рукав и в нарушение всех приличий, забыв о том, что это происходит на глазах Дашкиных родителей, привлек ее к себе.
«Ты что же делаешь, окаянный?» – хотела было сказать Настя, но взглянула через стол на мужа, и слова замерзли в горле. Лицо Ильи, казалось, ничего не выражало, но в его глазах Настя поймала испуг и смятение. Она поняла: Илья пытается угадать, что известно Яшке о нем и Маргитке и как теперь вести себя с парнем. Но Яшка взял за руку плачущую Дашку, спокойно и уверенно сказал: «Я за ней, Илья Григорьич», и Настя поняла, что он ничего не знает. Понял это и Илья, который, нахмурившись, встал из-за стола, помолчал немного и обычным, слегка недовольным голосом сказал:
– Ну, что с тобой делать… Садись за стол, а там решим.
Сидя за столом напротив Яшки, Настя внимательно вглядывалась в его лицо. Все дети Митро были очень смуглыми, в отца, но Яшка приехал вовсе черным, как антрацит, из чего Настя заключила, что эти полгода он провел на юге. Вскоре выяснилось, так оно и есть: Яшка рассказал, что живет «своим домом» в Балаклаве и занимается конной торговлей. О московских делах прошлогодней давности он не упоминал вовсе и лишь обмолвился, что в Москве он не был и ехать туда не собирается.
– Ты хоть отцу напиши, – осторожно сказала Настя. – Он, бедный, поседел весь, и Илона чуть с ума не сошла…
– Напишу, – нехотя уронил Яшка, но Настя поняла, что писем в Москве от него вряд ли дождутся. Через стол она взглянула на мужа. Илья по-прежнему выглядел спокойным, но его кулаки, неподвижно лежащие на столешнице, были сжаты добела.
В ночь перед своим отъездом Дашка пришла на кухню, где усталая Настя домывала посуду. Сев на табурет, расправила фартук на коленях, ровно сказала:
– Маргитка жива. Живет с Яшкой в Балаклаве. Скоро родит.
Глиняная миска выпала из Настиных рук и разбилась. Настя тяжело прислонилась к стене, пробормотала: «Дэвлалэ…»[4]4
Дэвлалэ – боже мой (цыг.).
[Закрыть] Дашка продолжала молча теребить фартук.
– Ты… отцу говорила?
– Ему лучше не знать.
– Да, – хрипло подтвердила Настя, закрывая глаза. Когда через минуту она их открыла, Дашки уже не было за столом: лишь слегка покачивался край скатерти. Настя села на лавку, машинально сгребла ногой осколки миски, подперла голову рукой. С отчаянием подумала о том, что это последняя ночь Дашки в родительском доме, что завтра она уедет с мужем и бог весть когда Насте придется увидеть ее снова. Впереди у девочки семейная жизнь со всеми ее бедами и редкими радостями, и лучше бы было им, матери и дочери, просидеть эту ночь вдвоем, тихо разговаривая перед долгой разлукой, но… Но Дашка ушла, а у Насти не было сил вернуть ее. От тревоги сжималась грудь. Маргитка… жива… Господи!
После отъезда Дашки Илья пропал из дома на неделю. Вернулся грязный, с соломой в волосах, весь пропахший конским потом и дымом, и Настя догадалась, что муж снова был в каком-то таборе. За весь вечер они не сказали друг другу ни слова, молча легли спать, а ночью Настя проснулась от глухого, прерывистого шепота рядом с собой:
«Чайори… Чайори… Чайори…»
Она резко приподнялась на локте. Стиснула зубы, зажмурилась, едва сдерживаясь, чтобы не закричать на весь дом: замолчи, проклятый, пожалей меня, не смей звать ее, не смей… Но за стеной спали мальчишки, кричать было нельзя, и Настя могла лишь молча, давясь слезами, ждать, когда все закончится. Прежде Илья успокаивался быстро, замолкал сам и спал до утра, но сейчас он словно с цепи сорвался. В мертвенном свете весенней луны, глядящей в окно, Настя смотрела на искаженное лицо мужа с закрытыми глазами. Он шарил руками рядом с собой, скользя пальцами по одеялу и рубашке Насти, морщился, хрипло звал:
«Чайори… Чайори… Маргитка, где ты? Где ты, девочка? Девочка моя… Лулуди[5]5
Лулуди – цветочек (цыг.).
[Закрыть]… чергэнори[6]6
Чергэнори – звездочка (цыг.).
[Закрыть]… Я же все сделал… все… Что ты хотела – все… Где ты? Где ты?!»
В конце концов Настя испугалась, что он разбудит детей, и, собравшись с духом, потрогала мужа за плечо:
«Илья, что с тобой? Успокойся…»
Он тут же проснулся. Рывком сел, дико огляделся по сторонам, блестя белками расширенных глаз, еще раз сдавленно позвал: «Чайори…» – и увидел Настю. Она не сразу поняла, что в лунном свете отчетливо видно ее залитое слезами лицо. Илья опустил голову. Молча повалился навзничь на подушку. Кажется, вскоре заснул. Но через час Настю снова разбудил его хриплый голос, зовущий Маргитку, и снова ей пришлось будить Илью. И еще несколько раз за ночь она делала это, и лишь под утро оба они заснули намертво, и Настя открыла глаза лишь к полудню. Ильи рядом не было.
Это продолжалось шесть ночей. Шесть ночей – с перерывами в два-три дня, на которые Илья пропадал из дома. Каждый раз Настя думала, что он ушел совсем, но муж возвращался, и они ложились вместе в постель, и он снова и снова не давал Насте спать, мечась по постели и сдавленно зовя свою чайори, и снова она расталкивала его и плакала в подушку, и снова Илья притворялся спящим и снова исчезал наутро из дома… А на седьмую ночь Настя вдруг ясно и даже с облегчением поняла, что больше она так не может и что ничего уже не поправить и не залатать. Слово в слово она помнила их последний разговор. Слово в слово – и сейчас, пять лет спустя.
– Илья, так больше нельзя. Ты с ума сойдешь.
– Ничего не будет…
– Нет, будет. Или вперед я умру. Прости, не могу я больше. Прошу тебя, уходи. Иди к ней. Я вижу, ты ее все равно забыть не можешь. Еще раньше уходить надо было, чего ради полгода промучились?
– Не говори так. – Илья сидел на краю постели, уткнувшись лбом в кулаки; его голова отбрасывала в лунном свете всклокоченную тень. – Куда я пойду, зачем? Я… Я даже не знаю, где она.
– Она в Балаклаве, с братом. Мне Дашка рассказала. – Настя помолчала немного и вполголоса добавила: – Она ведь тяжелая от тебя. Ты не знал?
Илья поднял глаза. Шепотом произнес: «Дэвлалэ…», помотал головой, словно отгоняя что-то. Настя наблюдала за ним с горькой улыбкой. И сама удивлялась своему спокойному голосу.
– Вижу, что не знал. Ты поезжай, у нее уже вот-вот должно… Поезжай, Илья. За меня не бойся, я в Москву, в хор, вернусь. Не думай, мне так тоже лучше будет. Хоть мучиться перестану, на тебя глядя. Еще возьму и замуж выйду! – Она даже нашла в себе силы рассмеяться. – Езжай, Илья. Прямо завтра. Может, еще и свидимся когда.
Он не отвечал. Настя легла на постель, отвернулась к стене. Подивилась тому, как пусто и тихо стало в душе: словно выгорело все. Но сон так и не пришел к ней, и на рассвете она слышала, как тихо поднялся и ушел Илья. Ушел не прощаясь: о чем еще им можно было говорить? Час спустя Настя встала сама и, когда проснулись мальчишки, сказала при них своему старшему, Гришке:
– Отец уехал. Ты теперь в доме старший. Продавай лошадей и дом, едем в Москву.
Гришка не выказал и тени удивления – Настя даже испугалась, не знает ли он чего. Она знала, что в Москве Гришка был не на шутку влюблен в зеленоглазую Маргитку, но та лишь смеялась над ним и слышать не хотела о свадьбе. Но если Гришка и догадывался о чем-то, то виду не подал. Спокойно выслушал мать, кивнул, взял ключи и пошел на конюшню. Тогда Настя впервые заметила, что похожий больше на нее старший сын чем-то начал напоминать Илью.
Гришка управился быстро. В считаные дни было распродано все хозяйство, Настя раздала цыганкам мебель и кухонную утварь, написала Митро, и через неделю они всей семьей въехали в Москву.
В столице им обрадовались. Вопросов никто не задавал. Все знали Настю, все были уверены: не захочет – ничего не расскажет. На другой же день они с Гришкой выступали с хором в ресторане. Вот и все.
Митро, впрочем, время от времени пытался расспрашивать сестру о том, что случилось. Настя отмалчивалась. Иногда взрывалась: «Не твое дело!», иногда отмахивалась: «Да отвяжись ты… Какая теперь разница?» Но когда Митро, выходя из себя, называл Илью «таборным голодранцем» или «кобелем», она резко обрывала его: «Ты ничего не знаешь, молчи!»
Митро умолкал. И лишь однажды у них вышла серьезная ссора: когда Митро услышал от каких-то цыган о том, что муж сестры живет в Бессарабии с молодой женой. В тот же вечер он заговорил об этом с Настей. Та как можно сдержаннее сказала, что знает об этом, Митро раскричался, а она отвечала невпопад, лихорадочно гадая, не сказали ли цыгане брату о том, кто она такая, та молодая. Но этого, судя по всему, Митро не знал.
Жизнь покатилась своим чередом. Год спустя женился Гришка, за ним – второй сын, Петька. В Москве снова появился князь Сбежнев, давний поклонник Насти, который, узнав о том, что она теперь свободна, немедленно сделал предложение. Настя отказала, но Сбежнев не отступился, и сейчас, глядя на темную улицу, Настя обреченно думала: «А почему бы нет? Пять лет прошло, стоит ли еще ждать? И чего ждать?..»
В коридоре чуть слышно скрипнула половица. Кто-то осторожно поскребся в незапертую дверь. Настя очнулась от своих мыслей, провела ладонью по лбу, удивленно посмотрела на едва заметные в предрассветной темноте стрелки ходиков.
– Эй, кому там не спится? Заходи.
В комнату смущенно, боком вошел сын Илюшка, которому месяц назад исполнилось восемнадцать. Он был копией отца – впрочем, черты Илюшки были еще юношески мягкими, а улыбка – стеснительной.
– Почему не спишь, мама?
– Это ты почему не спишь? – с напускной строгостью спросила Настя. – Вон светает уже.
– Я… Я по коридору шел и смотрю – у тебя дверь открыта. – Илюшка мялся у двери, поглядывал то в окно, то на ходики, теребил в пальцах край рубахи. – Мне бы поговорить…
«Вот так и знала», – подумала Настя.
– О чем, сынок?
– Мама, я… Мне… Жениться я хочу.
– Господи, только тебя мне не хватало, – после короткого молчания горестно сказала Настя, берясь за голову. – И что вы все в хомут торопитесь, скороспелки?.. Садись сюда. На ком?
* * *
Рыбачий поселок, состоящий из трех десятков глиняных хаток, покосившейся православной церкви, кабака у самого моря и рыбной лавки, находился в двух верстах от Одессы. Помимо рыбаков, здесь обитало множество всякого сброда: греки-контрабандисты, приплывающие из Балаклавы на бокастых фелюгах, подолгу живущие в поселке, а потом в один день вдруг пропадающие невесть куда; молдаване в длинных белых рубахах и высоких шапках, занимающиеся виноделием и скупкой краденого; мрачные турки со своими безмолвными женами и черномазыми крикливыми детьми; говорливые евреи, которым принадлежала вонючая, никому в поселке не нужная рыбная лавка. Лавку держал старый Янкель, и на сомнительный доход от нее кормились человек тридцать Янкелевой родни. По соседству с евреями обитали румыны-конокрады, за конокрадами селилось грязное голосистое семейство нищих гагаузов. Жили в поселке болгары, албанцы, украинцы, поляки, сербы, русские… Жили мастеровые, воры, бродяги, кочевые торговцы, холодные сапожники, скупщики краденого, гадалки, коновалы, кузнецы… Весь этот грязноватый шумный народ появлялся в поселке невесть откуда и невесть куда потом исчезал, никого этим не интересуя.
Полиция Одессы старалась не появляться в поселке без крайней нужды; горожанам тоже нечего было здесь делать, и белая каменистая дорога, ведущая в город, оживала лишь на рассвете. Первыми в Одессу отправлялись молдаване-молочники с корчагами простокваши, кругами сыра и творогом, нагруженными на арбы; за ними двигались румыны с баклагами вина, сапожники-евреи со своими грязными ящиками, в которых лежали колодки, обрывки кожи и дратва, лошадники-цыгане. А самыми последними, когда солнце было уже не розовым, а белым и стояло высоко над морем, в город отправлялись загорелые, все в солевом налете и серебристой рыбьей чешуе рыбаки, вернувшиеся с утреннего лова. Они тащили на головах огромные корзины с рыбой, креветками, мидиями. К полудню поселок пустел, лишь кое-где под заборами в тени сидели полуголые величественные турки или проскакивали тенями женщины. Между домами без всякой привязи бродили тощие коровы, лошади, козы, ишаки и черный еврейский козел по имени Шейгиц. Грязные разномастные дети носились по поселку, как стая чертей, они орали, дрались, висли на заборах и деревьях, полоскались в море и крали все, что плохо лежало. А к вечеру поселок снова наполнялся народом, красное солнце падало в море, тихие волны умиротворенно лизали песчаную косу, и трактир одноглазого Лазаря под грецким орехом на берегу открывал свои скрипучие двери. В последнее время у Лазаря по вечерам было набито битком, и немудрено: в трактире пели цыгане. И не какие-нибудь полуголые лаутары, не грязные цимбалисты, не голодные бессарабские волынщики, а самые настоящие артисты – по слухам, из самой столицы…
За печью, беспокоясь от шторма, громко шуршали тараканы. В засиженное мухами окно стучал дождь, струйка воды уже подтекла под раму и по одной капле падала на пол: тук… тук… В печной трубе голосил ветер, ветви старого платана колотили по крыше, словно желая разломать ее.
Да… Проживешь вот так на свете сорок три года, не зная, что есть на свете эта соленая лужа – море, и лысые камни, и вонючий, богом забытый поселок, а на сорок четвертом году сядешь среди всего этого на хвост и поймешь: вот она какая теперь, твоя жизнь, хочешь ты того или нет. Илья хмуро взглянул в окно, отодвинул от себя пустую миску и, сжав в кулаке кусок недоеденного черного хлеба, задумался.
Большой, мазаный, как все жилища в поселке, дом был разделен надвое ситцевой, местами рваной и залатанной занавеской. Полати беленой печи были завалены пестрыми подушками и одеялами. На стене висели две гитары, картинки, вырванные из журналов, большая фотографическая карточка Яшки, Дашки и их старшей дочери, сделанная в прошлом году в Одессе. С большого гвоздя возле двери свешивались ремни лошадиной сбруи. На припечке лениво терла рыльце рыжая кошка. «К гостям, – недовольно подумал Илья. – И кого только в такую собачью погоду принесет?»
На другой половине дома, из-за занавески, надсадно заплакал ребенок. С минуту Илья, морщась, вслушивался в его рев. Затем сердито позвал:
– Маргитка! Оглохла? Уйми его!
– У него своя мать есть! – отозвался из-за занавески молодой гортанный голос. – Сам унимай, когда тебе надо, а я к ним не присужденная!
– Получишь ты у меня сегодня…
– Ха! Пугали ежа голым задом!
Илья, нахмурившись, привстал, но в это время открылась, впустив в дом шум ливня, входная дверь. Насквозь промокшая Дашка быстро вошла внутрь. С ее шали, юбки, платка капала вода, в руках было жестяное ведро с креветками, которое Дашка с грохотом опустила на пол.
– Где тебя носит? – свирепо спросил Илья. – Дите все оборалось…
– А Маргитки разве нет? – удивилась Дашка, попутно и довольно метко награждая подзатыльниками двух проскользнувших за ее спиной в дом мальчишек. – Я в Одессе у Чамбы была, нас Яшка на дороге встретил…
– А, встретил все-таки… – проворчал Илья. – А то еще с полудня с ума начал сходить – где ты… Ты хоть бы мужу говорила!
– Но я же не знала, что так польет! – оправдывалась Дашка, переодеваясь за печью. – Чамба говорит – переждите… Мы сначала сидели у них, ждали, а потом я слышу, что дождь не кончается, только пуще делается. Ну, думаю, так и до завтра можно ждать, лучше побежим. И побежали, а тут как раз Яшка на телеге с рынка едет.
Ребенок вдруг умолк, и Илья решил, что Маргитка все-таки взяла его на руки. Но вместо Маргитки с тряпочным кульком на руках из-за занавески важно вышла четырехлетняя Цинка – курчавая, голенастая, с разбитыми и исцарапанными, загорелыми до черноты босыми ногами. Усевшись на пол у печи, она принялась качать ребенка, пронзительно напевая:
Вы мной играете, я вижу,
Для вас смешна любовь моя…
Илья усмехнулся. Цинка весело взглянула на него, высунула язык. Она, как и все Дашкины дети, была похожа на отца, и иногда Илье даже ругаться хотелось, глядя на эти татарские глаза, широкие скулы и толстые губы. Сейчас Дашка снова была на сносях, и можно было не сомневаться: к концу лета вылезет очередной арапчонок.
Ситцевая занавеска опять дернулась в сторону, в кухню вышла Маргитка, и с одного взгляда Илья понял, что жена не в духе.
– А-а, явилась наконец-то, радость долгожданная! – бросила она Дашке, даже не потрудившись понизить голос, и малыш, притихший было на коленях Цинки, снова расплакался.
– Где тебя таскало, брильянтовая? За детьми твоими кто смотреть будет? Я? Или святой Никола? Или черт морской?! Накидали полные углы, повернуться в доме негде, а сами шляются с утра до ночи, что одна, что другой! Мне, что ли, этот выводок сопливый нужен?! Давайте, давайте, плодите котят, тьфу! Навязались на мою голову, чтоб их собаки разорвали, проходу от них нету… Когда они мне поспать дадут наконец, а?! Дождусь я радости такой в своем же доме?!
Илья понимал: надо встать, оборвать, рявкнуть на нее, может, даже дать оплеуху… Но вместо этого сидел и смотрел на разошедшуюся девчонку во все глаза, чувствуя, как бегут по спине знакомые мурашки. Скандаля и крича, Маргитка делалась еще красивее, еще пуще зеленели неласковые глаза, еще больше темнело смуглое лицо, гневно сходились на переносье густые брови. Она вылетела из-за занавески без платка, и черные кудри рассыпались по плечам, спине, по застиранному ситцу розовой кофты, казалось, Маргитка до колен укутана в черную шаль. Господи, какая же красавица, чтоб она издохла… Двадцать два года ей, пять лет как замужняя, а все лучше и лучше делается, и ничем этот ведьмин огонь в ней не забьешь, так и вырывается, так и искрит! Чайори, девочка! Он ее по-другому назвать не сможет.
– Ну, погавкай у меня, холера! – вдруг послышался спокойный голос с порога, и Илья, вздрогнув, очнулся. Визг Маргитки смолк, словно отрезанный ножом. Она фыркнула, тряхнула волосами и, перебросив их на одно плечо, отошла в угол комнаты, к зеркалу.
Яшка прикрыл за собой дверь и встал, не проходя в комнату, у порога. Он был мокрый с головы до ног, и под его сапогами тут же образовалась лужа. Дети кинулись к нему со всего дома, один мальчишка, вереща, повис на шее, другой – на спине. Цинка, как старшая, подошла не спеша, не спуская с рук младенца.
– Пошли вон! – заорал на детей Яшка, но широкая улыбка свела на нет всю грозность окрика, и мальчишки даже ухом не повели. Дашка с трудом отогнала их и, нащупав на гвозде полотенце, приказала:
– Наклонись.
Яшка нагнулся, и Дашка, накинув полотенце на голову мужа, начала вытирать его мокрые волосы. Илья видел, как Яшка кряхтит от удовольствия, как он из-под полотенца пытается украдкой хлопнуть Дашку по заду и как та шепотом ругает его: «Дети… отец… ошалел?», и чувствовал беспричинную злость. Проклятый щенок… Век бы его не видеть.
Яшка вылез из-под полотенца чертом со встрепанными волосами. Стащил мокрую рубаху, сел на пороге, давая Дашке стянуть с себя сапоги, погладил по голове сунувшуюся под его руку Цинку и, казалось, только что увидел сидящего за столом тестя.
– Будь здоров, отец.
– Будь здоров, – сказал Илья, глядя в окно.
Зятя Илья не любил и догадывался, что Яшка об этом знает, но открытых ссор между ними не случалось. Илье не хотелось причинять боль дочери, а о том, что творилось в голове Яшки, он не знал и знать не хотел. С каждым годом парень все больше становился похожим на своего отца, и иногда Илье даже хотелось перекреститься: Митро и Митро, только молодой да ростом повыше. Даже Яшкин взгляд, недоверчивый, насмешливый, порой презрительный взгляд узких черных глаз, который Илья не раз ловил на себе, напоминал ему Митро. С точно такой же физиономией тот разглядывал лошадей на конном рынке, намереваясь сбивать цену. Но Яшка молчал, а если случалось обсуждать что-то с тестем, то делал это по-цыгански – со всей почтительностью к старшему, в которой Илье постоянно чудилась скрытая издевка. Но раздувать эти угли ему не хотелось. Черт с ним, с паршивцем… Дашку жалко.
Илья видел: дочери с Яшкой живется хорошо. За все пять лет ему не довелось увидеть не только ни одного их скандала, но даже услышать, чтобы Яшка повысил на жену голос. Илья только диву давался, потому что до сих пор был уверен, что такая жизнь была только у них с Настькой, и то лишь поначалу. Возвращаясь с конных базаров, Яшка всегда привозил жене то золотые серьги, то бусы, то шаль, то целый мешок конфет, то отрезы шелка. Дашка улыбалась, благодарила, складывала подарки в сундук, и в конце концов эти шали и отрезы оказывались на Маргитке. Яшка ворчал, Дашка пожимала плечами:
«Но куда же мне сейчас это носить? Посмотри на меня – опять…»
Беременной Дашка ходила постоянно, но была этим вполне довольна, и через пять лет жизни у них с Яшкой было четверо детей. Илья вздыхал про себя: хоть бы Цинка, девочка, была на мать похожа, так ведь нет… Курчавый, скуластый, узкоглазый бесенок, обезьянка, мальчишка в платье. Хотя, кто знает, может, с годами переменится.
За окном звонко прочавкали по грязи лошадиные копыта: кто-то галопом подлетел к дому. Илья вспомнил умывавшуюся кошку, поморщился: вот и гостей принесло…
– Будьте здоровы все! – поздоровался, входя, Васька Ставраки, и настроение Ильи испортилось окончательно.
Этого парня, черного, худого и подвижного, всегда лохматого, как леший, Илья терпеть не мог. Впрочем, в этом с ним был солидарен весь поселок. Никто не знал, откуда здесь появился Васька. Любые расспросы были бессмысленны, потому что десяти разным людям Васька давал десять разных ответов. Рыбаки не могли даже точно установить, какой Васька породы. Одни говорили – грек, другие – турок, третьи божились, что парень – цыган, четвертые уверенно причисляли его к евреям. Васька ни с кем не спорил, смеялся, помалкивал. Он вполне сносно болтал и по-гречески, и по-персидски, и по-еврейски, а однажды Илья заметил, что он понимает и романэс.[7]7
Романэс – по-цыгански (цыг.).
[Закрыть] Это было в тот вечер, когда они всей семьей выступали в трактире Лазаря и Илье показалось, что Маргитка чересчур уж ласково слушает Васькины глупости. Он буркнул ей по-цыгански:
– Не низко ли стелешься?
– Отстань, гаджо[8]8
Гаджо – нецыган (цыг.).
[Закрыть] деньги платит.
– Может, еще и ляжешь с ним?
– И лягу, если не отвяжешься.
– Кнута захотела?
– Тьфу, надоел…
Илья уже был готов перейти от слов к делу прямо в трактире, но сидящий за столом Васька вдруг фыркнул в стакан, плеснув винными брызгами, быстро отвернулся к окну, и ошарашенный Илья догадался, что тот понял весь его с Маргиткой разговор с начала до конца.
Все знали, что Васька Ставраки был конокрадом, и довольно удачливым. По временам он пропадал из поселка, мог отсутствовать неделю, месяц, два. Но только рыбаки начинали с облегчением поговаривать о том, что безродного черта наверняка где-то зарезали, как Васька объявлялся: похудевший, грязный, веселый, с целым косяком лошадей. На Староконном рынке в Одессе пронзительный и гортанный Васькин голос перекрывал любой шум. Он орал во все горло, расхваливая своих «орловских скакунов». Если ему не верили, обижался почти до слез, спорил, лез лошади в зубы, выворачивал кулаком язык, тыкал в живот и в конце концов поднимал цену. Самым невероятным было то, что у Васьки охотно покупали.
Вслед за получением им денег следовал многодневный кутеж в трактире одноглазого Лазаря. Жадности в Ваське не было, гулял он до последнего гроша, угощал рыбаков, хозяина и музыкантов, плясал до упаду, подпевал цыганам неплохим тенором и засыпал прямо под столом, положив на перекладину всклокоченную голову. Через неделю гульбы Васька бродил по поселку похмельный и злой, в одних штанах, пропив и рубаху, и сапоги. А на другой день в каждом дворе начинались пропажи: то исчезнет хомут прямо от ворот конюшни, то как сквозь землю провалится новая сеть, то сгинет выстиранное белье вместе с веревкой. В трудные минуты жизни Васька не гнушался даже висящими на плетне портянками. Все знали, чьи это проделки, но поймать Ваську было невозможно. При встречах же он отрицал все на свете с оскорбленной физиономией, предлагал осмотреть свою халупу, где, кроме тараканов и голодных мышей, не было ничего, и знающие люди шли прямиком в город, на Привоз, где украденные вещи находились уже в третьих руках. Били Ваську часто, но безрезультатно: живучий, как блоха, он отлеживался, встряхивался и принимался за старое.
Судя по всему, Васька переживал очередную полосу безденежья: на нем были грязные залатанные гуцульские шаровары, а живот прикрывала потертая кожаная жилетка. Босые ноги были в грязи по щиколотку; Васька смущенно потер их одну о другую и на предложение Ильи проходить в дом и садиться за стол ответил отказом:
– Спасибо, я мокрый весь.
Илья не стал настаивать. Васька сел у порога, встряхнулся, обдав пол брызгами, улыбнулся, показав крупные зубы, из которых один клык был золотой, а другого не было вообще. С растущим недовольством Илья наблюдал за тем, как Васькины глаза – один карий, другой желтый, как у бродячего кота, – без стеснения следят за Маргиткой. А эта шалава… Нет чтобы уйти за занавеску или, на худой конец, прихватить волосы платком – цыганка ведь, замужняя, при чужом! Она, чертова кукла, об этом и не подумала. Стоит у стены спиной к этому молодому кобелю, усмехается, встряхивает распущенными волосами и наверняка ловит в зеркале Васькин взгляд. Его, Ильи Смоляко, жена! В его же доме!
– Маргитка, уйди, – едва сдерживаясь, велел Илья.
Она глянула через плечо, снова тряхнула волосами. Неожиданно расхохоталась на весь дом, запрокинув голову и сверкая зубами, и Васька даже привстал. Вот паскуда…









































