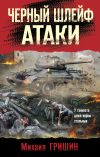Текст книги "Малый заслон"
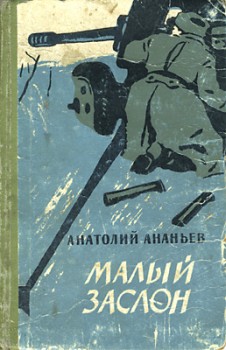
Автор книги: Анатолий Ананьев
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
3
Уже сгущались сумерки, когда Ануприенко, выбрав огневую под орудия, вернулся с переднего края на свой батарейный наблюдательный пункт.
В блиндаже обедали: гремели котелками и кружками. Принёсший кашу разведчик Опенька сидел на опрокинутом вверх дном ведре и плутовато поглядывал на товарищей. Лицо его, рассечённое голубоватым шрамом, улыбалось.
– Эх, не война нынче, братцы, а малина! – потирая руки, проговорил он. – Дайте табачку, у кого покрепше.
– Ну и глупец же ты, Опенька, – недовольно процедил связист Горлов, – кто только тебя такой фамилией окрестил? Ей-богу, умнейший был человек! Опёнок ты и есть опёнок.
– Ты отрывай, отрывай газетку, не жалей… А война, братцы, в такой денёк – малина!..
– То-то рожа у тебя в малиновом соку!..
– Рожа не рожа, а денёк погожий. В такой денёк да по Байкалу. Вода – зеркало, рыба – косяками, косяками…
Опенька считал себя моряком и гордился этим. Под исподней рубахой носил выцветшую тельняшку. И хотя она была старая, расползалась по швам, он старательно чинил её, но не бросал. Когда его спрашивали, почему он не во флоте, он шутливо отвечал, что сам захотел пойти в разведчики. Слыл он во взводе шутником, любил много говорить, зато в бою был смелым и, главное, смекалистым. Проползал ли под проволочными заграждениями, подстерегал ли языка на тропинке – только глаза сверкали из-под каски, все остальное в нем замирало. Шрам на лице у него был, как он сам в шутку говорил о себе, ещё довоенный. Как-то в бурю сломалась мачта, и зубчатый обломок шаркнул его по лицу. Опенька боялся, что останется без глаз, но они уцелели и были такими же зоркими, как и прежде, а лицо навечно перечеркнул синеватый хрусткий шрам.
– Тебе, Опенька, может, и малина, а людям горе, – назидательно проговорил Горлов. – Лютует немец по сёлам, а мы тут в оборону стали.
– Что лютует немец по сёлам, это верно, – согласился Опенька, – но мы-то что же делать должны теперь?
– Наступать.
– Эх, какой прыткий. Он один знает, что надо делать, а другие ни сном, ни духом не чуют; для чего же тогда полковники и генералы, а? Ты вот пойди-ка им скажи. Скажи, мол, так и так, у меня умная мысль завелась.
– С тобой разве поговоришь по-серьёзному. Ты все перевернёшь на шутку или подковырку.
– Хорошо, по-серьёзному, по большому счёту, – встрепенулся Опенька. – Ты говоришь – лютует немец, надо наступать, а кто пустил его в наши деревни? Не мы с тобой бежали, только пятки сверкали, к Волге, а?
– Я, я…
– Ну, ты, конечно, не бежал. Да и я не бежал, потому что только под Москвой и попал на фронт; я говорю вообще, в целом, если уж по-серьёзному, по-большому считать…
В это самое время и вошёл в блиндаж Ануприенко. Заметив командира батареи, Опенька вскочил и отчеканил:
– Обед прибыл, товарищ капитан!
– Хорошо. И капитану принёс?
– Так точно! – и Опенька снова щёлкнул каблуками. Это получилось у него смешно, не по-уставному, и разведчики, скрывая улыбки, перемигнулись между собой.
Опенька подал капитану котелок с супом и кашей и опять умостился на опрокинутом ведре.
– Что там новенького на огневой, сбрехни-ка, Опенька, – попросил кто-то из разведчиков.
– Сбрехнуть-то нынче не сбрехну, а правду скажу.
– Ну-ну?..
Опенька с опаской посмотрел на командира батареи – говорить или не говорить?
– Ну-ка, что там у вас на огневой? – поддержал Ануприенко.
– Баба у нас, братцы, на батарее объявилась.
– А может, девка?
– Шут её в корень знает, а так ничего, ладная. – Опенька обвёл сидящих довольным взглядом, определяя, как подействовала на них новость. Никто ему, конечно, не поверил.
Щербаков при одном только упоминании «баба» поднял котелок и отошёл в дальний угол блиндажа. На батарее знали, что он не любит женщин, называли его женоненавистником. Особенно часто по этому поводу подтрунивал над ним Опенька, но сейчас он лишь косо взглянул на Щербакова и продолжал:
– Пришла она на батарею после полудня. Выходит из кустов и прямо на меня. Ну, братцы, фея! Я так и обомлел. Смотрю и не верю. Не во сне ли, думаю, я это вижу? А во сне меня, братцы, бабы одолевают, скажу вам, просто спасу от них нет! И все разные. Каких где видел, все во сне ко мне льнут.
– А в жизни?
– А и в жизни, а что? Чем я плох, а?.. Ну вот, гляжу я на неё, а она в гимнастёрке и юбке такой, защитной. Во сне-то они все больше в рубашках, да-а… А эта? Нет, думаю, это настоящая. Спрашиваю: «Куда идёшь?» Молчит. Опять меня сомнение взяло – а вдруг все это во сне? Кричу: «Куда идёшь?» «К вам, – говорит, – на батарею. Мне, – говорит, – командира вашего надо». Пожалуйста, отвечаю, это можно. Проходите. Пошла она, а я сзади, значит, смотрю ей вслед. А юбка под коленками тилип-тилип… Ну, братцы, многое я видел в жизни, а таких ножек!.. Дух ажно захватило.
– Ты женат? – перебил Опеньку Горлов. Хотя он не любил шуток, но рассказ Опеньки заинтересовал и его, и он, повернувшись и продолжая ложкой загребать из котелка кашу, внимательно слушал разведчика.
– Десять лет, год в год. Жена, что?
– Ты давай про фею.
– Я и говорю: привожу её к лейтенанту Рубкину в землянку. Товарищ лейтенант, говорю, вот к вам… «В чем дело?» Я, значит, подталкиваю её, дескать, говори, а у неё нижняя губа прыг, прыг, и в глазах слезы. Припала к стенке, обхватила голову руками и ну реветь. Мы с лейтенантом и так, и эдак, и воды холодной, чтобы успокоить, а как же, но она ни в какую. Плачет, и все тут.
– Вот те фея!
– Ты слушай дальше. Побежал я за нашим Иваном Иванычем. Тот схватил сумку с бинтами и что есть духу в землянку. Возвращаемся, а навстречу нам какой-то старший лейтенант из пехоты. Без каски, глаза красные. Пьяный в дымину. Идёт – восьмёрки пишет, а в руках пистолет. Я тоже автомат вперёд. Долго ли пьяному, – бац и все, спрашивай потом, как Опеньку звали. Поравнялся старший лейтенант с нами и кричит: «Н-не в-видали з-здесь м-мою ж-жену?» Переглянулись мы с Иваном Иванычем и молчим. Со старшим лейтенантом ещё двое были – сержант и ефрейтор. Сержант отозвал меня в сторонку и потихоньку говорит: «Санитарка у нас из роты сбежала, дезертировала, так сказать, а нам на позиции надо выступать. Вот и разыскиваем. А это, говорит, наш командир роты. Да не бойтесь, пистолет у него разряжен, магазин мы вынули». Ладно, отвечаю, мы и так не боимся. Старший лейтенант все допытывается у Ивана Иваныча: «Где моя жена?» А Иван Иваныч: «Не знаю, у нас на батарее женщин нет». Тут и я вмешался: «Не знаем, говорю, не видали». Ну, он, значит, выругался, как полагается, и пошёл дальше, – расступись, кусты, поле мало!
– А фея?
– Фея на батарее. У лейтенанта в землянке отдыхает.
– Хорошо врал, Опенька, ловко, тебе бы в артель из воздуха верёвки вить!
– Не верите, шут с вами! – отмахнулся Опенька.
Разведчики вытирали котелки – воды поблизости не было, – кто клочком газеты, кто сухой травой, специально припасённой для этого, а кто просто, махнув рукой, привешивал его так, грязным, к поясу. И лишь Щербаков, не без гордости, у всех на виду, вытянул из кармана снежно-белый парашютик от немецкой осветительной ракеты и, словно посудным полотенцем, стал тщательно вытирать им ложку и котелок, приговаривая:
– Хороша штучка, вот и к делу пришлась…
Но, как и на Опеньку, на Щербакова тоже никто теперь не обращал внимания. Каждый был занят своим делом. Обед кончился, а с обедом прошли веселье и смех.
– Ты врал, Опенька, или правду говорил? – неожиданно спросил Ануприенко.
Разведчики насторожились: было интересно, что ответит Опенька.
– Не врал, товарищ капитан. На батарею точно какая-то санитарка пришла.
– И до сих пор там?
– Да.
Капитан крикнул связисту:
– Ну-ка, вызови мне Рубкина!
Связист почти тут же передал трубку капитану.
– Рубкин? Ты что там, женскую гвардию набираешь, а? Что? Санитаркой на батарею? Нет-нет, отправь её немедленно в свою часть. Что? Немедленно, понял! Ну вот, так бы давно.
Надвигался хмурый осенний вечер. В блиндаж сквозь дверь просачивалась сырость. Щербаков заправил фонарь, висевший под потолком, зажёг его, и стены озарились мутным жёлтым светом. Кто-то завесил вход клочком старого брезента, и в блиндаже сразу стало тепло и душно от крепкого табачного дыма. Курили почти все, кроме разведчика Щербакова, который морщился и кашлял, как простуженный. Но он молчал, потому что не хотел огорчать товарищей по батарее.
Ануприенко вышел подышать свежим воздухом. Но его почти тут же окликнул связист Горлов и сказал, что капитана вызывает к телефону командир полка.
Ануприенко торопливо вернулся в блиндаж и взял трубку.
– Третий у телефона!
– Снимай батарею и веди к Гнилому Ключу. На рассвете мы должны быть в Озёрном. Давай быстрей!
Село Озёрное находилось в сорока километрах от линии фронта, в тылу, и капитан сразу понял: «На отдых! Наконец-то!» Он посмотрел на серые в табачном дыму лица солдат, устало, но оживлённо беседовавших между собой, и ему захотелось сейчас обрадовать их. Но он сдержал себя – это была только догадка, и кто знает, что ещё будет впереди. Во всяком случае он не хотел напрасно волновать бойцов, чтобы потом, если догадка не подтвердится, если не на переформировку, а просто – пополнят батарею людьми и орудиями и снова направят в бой, – чтобы потом думы об отдыхе не тревожили уставших от войны солдат.
Вернув трубку связисту, капитан обычным спокойным голосом скомандовал:
– Отбой!
Он покинул блиндаж последним. Пошёл по склону к овражку, а навстречу ему уже тянули связь бойцы другой батареи.
4
Когда Опенька, помахивая ведром, возвращался на батарею, лейтенант Рубкин с озабоченным видом ходил из угла в угол своего тесного блиндажа и уговаривал девушку в армейской гимнастёрке – санитарку какой-то пехотной роты – вернуться в свою часть. Девушка ничего не отвечала, но и не уходила. Она стояла посреди землянки, невысокая, худенькая; новая каска, обтянутая маскировочной сеткой, по самые брови закрывала её лоб. К солдатским погонам спадали светлые пряди волос, а на груди, прямо на гимнастёрке, поверх воротничка, висела цепочка светлых бус. Откровенно говоря, Рубкину не хотелось прогонять санитарку, он бы с удовольствием оставил её на батарее, но капитан Ануприенко приказал отправить её в свою часть, и ослушаться капитана нельзя.
Лейтенант Рубкин разговаривал с санитаркой осторожно, боялся, что девушка снова расплачется – на лице её были заметны следы слез, и глаза казались красными и заплаканными; он думал, что война вовсе не для женщин, тем более не для таких нежных, как эта санитарка; она казалась ему совсем девочкой, школьницей: «Зачем только их берут в армию да ещё посылают на фронт?»
Рубкин сел на ящик из-под снарядов, вытянув вдоль стола костистую руку. Длинным зеленоватым, как мутное стекло, ногтем на мизинце постучал по жидкой плашке, пристально всматриваясь в лицо санитарки. «А в общем-то недурна…»
– Нет, не могу вас оставить на батарее. Вы причислены к роте, к совсем другому подразделению, и вас там будут искать. Посчитают за дезертира, сообщат об этом родным, а вас… – Рубкин немного помедлил, – вас будет судить трибунал!
Он явно преувеличивал, но, может быть, это подействует на санитарку и заставит её вернуться в роту. Однако девушка даже не взглянула на лейтенанта, а продолжала все также тупо смотреть себе под ноги. Тогда Рубкин решил действовать по-иному. Он подошёл к девушке и, взяв её за руку, сказал:
– Идёмте, я позову бойцов, они вас проводят.
Девушка неохотно пошла вслед за Рубкиным из блиндажа. Лейтенант окликнул проходившего мимо Опеньку:
– Проводи санитарку в роту.
– Есть проводить. А в какую роту?
– Она скажет.
Опенька поставил ведро на землю.
– Пошли.
Тропинка вилась вдоль опушки и сбегала в овражек. Темнело, становилось сыро и холодно. Девушка ёжилась – она была в одной гимнастёрке. Опенька шёл сзади. Его так и подмывало пошутить с девушкой, но он видел, что ей теперь не до веселья. Она втягивала голову в плечи, шла понуро, заворачивая руки от холода в подол гимнастёрки.
– Может, холодно, так возьми мою шинель, – Опенька снял с себя шинель и накинул её на плечи девушки.
Спустились в овражек. Девушка неожиданно села на пень и сказала:
– Дальше не пойду.
– Почему так?
– Не хочу.
Опенька оторопел: как это так «не хочу». Для него, солдата, это было совершенно непонятно. Он растерянно смотрел на санитарку и не мог ничего сказать. Будь перед ним мужчина, слова нашлись бы сами, но как тут быть? Он вспомнил, как ещё совсем недавно провожал, девушек с вечеринок – то были свои, из рыбацкого посёлка, понятные, а эта – в каске?.. Он ещё тогда заметил, что вечером девушки не любят сидеть на скамейке против своего крыльца. Подведёшь к дому, а она – раз на соседскую завалинку, и тебя тянет. Тут уж не теряйся. А возле своего дома – ни-ни, даже руку пожать не даст. И Нюрка его такой была, да и все, кого он только знал. Видно, у девушек закон такой, что ли. И эта не хочет в роту идти, пока не насидится на пне. Опенька посмотрел вокруг, подыскивая место, чтобы сесть рядом, но вокруг была только сырая земля да гнилые листья. Он попробовал примоститься на корточки – ноги с непривычки заныли, он встал и, уже начиная злиться, сказал:
– Долго ещё мы будем здесь сидеть? Где твоя рота?
– Не знаю.
Опять Опенька был поражён и удивлён ответом:
– Так куда же мы идём?
– Не знаю!
– А мать родную ты знаешь? Это тебе не за гармошкой ходить, а война! Давай шинель, мне некогда с тобой чикаться, хошь – иди, а не хошь – сиди, твоё дело. А нам надо немцев бить.
Девушка покорно сняла шинель и передала Опеньке. Тот взял её и быстро зашагал по тропинке вверх, но не сделал и десяти шагов, как остановился. Постоял немного, не оглядываясь, подумал и вернулся обратно.
– Может, обижают тебя в роте, а? – он склонился над девушкой.
– Да, – санитарка утвердительно кивнула головой.
– Кто? Это тот пьяный старший лейтенант, что приходил тебя искать? А ты не больно-то его… батальонному командиру скажи пару слов, он его мигом остепенит.
– Нет, нет, нет, – испуганно возразила она, словно командир батальона уже стоял здесь и все слышал. – Не надо! Я лучше совсем никуда не пойду. Буду сидеть здесь – и все.
На ночь бросить девушку одну в овражке Опенька не решился, потому что хоть на ней и солдатская гимнастёрка, а все же она женщина, и к тому же оружия при ней никакого нет. Что она будет делать? Опенька снова накинул ей на плечи свою шинель и предложил:
– Ладно, пойдём на батарею, побудешь до утра, а там видно будет.
Когда они вернулись на огневую, бойцы уже выкатывали орудия и передки из окопов и цепляли их за машины; в ночном полумраке слышались голоса команд, сновали тени, вспыхивали и гасли папиросные огоньки; батарея готовилась к походу, и машины с орудиями уже выстраивались в цепочку вдоль заросшей просёлочной дороги.
Рубкин стоял возле второй машины и разговаривал с командиром батареи. Опенька несмело подошёл к ним.
– Ты что так долго ходил? – спросил лейтенант и, заметив позади него санитарку, строго добавил: – А это что? Почему не отвёл?
– Их рота ушла, товарищ лейтенант! – солгал Опенька. – Разве ж её одну в лесу бросишь?
– Как ушла?
– А ушла и все.
– Санитарка все ещё здесь? – Ануприенко подошёл к девушке. – Вы почему в свою часть не идёте?
Девушка ничего не ответила.
– Из какой части? Где ваша рота?
К машине подошли бойцы и с любопытством стали прислушиваться к разговору.
– Где ваша рота? – капитан на секунду осветил лицо девушки ручным фонариком. Оно показалось знакомым. Ануприенко снова направил на неё луч фонарика и теперь, приглядевшись как следует, вдруг узнал девушку: это была Майя, его знакомая, которую он уже около трех с лишним лет не видел.
– Дите, ну что с ней делать? – насмешливо спросил Рубкин.
– Ладно, не бросать же её здесь, возьмём с собой, а там разберёмся. По машинам!
Батарея тронулась в путь.
Ехали лесом, по узкой просёлочной дороге. Подфарники бросали слабый свет на засыпанную листвой колею, шофёр поднял ветровое стекло, чтобы лучше различать дорогу, и все же машина шла рывкам», натыкаясь на кочки и корни. Но командир батареи не ощущал тряски, он думал о санитарке…
* * *
…Это было как раз в канун войны. Ануприенко только что посадил на поезд друга, уезжавшего в отпуск, и возвращался в свою часть пешком. Над полями занималось росистое утро. Ануприенко вышел на обочину, остановился и залюбовался восходом.
– Эй, служивый, садись, подвезём! Тр-р, тр-р, цыганская кровь, тебе бы все вскачь! Садись, служивый!
Ануприенко оглянулся и увидел на дороге бричку. Возле лошади, согнувшись так, что видна была только одна спина да вылинявшая фуражка, возился старик, подтягивая супонь. На бричке сидела круглолицая девушка и щёлкала семечки. Она с любопытством взглянула на Ануприенко зелёными насмешливыми глазами. А старик между тем не спеша ощупал гужи, туго ли натянуты, деловито похлопал ладонью по дуге и, направляясь к бричке, снова пробасил:
– Садись! Знавали и наши ноги солдатские дороги…
– Мне до пруда, а там вверх, к лесу, – сказал Ануприенко и показал рукой на восток, хотя там никакого леса не было видно: вокруг колыхались зреющие хлеба до самого зажжённого зарёй горизонта.
– Хошь до Луговиц, – старик начал вспушивать сено в бричке. – Ну-ка, подвинься, всю телегу заняла, – прикрикнул он на девушку.
– Ох уж! – возразила она и тут же поджала ноги.
Ануприенко сел рядом с девушкой, свесив ноги через борт. Старик щёлкнул вожжой по круглой спине лошади и прикрикнул на неё:
– Но-о, цыганская кровь, но-о, шальная!
Сытая рыжая кобыла лениво взмахнула хвостом, повернула голову, словно хотела убедиться, все ли сели в бричку, и медленно пошла вперёд.
– Но-о, прыть поднебесная! – не унимался старик, щёлкая вожжами.
– Да, прыткая у тебя, дед, лошадёнка, – сказал Ануприенко улыбаясь.
– Цыганская кровь, шут бы её подрал.
Девушка тихо засмеялась, уткнувшись в платок.
– Почему цыганская? Она же спит на ходу.
– Потому и цыганская, что спит. Цыгане – самый что ни на есть ленивый народ, – охотно пояснил дед.
– Весёлый! – поправил Ануприенко.
– На веселье они – как пчелы на мёд, это да… А как до работы коснись – моя изба с краю. Есть у нас в колхозе один цыган, Захар. Лодырь беспросветный. На этой кобыле воду возил, ни дать ни взять – пара!
– Чего он вам дался? Все, кому не лень, – Захар да Захар, Захар да Захар! – вспыхнула Майя.
– А чего ты за него не пошла, коли он хорош?
– Дедушка!
– Чего ж не пошла, говорю?
– Ну вас, езжайте сами! – девушка спрыгнула на дорогу и пошла по обочине вдоль колосившейся пшеницы.
– Бедовая, – покачал головой старик. – Так этот Захарка, слышь, третьеводни пришёл свататься… Вот чертяка! Ну, я его, конечно…
– Пужанул?
– Пужанул, хе-хе.. А девка – огонь! Внучка моя.
Девятый нынче окончила. А с Захаркой это я так, шуткую. Майка, хватит дурить, полезай в бричку! – позвал он девушку, но та продолжала идти молча. – Не хочет. Теперь ни в жизнь не сядет, такой характер. Ты не пушкарь? Я тожеть в гражданскую, наводчиком служил.
Словоохотливый старик начал рассказывать о том, как он стрелял по белогвардейцам под Царицыном, как. штурмовали Перекоп, какие были тогда пушки и как туго приходилось со снарядами; Ануприенко слушал его рассеянно, кивал головой и поглядывал на далеко отставшую Майю. Солнце било ей в лицо, она щурилась, прикрывая глаза ладонью. Светлые волосы её, пронизанные солнцем, казалось, горели; ситцевое, в горошек платье захлёстывалось на ветру. Она собирала по краю пшеницы полевые цветы. Ануприенко хотел спрыгнуть с брички и подождать девушку, но старик все говорил и говорил, время от времени похлопывая лейтенанта по плечу, как старого знакомого.
– Вот так оно и было, да-а…
«Цыганская кровь» плелась медленно, тихо поскрипывали колёса. Солнце уже на ладонь поднялось над горизонтом и заливало хлебное поле ярким светом. Ветерок шелестел колосьями, и волны, то темно-зеленые, то белесые, казалось, несли на своих гребнях пену.
У пруда Ануприенко слез с брички, поблагодарил старика и пошёл по тропинке к лесу, где размещалась выехавшая на лето в лагеря часть. Отойдя шагов двести, он оглянулся: Майя все так же шла далеко позади брички и в руках у неё теперь был собран целый букет полевых цветов.
Спустя несколько дней Ануприенко случилось быть в селе, и он остался там на вечер. Кинопередвижка в тот день не приезжала, в клубе танцы. Парень в картузе с выпущенным на лоб чубом, в расшитой петухами косоворотке во всю ширь растягивал синие меха баяна, играл громко, но плохо – без конца повторял один и тот же вальс «Над волнами» и «Подгорную». Девушки роптали, что нет такого-то Гришки, который первый баянист в округе, но все же шли танцевать, стуча каблуками о выщербленные половицы. Ануприенко постоял немного у окна, глядя на тускло горевшую большую лампу под потолком, и собрался было уходить, когда неожиданно увидел Майю. Она вошла с подругой, смеющаяся, в лёгком светлом платье с голубым шарфиком на плечах. К ней сразу же подошёл какой-то парень и стал навязчиво приглашать танцевать.
– Отстань, Васька! Сказала – не пойду, и не лезь! Она заметила Ануприенко и подошла к нему.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте! – ответил Ануприенко, удивляясь её смелости.
– Идёмте танцевать!..
Баян гремел «Над волнами». Парень с чубом старательно нажимал на басы, две девушки обмахивали его платочками. Ануприенко взял Майю за руку и легко повёл по кругу. Она смотрела ему прямо в лицо и улыбалась, трогая пальчиками на его плече новенькую хрустящую портупею. Когда танец окончился, она предложила постоять у раскрытого окна. Над притихшей улицей, над плетнями и избами стыла большая луна, и соломенная крыша ближнего дома, казалось, была залита свинцом. Пахло остывающей пылью и огородами.
– Вон где я живу, пятая крыша отсюда, – смеясь, проговорила Майя и тут же, нахмурив брови: – Вы до сих пор не сказали мне своего имени!
– Семён, – ответил Ануприенко, разглядывая Майино лицо, наполовину освещённое ламповым светом. Он, казалось, только теперь заметил, что нос у неё слегка вздёрнут и над правой бровью маленькая круглая родинка.
– Семён… Лейтенант Семён… А почему вы к нам редко ходите?
– Я вообще впервые пришёл сюда.
– Ну и что же, все равно, почему?
– А почему вы к нам совсем не приходите? – шутливо заметил Ануприенко.
– Куда?.. Вы там, за прудами?.. Пригласите, придём.
– К нам нельзя, у нас – служба.
– Не хотите пригласить?
– Отчего же, приходите…
– Вальс!..
После танцев Ануприенко проводил Майю домой.
– А я приду! – прощаясь, сказала она и убежала за калитку.
Прошла неделя, и Ануприенко почти забыл о встрече с Майей. Командование наметило провести в конце месяца манёвры, и на батарее тщательно готовились к ним – выезжали на тактические занятия, учебные стрельбы. По ночам часто объявлялись боевые тревоги. Словом, забот хватало, особенно для Ануприенко, который служил первый год после окончания училища и ни в чем не хотел уступать старым кадровым командирам.
Однажды, в свободный от дежурства вечер он лежал в своей палатке и читал при свече «Суворовские наставления». На батарее уже протрубили отбой, бойцы отдыхали после утомительного солдатского дня, было тихо, только слышались отдалённые шаги часовых да шелест листвы за брезентовой стенкой палатки. Неожиданно почти над самым ухом чей-то женский голос прошептал:
– Сема…
Ануприенко встрепенулся, тревожно посмотрел на дверь – там никого не было. «Может почудилось?..» – подумал он и принялся было читать, но где-то совсем рядом послышалось:
– Сема!..
На этот раз уже громче. Ануприенко повернулся на голос – из-под приподнятого угла палатки выглядывала голова девушки. Это была Майя. Ануприенко подбежал к ней и присел на корточки.
– Ты как сюда? Зачем?
– К вам. Помогите влезть!
– А часовые?
– Ваши часовые ничего не видели, не бойтесь. Я целый вечер сидела на дереве и следила – в какую палатку вы зайдёте, а потом ползком, сквозь кусты, и – вот!.. Я думала, вы не так меня встретите…
– Вам нельзя сюда, здесь… Эх, что вы наделали!..
– Вы же приглашали? Правда?
– Правда, правда!..
– Если нельзя, я сейчас уйду.
– Погодите, я провожу вас, – сказал Ануприенко и тут же подумал, как же он пойдёт провожать её? Мимо часовых?.. Они пропустят, но завтра вся батарея будет говорить, что в палатке у лейтенанта ночевала какая-то баба!.. Он озадаченно почесал затылок.
– Часовых боитесь? – спросила Майя, заметив нерешительность лейтенанта.
– Черт вас надоумил прийти сюда, эх!..
– Идёмте ползком, нас никто не увидит!..
Майя приподняла брезент и выползла из палатки. Ануприенко невольно последовал за ней. Они скатились в ровик, вырытый позади палатки для стока воды, и притихли. Было светло, круглый холодный диск луны висел как раз над центром полянки. Метрах в пятнадцати виднелся часовой. Он мерно прохаживался от ствола к стволу между двух берёзок, держа перед собой карабин. Ануприенко пристально всматривался, стараясь распознать, кто стоит на посту. Бойца он узнал по походке – это был наводчик второго орудия. Майя тоже наблюдала за часовым. Она заметила, что боец, вышагивая, все время смотрит себе под ноги.
– Не увидит, поползли!..
Не дожидаясь ответа, она рванулась вперёд и, извиваясь, как кошка, быстро поползла через полянку.. Ануприенко, словно кто его подтолкнул сзади, пополз за ней. Он не спускал глаз с часового. Когда боец шагал в их сторону, Майя и Ануприенко замирали, становились кочками. Но едва часовой поворачивался к ним спиной, она рывками двигалась вперёд, бесшумно, будто пряталась от сторожа, который охранял бахчи, а они ради озорства ползли за сочными арбузами. Ануприенко на минуту забыл, что он лейтенант – впереди шуршала травой Майя, а он, как мальчишка, полз за ней.
До первых кустиков оставалось ещё около пяти метров, когда часовой неожиданно остановился и стал пристально смотреть в их сторону. Ануприенко почти не дышал, неудобно подложенная под бок рука отекла и ныла, по спине, казалось, ползал какой-то жучок, и его страшно хотелось столкнуть. От гнилого и прелого запаха листьев щекотало в носу. Он почувствовал, что вот-вот чихнёт и обнаружит себя. Зажать нос, но двигать рукой нельзя. Тогда он плотнее прижался к земле и упёрся носом в какую-то корявую палочку. Майя тоже лежала не двигаясь, как мёртвая. Секунды казались часами. Но вот боец повернулся и снова зашагал между своих двух берёзок. Майя и Ануприенко сделали последний рывок и очутились в кустах. Не останавливаясь, проползли дальше, потом пошли, пригнувшись, осторожно раздвигая ветки, и вскоре вышли на тропинку, которая вела в село.
Майя облегчённо вздохнула:
– Ну вот, я говорила: не заметили!..
– Да-а, – протянул Ануприенко, отряхиваясь и поправляя гимнастёрку. Что он хотел сказать этим «да-а», Майя не поняла, да и не желала понимать. Она тоже отряхнулась и гордо пошла по тропинке.
– Не ходите за мной, дойду сама!
– Я провожу вас до села…
– Не ходите! – властно повторила Майя. В её зелёных насмешливых глазах был упрёк: «А ещё лейтенант?!.» Она ушла в село одна.
На батарею Ануприенко вернулся под утро. Луна ещё висела над горизонтом, по поляне тянулись длинные тени от деревьев. Лейтенант выполз из-за кустов. На посту стоял уже другой боец, но и он почему-то тоже ходил от ствола к стволу между тех же двух берёзок и смотрел себе под ноги. «Надо будет сменить пост, – подумал Ануприенко, – ставить их сюда, на полянку…»
В палатку он добрался благополучно, лёг в постель, но до самого утра не мог заснуть. Перед глазами все время стояла Майя, то весёлая, то грустная, то приглашающая танцевать, то упрекающая за плохую встречу. В это утро Ануприенко был угрюм и сер.
Это случилось в пятницу, а в воскресенье грянула война. В тот же день батарея спешно покинула лагеря. Моторы рвали сухой, настоенный запахами зреющих хлебов летний воздух. Ветер свистел в радиаторах, хлопал брезентовыми чехлами. За машинами вилась густая пыль, ветер откатывал её, словно валки сена, на обочину. Ночью погрузились в эшелон и выехали под Смоленск…
Война заставила забыть многое, забыть и девчонку из далёкой деревни. Ануприенко был ранен, лежал в госпитале и снова бился на Волге и под Орлом. Он уже стал капитаном и командовал батареей. И вот знакомое лицо – светлые волосы, насмешливые глаза и родинка, маленькая родинка над правой бровью. «Она! Майя!..»
* * *
Батарея выехала из леса и покатила по опушке. До Гнилого Ключа оставалось не более двух километров. Шофёр все так же осторожно вёл машину, потому что здесь было много пней и кочек, и он в полутьме боялся поломать рессоры. Ануприенко сидел молча, словно дремал; раскрытая планшетка подпрыгивала у него на коленях.
– Приехали, товарищ капитан! – сказал шофёр, нажимая на тормоза.
– Что? – капитан встряхнул головой. – Приехали?
Впереди, почти перед самым стеклом, виднелся зачехлённый ствол орудия. Кто-то бежал к машине и кричал:
– Гаси подфарники! Гаси подфарники!
Ануприенко подтянул ремень, одёрнул шинель и отправился в штаб докладывать. Батарея его прибыла последней, и начальник штаба был недоволен.
– Что ж это ты, а? Всегда был первым, а сегодня?..
– Дорога паршивая – пни да кочки, – начал было оправдываться Ануприенко, но начальник штаба перебил его.
– Ладно, дор-рога… Сейчас двинемся дальше, поедешь замыкающим. Конечный пункт – Озёрное.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?