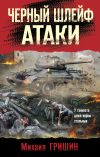Текст книги "Малый заслон"
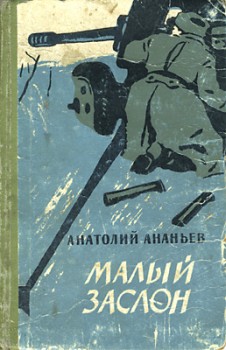
Автор книги: Анатолий Ананьев
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
5
Кто бы знал, как не хотелось Опеньке подниматься и заступать на пост в такую рань. В сарае стояла густая тьма. Разведчики спали, и разноголосый с посвистом храп распирал стены.
Старшина был неумолим: снова луч фонарика ударил в лицо Опеньке.
– Ты чего глаза портишь, не видишь! – возмутился Опенька. – Человек встаёт, так нет, надо обязательно в глаза ему огнём брызнуть. Хоть ты и старшина, а человека уважать надо. А если я ослепну? Ну, к примеру, ослеп я? Какой из меня тогда солдат?
– Не ослепнешь! Шевелись живее!
– И потом, зачем раньше времени человека тревожить? Может, я в самый раз сон хороший видел? А сон-таки я видел, это точно. Слышь, старшина, лежу будто я дома, сплю себе на здоровье, ни блох, ни комаров, и баба под боком. И чувствую я тепло её всем своим телом. Женское тепло, чуешь! Ну вот, лежу и сплю себе, и вдруг будто захолонуло в боку. Протягиваю руку – мать моя, бабы-то нет. Ушла. Тут меня словно кто кнутом жиганул – куда делась? Я прямо в подштанниках во двор, туда, сюда – нет нигде. Я к соседу, стучу… А в жизни у меня такой случай был. Подвыпил я однажды крепенько, пришёл домой и спьяну-то разбил крынку. Жена на меня, я на неё, ну, в общем, знаешь, как это бывает, разговор семейный. Малость пошумел и уснул. Поднялся чуть свет, глядь, а жены и след простыл. Туда, сюда, нет и все. А о том-то и не подумал, что её ещё с вечера соседи спрятали. От меня, конечно…
– Ты пойдёшь на пост или нет?
– Я-то готов, только вот сапоги не налазят, отощали за ночь. А может, ноги раздулись?..
– Чужие напяливаешь.
– С чего мне чужие брать, свои, с подковками. И подошвы спиртованные. Посвети-ка. Однако и впрямь чужие.
Старшина включил фонарик. Опенька подтянул сапоги к свету и стал разглядывать.
– Не мои. У меня с подковками. Ну-ка, посвети ещё. Вот они где, мои-то. Ну да, и портянки мои. Скажи на милость, кто их поставил к стенке, кому они, вороные, помешали?
– Дал бы я тебе сейчас пару нарядов вне очереди за твою болтовню, да настроение портить не хочется. – Зачем же так строго?
– Хорошо ещё, что ты не на передовой эти разговорчики затеял, а то бы узнал живо, какая строгость бывает.
– Я и говорю, в тылу, в каком-то, черт знает, в каком, селе, в сарае… А на передовой разве Опенька разувался когда? Нет уж, извини, чтобы меня фриц босым застал.
– Ну, быстрей, быстрей!
Подпоясавшись, Опенька перекинул через плечо противогазную сумку, взял автомат и каску и пошёл вслед за старшиной к двери.
– Так я про сон: приснится же такое…
– Ты, Опенька, кроме баб, что-нибудь во сне видишь или нет?
– Как? Конечно, вижу. Третьего дня кума мне приснилась, и так приснилась, скажу тебе…
– Болтун ты, тьфу. Смени Щербакова и стой до утра. Точка!
Опенька остался один среди ночи, среди непроглядной тьмы, плотно спеленавшей землю. Он прохаживался вдоль стенки сарая от угла до угла, проклиная ночь, немцев и старшину, который так некстати разбудил его и поставил на пост. «Злой человек этот старшина, вредный, – рассуждал Опенька. – На кой ляд мне торчать здесь? Мы в тылу, и немцы – бог знает где. От кого охранять? От своих? Себя от своих? Какой же это порядок! Приехал в тыл, значит, спи, отсыпайся вволю за прежний недосып. Да к тому же, здесь весь полк стоит, тут часовых, как грибов после хорошего дождя. Вот и пусть стоят, охраняют, а у нас бы можно и не тревожить людей. Был бы хороший старшина, взял бы да и сказал: „Спи, мол, брат Опенька, храпи в полную волю, сколько твоей душе угодно – про запас спи“. И спал бы Опенька, и храпел бы во все ноздри, да на куму любовался. Эх, шельма, и приснилась же!.. Он ходил и улыбался, занятый своими мыслями, а на востоке светлой полоской пробивался рассвет. Утро наступило быстро, сгоняя синие тени с опалённой, изрытой лопатами и снарядами земли. Даль распахивалась, и темень спадала, стекалась в воронки и выбоины, и перед Опенькой открывалась страшная картина разрушенного немцами большого белорусского села. Сначала он разглядел стену, вдоль которой ходил, – стена была так испещрена пулями и осколками, что, казалось, кто-то стремительно провёл по ней огромной когтистой лапой; затем увидел глубокую воронку посреди двора и сникший над ней расщеплённый хобот колодезного журавля; увидел плетень в крапиве, а за плетнём – сбегавшие по огороду к пруду неглубокие стрелковые окопчики. Они ещё не успели зарасти и ясно выделялись на фоне пожелтевшей, примятой солдатскими сапогами травы. Два ближних окопчика были раздавлены прошедшим через них танком. Опенька проследил взглядом, куда тянулся гусеничный след, и увидел танк. Наш танк – Т-34. Чёрный, с развороченной башней и размотанной ржавой гусеницей, он и теперь, смолкнувший навсегда, был страшен, – он нёс на себе нанизанные на ствол обломки чьей-то тесовой крыши…
Над чёрными, обугленными стропилами колхозной фермы поднялось солнце. Опенька разом окинул взглядом село: там, где ещё недавно стояли избы колхозников, парила прибитая дождём зола. Сиротливо, как надгробные плиты, возвышались над грудами остывших головешек обгорелые печные трубы. Ветерок сметал к ним мусор и жёлтые листья.
Опенька смотрел на грустную картину бессмысленных разрушений, машинально скручивал цигарку.
В сарае проснулись разведчики; один за одним они выходили во двор, потягиваясь и жмурясь от яркого солнца. Вскоре пришёл старшина и разрешил Опеньке идти отдыхать.
– Какой теперь отдых, – недовольно проворчал разведчик.
– Ложись и спи, глядишь, ещё какая-нибудь кума приснится.
– Э-э, – отмахнулся Опенька и направился к разведчикам, гревшимся у солнечной стенки сарая.
На батарее все уже знали, что полк отправляют на переформировку, и даже знали куда – в Новгород-Северский, и были довольны и веселы. Собравшись у стены, разведчики подшучивали над батарейным санитаром Иваном Ивановичем Силком, уговаривали его отнести сумку с красным крестом новой санитарке. Силок противился.
– Да вы что? Никаких приказаний не было. Кто сказал, что она у нас санитаркой будет?
Опенька сразу оживился, сощурил плутоватые глаза, соображая, что к чему, протиснулся в самый центр и, звонко хлопнув Силка по плечу, сказал:
– Это, друг мой, вопрос решённый!
– Ты что, старшина? Ты-то откуда знаешь?
– Поверь мне: точно говорю. Иди, не жди команды, это будет, знаешь, твоя инициатива! Она – баба, она разом ухватится за сумку. Ты учти такое дело: или тебя мужик перевязывает, или баба – большая разница. Скажем, к примеру, умираешь ты, а увидел бабу – жив! Так, брат, в тебе кровь заиграет, не хочешь, да будешь жить. То-то. А кому интересно на твою корявую рожу смотреть, когда осколком руку снесло и кровь хлещет? От одного твоего картофельного носа хоть в могилу полезай… Так что бери сумку и не трусь, пойдём вместе, если хочешь.
Силок покраснел, с тоской посмотрел на разведчиков. У него было рябое, изъеденное оспой лицо и мясистый, действительно, как картошка, нос, и это всегда удручало его.
– Пойми, – продолжал Опенька. – Вот ты ранен, допустим, и ранен тяжело.
– Отстаньте вы от человека, – вмешался угрюмый Щербаков.
– Не лезьъ под руку, не твоё дело. Так вот, Иван Иваныч, скажем, ты ранен, и осталось тебе жить, ну, пять минут. А я, значит, подбегаю к тебе с этой вот твоей сумкой, наклоняюсь…
– Да, только перед смертью на тебя и смотреть, – ехидно вставил Щербаков. – При жизни-то всю душу воротит.
– Так вот, Иван Иваныч, – не обращая внимания на Щербакова, продолжал Опенька. – Иди и отдай сумку, всей батареей на тебя молиться будем.
– Иди, чего тут, – поддержал разведчик Карпухин. – Дело говорит Опенька. Сдай сумку, а мы тебя в свой взвод заберём.
Разведчики зашумели:
– Возьмём!
– Возьмём, возьмём! Иди!
– Отдашь сумку – и все. Ну, скажешь пару слов.
– Может, стесняешься один, так пойдём вместе, – снова предложил Опенька и взял Силка под руку. – Проводим его, Карпухин?
– Проводим!
Разведчики почти насильно взяли под локти санитара, сунули ему в руки сумку и под общие одобрительные крики повели через двор к избе. Возле крыльца, в оставленном хозяевами корыте Майя стирала гимнастёрку.
– Не могу я, братцы, – твердил смущённый санитар, но все же шёл, держа перед собой сумку.
– Мужайся, мужайся, Иван Иваныч, подвиг совершаешь! – подбадривал Опенька.
– Крепись, – вторил Карпухин, стараясь казаться серьёзным.
Они подошли к Майе. Она стояла к ним спиной и продолжала стирать. Над корытом мелькали её оголённые локти, белая пена хлопьями падала на землю.
– Ну, – подтолкнул в бок Ивана Ивановича Опенька.
– Начинай, – прошептал Карпухин.
Санитар, как немой, делал знаки, что он не может, или, вернее, не знает, с чего начать.
Опенька кашлянул, и Майя быстро обернулась. Она удивлённо взглянула на солдат: «Трое?., С санитарной сумкой?» Опенька и Карпухин все ещё держали Ивана Ивановича под локти. Санитар смотрел на расплющенные носки своих кирзовых сапог и молчал. Вид у него был такой жалкий, словно он ранен или, по крайней мере, тяжело болен. Майя так и поняла: они пришли к ней за помощью.
– Что случилось? – спросила она и, стряхнув с рук пену, подошла к Ивану Ивановичу. – Что с вами?
– Болен он, – вместо Ивана Ивановича ответил Опенька.
– Что с ним?
– Вот, жалуется, – едва сдерживаясь от смеха, подтвердил Карпухин.
– На что? – девушка повернулась к нему.
– На что жалуешься, Иван Иваныч? – подтолкнул Карпухин санитара.
Тот продолжал смущённо смотреть себе под ноги. Майя перехватила его взгляд.
– С ногами что-нибудь?
Опенька и Карпухин переглянулись.
– Конечно, на ноги он и жалуется.
– Мозоль у него, прямо замучился парень.
– Снимите сапог, посмотрим. На какой ноге?
– На правой, Иван Иваныч? – спросил Опенька.
– На правой, точно на правой, я знаю.
Говорили все, кроме Ивана Ивановича, а он лишь смотрел на них непонимающими круглыми глазами и в знак согласия (что ему оставалось делать!) кивал головой.
Его усадили на землю и стали снимать сапог.
– Осторожней, осторожней, – приговаривал Опенька, словно действительно боялся, что Силку будет больно. Хоть кирзовый сапог с широким голенищем снимался легко, стаскивали его медленно, бережно поддерживая ногу. Так же осторожно, как повязку с раны, раскручивали портянку. Майя следила за движениями их рук, готовая сейчас же остановить разведчиков, если они начнут отдирать прилипшую к ране портянку.
– Где же мозоль? – удивлённо спросила Майя, и в глазах её мелькнуло подозрение: «Может, насмехаются?..» Она насторожилась.
– Не ту ногу разули, – быстро нашёлся Опенька. – Которая у тебя болит, Иван Иваныч, левая разве?
– Левая, – подтвердил санитар.
– Так чего же ты сразу-то… давай левую…
Сняли и второй сапог. Когда стали разворачивать портянку, санитар вскрикнул:
– Осторожней, ребята!
– Осторожней! – Майя присела на корточки и отстранила руки Опеньки. – Давайте, я сама.
На портянке виднелось мокрое красноватое пятно. Майя осторожно отняла прилипшую к ранке портянку, и все вдруг увидели, что на пятке действительно мозоль, раздавленная и уже превратившаяся в гнойную рану. Опенька подскочил от неожиданности и удивления:
– Ваня!
Смех разом прошёл.
– Как же это ты, Ваня? И молчал до сих пор?
Санитар ничего не ответил, только пожал плечами.
Майя принялась торопливо перевязывать ранку. Опенька и Карпухин растерянно смотрели на санитара. К ним подошёл старшина Ухватов.
– Что случилось?
Опенька встал.
– Мозоль у парня…
– Что?
– Мозоль.
Старшина нагнулся и, осмотрев ногу санитара, сказал:
– Ты что же до сих пор не научился портянки крутить?!
– В медсанбат бы его, – вступилась Майя. – Рана-то гнойная, может заражение быть.
– Ерунда, заживёт!
– А все же в медсанбат бы надо, – поддержал Майю Опенька.
Иван Иванович безразлично смотрел на них, ему было все равно – отправят ли его в медсанбат, или оставят на батарее – он на все готов.
– Ладно, – согласился старшина. – Но не в медсанбат, а на кухню, будешь картошку чистить. А ты, Опенька, вот что, предупреди всех разведчиков, чтобы не расходились. Сейчас из хозчасти придёт парикмахер, пострижёт вас, а потом – в баню все. Понял?
– Понял, товарищ старшина!
Ухватов пошёл через двор на огороды: там солдаты второго огневого взвода топили баню. Опенька и Карпухин привели Силка под навес, где сидели теперь разведчики. Санитар держал в руке сапог (сумку он по забывчивости оставил возле Майи), нога его была перевязана бинтами.
Разведчики дружно засмеялись, увидев в таком виде Ивана Ивановича, кто-то спросил:
– Это чем она тебя – сумкой или поленом?
– Мы вот шутили, а человек, можно сказать, и в самом деле подвиг совершил, – сказал Опенька, и голосом, и выражением лица давая понять, что говорит вполне серьёзно. – Оказывается, такую мозоль натёр на ноге, ай да ну, и молчал.
– А кто виноват?
– Кто бы ни был виноват, а человек молчал, терпел и с поля боя не ушёл. Ради нас же.
Карпухин, стоявший у входа под навес, неожиданно крикнул:
– Воздух!..
Разведчики смолкли, и в тишине отчётливо послышались звуки моторов. Карпухин вышел из-под навеса и стал смотреть в небо. Все с напряжением следили за ним и ждали, что он скажет.
– Наши.
Снова задвигались под навесом разведчики: кто-то принялся дописывать неоконченное письмо родным, кто-то просил химический карандаш, чтобы написать адрес на треугольнике; некоторые лежали молча, думая о своём самом сокровенном, чему, может быть, никогда не суждено свершиться; но большинство бойцов вели оживлённый разговор, вспоминая разные истории из боевой жизни, смешные и не смешные, остряки сыпали анекдоты – в общем, так или иначе, всем было весело, у всех было хорошее, приподнятое настроение. Трудности позади, а впереди – отдых, пусть двух-трехмесячный, но отдых. А что будет потом – бои, бои?.. Но это будет потом, и когда придёт – встретят, переживут, вынесут, и сейчас об этом «потом» никто не думал. Но оживлённо и весело было не только потому, что уходили на отдых – на батарее появилась женщина, и это событие вызвало разные толки среди бойцов. Никто ничего по-настоящему не знал, но догадок было много. Кто-то сказал, что она жена какого-то погибшего командира танковой роты, бывшего друга Ануприенко, и что у капитана будто бы даже есть её фотография с надписью. И ещё один вопрос волновал бойцов: останется ли она на батарее? Отвечали на него тоже по-разному. Щербаков хмурил брови, он был явно недоволен и считал, что женщина на батарее не к добру. Ничего хорошего от этого не будет.
Мало-помалу стали говорить вообще о женщинах, которых приходилось им встречать в жизни или о которых слышали когда-либо от других; женщины почти все оказывались плохими, даже учительница, о которой вспомнил Опенька, тоже была не из приятных, но зато жены – хорошие. У каждого – смирная, работящая, а главное, верная. Один только Щербаков ничего не говорил о своей, он хмурился, исподлобья поглядывая на товарищей.
– Остапа Бендера сюда бы, – сказал он угрюмо.
– Кого? – переспросил Опенька. – Какого Астапа?
– Остапа, говорю, рога заготавливать!
– Кого, кого? – допытывался Опенька. Он не читал ни «Двенадцати стульев», ни «Золотого телёнка».
– Ро-га! Вот что, понял?.. – Щербаков встал. – Все вы здесь – рогоносцы! Тьфу, а ещё о верности толкуете, – он безнадёжно махнул рукой и, не оглядываясь, пошёл через огород к бане.
– Не любит баб, – покачал головой Опенька.
– Может, братцы, у него того… осколком… вот он теперь и… – засмеялся Карпухин.
– Не болтай, – остановил его Опенька. – Не знаешь человека, может, у него обида какая на сердце.
– Что, бросила?
– Положим, что бросила. Все может быть.
– Фу, какая невидаль, мало ли их на белом свете!
– Мало ли, много ли, – заметил Горлов, – а одна всегда дороже всех. Вот со мной такой случай был. Привязалась ко мне одна девка. Работал я тогда кладовщиком на базе. Женат уж был, сынишке три года. А она, стерва, как змея, да красивая, так и вьётся вокруг меня. Останусь я после работы накладные приходовать, и она тут как тут, не уходит. То начнёт чулки подтягивать, чтобы эти свои коленки показать, то кофточка вроде расстегнётся у неё и этот самый чёрный лифчик видать, тьфу, пропасть.
– Так что ж она к тебе цеплялась, знала, что женат?
– Знала. Так вот, как-то остались мы вдвоём с ней на складе. Она, значит, подошла ко мне и вот эдак хвать за шею и прилипла губами к моим.
– Поцеловала?
– Да ещё как! Умела целовать, чертовка. Прямо всем ртом, чуть было губы мои не проглотила. А во мне так все и заходило… Поцеловала и говорит: «Жинка-то твоя, поди, так не может, а?..» Вот и возьми ты её, знает, за какое место укусить. Ежели бы я размяк в тот момент, все, запил бы, разошёлся с женой, бросил сына, ну и все. Вот так и мужик иной к бабе… а она уж и готова.
– Чем же ты с ней-то закончил?
– А ничем, прогнал – и весь разговор.
– Маху ты дал, старина, – заключил Опенька и, заметив вошедшего под навес ефрейтора Марича, крикнул: – А-а, Оська-брадобрей, ты ещё жив?.. А мы тебя ждём. Как ты сегодня, с одеколончиком аль опять к речке пошлёшь?..
6
Ефрейтор Иосиф Марич числился в хозроте полка, официально же служил ординарцем у заместителя командира полка по хозчасти майора Шкуратова и был полковым парикмахером. Марич выполнял свои обязанности с большим рвением – майор всегда ходил с чисто выскобленным подбородком. Стриг и брил Иосиф и командира полка. Но это доставляло ему много тревог и волнений. Нужно было пробираться на наблюдательный пункт, а там рвались снаряды и мины, иногда залетали и пули. Кто знает, может быть, у Марича все сложилось бы совсем по-другому и он был бы теперь неплохим солдатом, если бы сразу попал в огневой взвод (привычка – большое дело!), но он, как говорится, тыловик, в обозе и на последней подводе. Здесь иные правила, чем на передовой, иные боевые будни. Летят самолёты, будут ли бомбить, или нет – полезай в щель. Иосиф не разбирался, чьи это гудят самолёты, свои или чужие, сначала прыгал в щель, а потом уже смотрел на знаки различия на крыльях. Его друг, татарин Якуб, – тоже из хозроты – портной, подшучивал над ним, но в сущности и сам был таким же. Он тоже все жаловался, что его не отпускают на батарею, что и он мог бы стать неплохим наводчиком, а ему приходится даже здесь, на фронте, работать иглой, но за все время не написал ни одного рапорта с просьбой отправить его на огневую. В общем, в полку все хорошо знали Якуба и Иосифа – портного и парикмахера, и в шутку называли их «ветеранами». Когда полк отходил на отдых или случалась маленькая передышка, Иосифа немедленно посылали на батареи стричь бойцов. Получил он такое задание и сегодня. Майор Шкуратов утром сказал ему, чтобы брал чемоданчик и шёл на батареи и, как бы между прочим, добавил, что полк завтра своим ходом отправляется в Новгород-Северский на переформировку. Иосиф поспешил сообщить радостную весть Якубу, но тот уже от кого-то узнал и раздобыл по случаю полную фляжку водки (в хозроте её всегда можно найти). Они выпили по стопке, закусили свиной тушёнкой, и Иосиф, разогретый водкой, весёлый, посвистывая, отправился выполнять задание.
Чемоданчик, который он нёс в руках, был особый чемоданчик, с карманчиками и отделениями для бритв, расчёсок, машинок и прочего цирюльнического добра. Он был приспособлен специально для походной жизни – инструменты в нем укладывались плотно, закреплялись ремешками и клапанами, не тарахтели во время ходьбы, не ржавели и не портились. Заказал этот чемоданчик Иосиф на второй день войны старику столяру. Тот долго отказывался, но потом согласился и сделал добротно и на славу. Но в чемоданчике был один изъян, который доставил много неприятностей Маричу. Старик столяр, то ли по недоразумению, то ли в насмешку, выкрасил его в ярко-красный цвет. Иосиф поморщился (уж больно заметный), но перекрашивать было уже поздно, в кармане лежала повестка, и он, потому что больше ничего не оставалось делать, взял чемоданчик и отправился на призывной пункт.
Первым делом будущий полковой парикмахер постриг и побрил командира маршевой роты, потом применил своё искусство на других начальниках, и так, незаметно, словно само собой, попал в хозяйственную роту. Чемоданчик пришлось натирать песком, чтобы не блестела краска и не был он слишком заметён на фоне серой шинели.
На приветствие Опеньки Иосиф ответил шуткой:
– Готовь кресло, Морж Моржович, космы твои снимать будут!
– А ты почему это меня моржом называешь? – Опенька наклонил голову набок.
– По твоей физиономии вижу.
– Что же на ней написано?
– Написано, да ещё как! Мне только взглянуть на человека, сразу вижу, кто он – морж или не морж. А бывают ещё и особые моржи, – начал ефрейтор, раскрывая чемоданчик и приготавливая для стрижки и бритья инструменты. Он был навеселе, и ему хотелось говорить. – Я, друг мой, в своём наркомате всех наперечёт знал…
– О-о, ты, оказывается, в наркомате работал?
– Ну да, парикмахером. И заместителя наркома брил, и самого наркома. Те ничего, и компрессик им, и духами уж лучшими… А эти, что помельче, – все моржи. Подстрижёшь его, побреешь, только за одеколон: «Освежить вас?..» «Нет, нет, не переношу…» И начнёт всякое плести, и жену вспомнит, и друзей, самому-то неудобно, а на других все можно свалить. А нам, парикмахерам, только на одеколоне и заработок! Побрил – рубль, а побрызгал – гони три! Вот так. Но те моржи ещё полбеды. А вот у нас был один особый, это да. Статист какой-то. Или плановик-экономист. Тому, значит: «Вас освежить?» «Нет, нет, не надо, – говорит. – У вас есть вата? Оторвите, пожалуйста, клочок…» Отрываешь и думаешь, для чего это ему? А он достаёт из кармана «Кармен», побрызгает на ватку – и по лицу, по лицу… Потом положит флакончик обратно в карман, ватку выбросит и… «Благодарю, – говорит, – с меня рубль? Пожалуйста…»
– Скупой, подлец?
– В высшей степени!..
– Погоди, а меня-то ты за что моржом назвал, а? Я ж с одеколоном прошу?
– Тебя хоть и с одеколоном, все равно не заплатишь.
– Видали его!.. – засмеялся Опенька. – Может, и заплачу! Хошь патронами, хошь гранатами…
– Этого добра у меня самого хватит, – деловито ответил Иосиф. Он достал расчёску и ножницы и стал лихо вызванивать ими какую-то плясовую мелодию, словно упражнялся над головой клиента. – Кто первый, подходи!..
Бойцы между тем раздобыли где-то коротыш-чурбак, вкатили его под навес и установили вместо стула.
– Ты, Оська, артист, а не парикмахер, – продолжал Опенька. – Долго ты учился этим фокусам?.. – он намекал на игру ножницами.
– Хе, – ухмыльнулся Иосиф. – Четыре года бутылки брил!..
– Как бутылки?
– А так. Отдали меня в ученики старому греку. Был у нас такой знаменитый мастер в городе. Мать говорит мне: «Смотри, Иосиф, ты уж старайся, все делай, что заставят, мастер он хороший, научит…» «Ладно, – говорю, – буду стараться». Ну и старался: прихожу утром, уберу в парикмахерской, все инструменты перетру – блестят. «Молодец, – говорит мастер, – а теперь беги-ка принеси бутылочку…»
– Водочки, конечно?
– Нет, он все больше сельтерскую… Приношу, выпьет он и суёт мне: «На, упражняйся…» Беру бутылку, старую бритву достаю и пошёл ею по стеклу, а он: «Так держи, да эдак води…» Три года, три, понимаешь? И только на четвёртый позволил мне собственное колено побрить. Побрил я, а он и говорит: «Нет, рано тебе ещё в мастера, брей бутылки, пока волос на колене отрастёт, а потом ещё раз испытаем». И так раз десять испытывал, и только потом до людей допустил, да и то разрешил одних татар брить…
– Почему одних татар?
– А у них по три волосинки, для вида щеки мылишь, а брить-то нечего…
Кто-то из разведчиков крикнул:
– Довольно лясы точить, кресло готово!..
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?