Текст книги "Игра в игру"
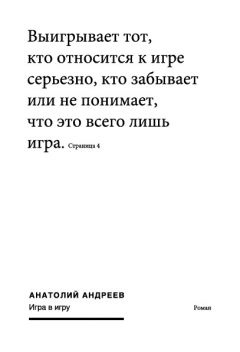
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава 18. Задние лапы
Окно моего кабинета упиралось в небо.
Я сегодня впервые ночевал в своем кабинете. Один.
А Маша? Маша осталась в спальне. Но, мне кажется, ей не было так одиноко.
Я проснулся летним утром, открыл глаза – и вдруг увидел, что край свежевыбеленного облака представляет собой выразительный профиль Пушкина, тот самый, знаменитый, набросанный его рукой. Белый гипс на синем фоне. Через мгновение профиль неуловимо трансформировался, черты размылись, Пушкин постарел и подряхлел; еще через миг он превратился в обрюзгшего дядьку. И вдруг облако скомкалось, линии стерлись, утратили узнаваемые очертания. Образовалось нечто бесформенное и бесподобное, я хочу сказать, исключающее уподобления. Просто сырье. Груда белой глины. Казалось, что белоснежное облако ослепительно улыбалось, играя с вами.
Но почему Пушкин, а не Гитлер, например?
С тех пор я ищу профили, прочерченные краями облаков. И не нахожу. А что, если бы я проснулся на минуту позже? Может, я стал свидетелем феномена чистой случайности? Или ничего случайного нет в мире?
Небо в формате окна. Грязные голуби. Тюрьма. А я и согласен на тюрьму, на резервацию. На изоляцию от общества. Я сижу, отбываю срок, а вы меня не трогаете. Так сказать, свобода по-вашему в обмен на свободу по-моему. Но!
Людям не нравится, когда ты отбываешь номер. Им надо, чтобы ты с энтузиазмом тянул бессмысленную лямку! Ты должен убедить их, что не считаешь тюрьму тюрьмой. Ведь их образ жизни вовсе не представляется им тюрьмой. Жить как все и при этом ощущать себя в тюрьме – это оскорбление добрым людям. Что же получается: все в тюрьме, только один ты это осознаешь, а все остальные в упор не замечают? Не замечают тюрьмы? Считают тюрьму свободой? Да ты нас за дураков держишь.
– Собственно, я никогда этого и скрывал.
– Нет, ты можешь думать, что хочешь, но при этом живи и радуйся. Нацепи улыбку. Форма одежды – парадная: сиреневая рубашечка и все такое.
– Слушаюсь. Разрешите идти?
– Свободен.
И все мои жизненные силы расходуются на то, чтобы убедить бдительное общественное мнение, что я не считаю тюрьму тюрьмой. В этом смысл и стратегия выживания.
Например (без примера вас не поймут, вся наука человечества строится на примерах и аналогиях). Я согласен вступить в брак, жить с женщиной по законам общества. Казалось бы, правильный ход мыслей. Как бы не так. Ты должен ежеминутно казаться счастливым: а это божественное состояние имитировать почти невозможно. Где цветы? Шампанское («Полусухое, полусухое, сколько можно повторять! А ты опять притащил полусладкую дрянь! Другого не было? Плохо искал!»)? Кофе в постель, со сливками? Поцелуй утренне-вечерний (страстный)? Где обязательный звонок на работу? Где сюрпризы? Импровизации? Задние лапы? Блеск в глазах?
Все это надо делать с блеском в глазах. Встал на задние лапы – и блести глазами, высолопив язык. Вот что значит устойчивый брак.
Возьмем работу – то же самое. Люди должны быть убеждены, что твои пьесы – откровения для самого себя. Бессонные ночи, творческие муки, кровавые трудовые мозоли. Ты должен убедить доверчивого зрителя, что обливаешься слезами вместе с Внучкой, глядя на угасающего Дедушку.
Эти заданные координаты не имели ко мне никакого отношения. Я чувствовал себя свободной птицей, которая немыслимым образом выстроила для себя невидимую никому клетку, состоящую всего из одной Стены. Это же бред. Это никак не согласуется с общепринятой идеей пространства.
Вот и я о том же. Странно это как-то все.
К чему я это говорю?
Вчера, после прогулки с Цицероном, я другими глазами посмотрел на Машу. Последнее время я ушел в себя и утратил блеск в глазах, не говоря уже о забытых фокусах на задних лапах. И что же?
Маша стала терять ко мне интерес. Ей-богу. Стоило мне перестать развлекать ее, удивлять каждый день, приносить в зубах розы и домашние тапочки, танцевать самбу на заднице – и блеск в ее глазах пропал. Я нарушил неписаную заповедь, главное обещание: я обещал быть лучшим средством борьбы со скукой, этой серой молью, незаметно поедающей самое дорогое. Я обещал стать этакой антимолью. И я обманул ожидания. Еще проще: обманул.
Все ее вялое поведение, обиженно поджатые губки (гримаска шепчет: «Еще вчера это смотрелось очень трогательно, кто-то мне все ушки об этом прожужжал… Побегушки…») – все, все свидетельствовало: я же знаю, как ты умеешь развлекать. Ты просто не хочешь. Не считаешь нужным тратить на это силы. Значит, я тебе надоела, да-а?
С тобой становится скучно, милый. Пока еще я терплю. Я даже не обижена. Кажется. Но ты все глубже уходишь в себя. А я не для этого выходила замуж. Зачем мне нужна вещь в себе? Какие у тебя могут быть проблемы рядом со мной? Никаких. Платон, например, в моем присутствии сразу теряет голову и забывает обо всем. Даже о том, что изменил мне и женился на другой. Сейчас страдает, скотина небритая.
Раньше, еще месяц тому назад, такой воображаемый мною монолог моей жены мог привести меня в ярость. Я бы непременно возразил: «А ты не можешь просто спросить: что тебя беспокоит, милый? Ты способна хоть раз в жизни поставить мои интересы вровень со своими? В конце концов, я больше похож на труп, чем ты на мать Терезу. Это же патологический эгоизм – ежедневно делать из меня клоуна». А теперь – вот оно то, чего я действительно опасался! – душу мою сковало бледное ледяное равнодушие. (Тут мне вспоминается поездка на Северный полюс. Мне, видите ли, пришла охота посетить оба полюса Земли, так сказать, осмотреть Геркулесовы столпы. Columnae Herculis. С целью получить невероятные ощущения: рассмотреть Землю с разных концов. И вот я в пределах Арктики. Огромные пласты зелено-розовых разводов колыхались, шевелились перед моим взором. Казалось, небо живет, дышит и надвигается на вас (я ощутил, что испытал Геракл, побывавший в шкуре титана Атласа!). Северное сияние: впечатления запредельные! А всего-то – игра света, как объяснил мне местный спившийся астроном, добродушный вечно небритый гигант Ипполит, у которого была собачка Муму. Как только я понял принципы этой игры, сразу же потерял к «живому небу» интерес. Душа моя ibi deficit orbis (на краю света) стала замерзать. На Южный полюс меня уже не тянуло. Там так же холодно, как и на Северном.)
Маша стала одной из всех. Ей не было дела до моего ребенка. Это, видите ли, ее не касалось. Даже если бы я выложил все без утайки, вряд ли бы это ее затронуло, задело за живое; разве что дало бы «роковой» повод. Она не прочь была бы получить предлог, доказательство какой-нибудь моей вины. И меня бесило, что я не могу ее разочаровать: ведь я действительно был виноват. Я, а не она. А если бы не было ребенка, что тогда? В конце концов, ведь это случайность. Тогда бы, наверное, у меня все еще сохранился блеск в глазах, который передавался бы и ей. Мы были бы счастливы.
А так ребенок Елены все испортил. Неужели основа счастья – голый эгоизм? Неужели Маша пошла за мной только потому, что ей со мной интересно? Не я интересен ей, а ей интересно со мной. К тому же моя сумасшедшая влюбленность. Я сам ее пленил, я был очарователен, а теперь не знаю, что с ней делать. Оказался в плену у плененной. Как только стало выясняться, что я живой человек, что у меня могут быть дети – прощай любовь.
Еще ведь ничего не случилось, а уже что-то умерло.
– Я поеду к любимой тете в Санкт-Петербург, – сказала Маша гордым тоном, готовым отбить мое любое возражение.
– Конечно, – оскорбительно быстро смирился я.
И облегченно вздохнул, презирая себя за это.
Когда-то Маша казалась мне мечтой, с которой я разминулся во времени.
Потом я растерянно держал мечту в руках.
Теперь она стала моей желанной катастрофой.
Стена стала представляться мне мостом над пропастью, разъединяющей мужчину и женщину. Пропасть разъединяет, мост – соединяет. Но по этому мосту движение возможно в одну сторону: от мужчины – к женщине. Женское зрение устроено таким образом, что оно не видит мост. Женщина не замечает Стену в упор. Зато она видит соринки в глазу мужчины. Много соринок в чужом глазу на той стороне пропасти. Это же чудо!
На протяжении всей моей жизни внутри меня тикало странное чувство (тревожно отсчитывая время вспышками маячков, напоминающими таймер мины замедленного действия): тебя, капля за каплей, заполняет великое ничто. Пустота. Все события и факты, окружающие меня, переплавлялись в пустоту. И жизнь становилась веселой и забавной аранжировкой Пустоты. Игрой. Высокой забавой.
Но при мысли о смерти (а это уже завоевание недавнего времени) стали наворачиваться слезы (есть, есть в плаче некоторое наслаждение! Согласен. Est quaedam flere voluptas. Привет тебе, мужественный бородавочник!). Ничто, которое так жалко терять, перестает быть совсем уж «ничто». А все потому, что завелся в моей жизни червячок поэзии. Как не сказать спасибо Машке?
Странное содержание вползло в мою жизнь. А если бы я не дожил до 47? Так бы и умер с пустотой в душе. Было бы обидно. Я с подозрением и сожалением стал смотреть на 30 и даже 40-летних. Что они знают о жизни? Ничего. Что ими движет? Ничто. Долгая жизнь – это длинная дорога к пессимизму.
Эй, те, кому до сорока семи, хотите, я устрою вам мастер-класс? Бесплатно. А?
Темы (на выбор): «Искусство и пустота», «Пропасти и мосты», «Свобода и задние лапы».
Подумайте.
Глава 19. Орудие Судьбы, или Прищемила пальчик
Согласно законам жанра, для трагических событий нужна тщательно проработанная мотивировка. Без воли объективных обстоятельств (за которыми просматривается произвол автора) даже волос не должен упасть с головы персонажа. Смерть моей жены Электры, признаю, смотрелась случайностью. Она не вытекала со всей очевидностью из законов жизни. Но это претензии не ко мне, а к жизни. К сожалению, я ничего не выдумал. На это не хватит никакого воображения. Пусть произведение отражает жизнь: здесь я, Геракл, согласен с Аристотелем.
Но за жизнь иногда хочется извиниться. Она сама не знает, чего хочет. Ей в буквальном смысле закон не писан. Снаряд не должен попадать в одну и ту же воронку дважды – а в жизни попадает. Должно везти дуракам, но иногда везет и умным. Никакой логики. Порой складывается впечатление, что жизнь, Ваше Сиятельство, презирает Ваши, гм-гм, усилия.
Приношу свои извинения, читатель, но случилось то, что случилось.
Маша прибывала вечерним поездом, и я поехал ее встречать. Выехал я заранее, чтобы прогуляться в подлунном мире, затесаться в толпу – побыть наедине с собой.
На небе вновь царил молодой месяц. Заточенные, бритвенно острые края полумесяца делали его похожим на замысловатый инструмент, которым удобно вскрывать вены. Желтое лезвие вмиг обагрится алой кровью, которая заляпает синий полумрак…
Впрочем, алое на синем: смотрится ли?
Поезд прибыл вовремя. Из вагона вышла Маша, злая, как пиранья. У нее был забинтован большой пальчик правой руки. Оказывается, ей попался нерасторопный попутчик («Куда подевались мужчины? Одни уроды кругом!» «Мужчина – это тот, кто сверху…» – некстати встрял я и был в мгновение ока испепелен пучком излучения, полыхнувшего из жерла сузившегося зрачка), который не мог сообразить, как справиться со средней полкой в купе (изысканная старинная конструкция предполагала именно три полки в купе: нижнюю, среднюю и верхнюю). Пришлось даме самой ворочать полку, клацая цепями и фиксаторами. И вот – прищемила себе палец! Да как! Просто пробила его насквозь!
– Как тетушка? Была рада обожаемой племяннице?
– Отстань! У меня палец болит.
– Завтра поедем к врачу.
Врач внимательно осмотрел рану, в соседнем кабинете медсестра сделала необходимые процедуры, и пальчик был укутан в белоснежный бинт (первая ассоциация – пухлая варежка Снегурочки). Ситуация выглядела вполне штатной. Была задета кость, и это беспокоило врача, но в принципе все было под контролем. Мы должны были каждый день сдавать анализы. «Все будет хорошо». Тон Гиппократа уверенный и страстный. (Я давно заметил: страсть лечить людей – это особого рода болезнь.)
Через несколько дней Маша запылала адски устойчивой и несбиваемой температурой. Антибиотики уже не помогали. Началось заражение крови. Пришлось отнять палец. Потом руку.
И вот так нелепо всего через две недели Маши уже не стало. Я опомниться не успел. В голове, где болезненные фантазии невозможно было отделить от трезвой аналитики, тупым клином засело: «Медея – ведьма. Откуда она могла знать о пальце и о руке? Здесь что-то нечисто. Сразу же после моего знакомства с нею погибла Электра. Медея – ведьма…»
Я вас предупреждал: за недостатком воображения надо обращаться к романтикам или постмодернистам. Там по этой части совсем убого. А у меня тут иное что-то вмешивается. Ну, скажите на милость, неужели я, Геракл Перелетов, не смог бы пристроить Машеньку? Тысячи вариантов к нашим услугам.
Самое простое: я бы, например, подлечил ей пальчик, аккуратно с ней развелся, для ее блага развел бы Платона, случайно женившегося, – и наметил бы некую серийную перспективу. И совесть моя была бы чиста.
Или: я мог вполне соскучиться по Маше. И не надо было отдавать ее в грязноватые лапы Платона. Чем не вариант? Я бы пострадал, пострадал – и у нас что-нибудь бы склеилось. Ведь жил же я со своей Электрой больше двадцати лет.
В конце концов, Маша могла приехать из Санкт-Петербурга беременной! От меня.
А может, и не от меня. Тоже коллизия, да еще какая!
Лично я жалею, что сюжет не повернул в эту сторону. Какое кипение страстей, какое жизнеутверждение! Всех жалко, всем плохо – и все живут смертям на зло. Вот она, золотая жила цивилизации.
Я же избрал…
Я ничего не избирал. Так получилось. И если кому-то покажется, что смерть Маши решила все мои проблемы, он сильно заблуждается. Ни возможный ребенок от Маши, ни ее смерть не способны были решить моих проблем или поменять мое мировоззрение. Просто в одном случае вокруг меня бурлила бы жизнь, а в другом меня последовательно оставляли одиноким. Я уже узнал знакомый почерк и эту подлую великодержавную манеру: гордиев узел разрубила Судьба, хотя я не просил ее об этом. И в утешение тебе даже не дали возможности почувствовать себя виноватым. Вина греет, вину хочется искупать, вина толкает тебя к людям. Я же не испытывал никаких угрызений совести: впечатление, что ты виноват, уступило место бесстрастному впечатлению: я был орудием Судьбы. Все было хорошо.
У меня уже не было сил сражаться. С чем, собственно, сражаться? С кем? Где враги?
Бесстрастное лицо Маши на смертном одре не выражало ничего. Такой она и ушла от меня.
Еще недавно я был, к сожалению, безумно, безнадежно счастлив. Что такое безнадега? Это когда воплощение мечты делает тебя только более несчастным. Моему счастью мешало единственное непредвиденное обстоятельство: еще одно, постороннее, неучтенное счастье. Электра, Елена, Маша…
Каждая последующая волна счастья нарушала гармонию, перебивала вкус и аромат абсолютного состояния. Да мир, был далек от совершенства. Я корчился от счастья.
Теперь мир был далек от совершенства по другой причине. Все мои переживания, желания, хотения, все то, что составляет душевный скарб, богатство души – все это было вмиг отобрано, уничтожено. И что же я, остался нищим духом?
Никак нет. Я остался при своих. Моя Стена стояла незыблемо.
Но нельзя жить со Стеной в обнимку.
Вот почему, думая о врагах человека, я с улыбкой твердил: «Брысь, зараза Судьба!»
Глава 20. Последнее слово
Прошло время. На небе вновь бесшумно появился бледный ноготок месяца: добрый мир на всякий случай показывал свои коготки, не давая забывать о хищной природе всего небесного.
Кабинет. Вечер.
Почему я не стал, да и не мог стать успешным писателем?
Да потому что героем моих книг не мог быть обычный, так называемый, простой человек. Как вы, да я, да целый свет. Такой человек вообще не может быть героем романа: это просто оскорбление культуре. Героем романа может быть человек, который не интересен толпе. Обязательно писатель и философ. Личность. Но это не герой в вашем понимании. Ваш герой перебинтовал бы палец подруге, и они отправились бы в роддом любоваться на зародыш мальчика. Это перевернуло бы их мировоззрение.
Вот почему я вынужден был предложить вам мою любимую игру: я, философ, буду рядиться в одного из вас, дураков. Буду икринкой в океане. Все живут, не понимая, что играют, а я играю, понимая, что живу. Попробуйте отличить.
Как важно при этом хорошо выглядеть!
И я принимаю соответствующий вид. Какие нынче носят башмаки? Ах, уже с тонкими загнутыми носами? Что вы говорите. Подумать только, еще вчера в моде были носы тупые и широкие. Как быстро меняется мир. Нет, пожалуй, тонкие и загнутые – это слишком большая плата за то, чтобы меня приняли за своего. Слишком вопиющая безвкусица. В них я похож на отставного визиря при дворе падишаха. Нельзя ли чего-нибудь потрадиционнее, в стиле «классик», то есть «вечно вчерашний», потому как пришедший из будущего? Просто по форме ноги, удобно и естественно. Наподобие греческих сандалий. Нельзя категорически? Понимаю. Сейчас модно быть стильным. Стиль безжалостен. Мода бесчеловечна. Ничего не попишешь: так поступают все, ориентированные на социальный успех. Плюралистическая цивилизация решительно не оставляет выбора. Хорошо. Носы моих туфель будут почему-то длинными (прости Господи). И немного загнутыми, совсем чуть-чуть.
Что у нас носят из галстуков? Толстые и розовые одновременно. Балык под сытым подбородком. Но это же безобразно. А нельзя ли…? Нельзя. Понял. Дайте мне вон тот, желтенький. Раньше мы их называли канареечными. Смешно, правда? Он не желтый? А как это сейчас называется? Тропик-лимон? Боже мой, мир меняется на глазах. Хочу лимон.
Не всякая, далеко не всякая рубашка подойдет под лимон с задранными носами. Иду в бутик. Сиреневая рубашка под лимон? Вы шутите, мадмуазель. И что же я слышу в ответ, с носовым прононсом, с легкой грассирующей запинкой: «Мсье из провинции?»
Да, я из пrrговинции, чертова кукла. Почему вам всем надо непременно сделать из меня клоуна? Идите вы все со своим узким и одновременно желтым в такую дыру, которая называется…
Она называется столица цивилизации.
Вот тут я вышел из роли: слишком серьезно отнесся к игре. А с кем, собственно, играл?
С собой, не с этой же дурехой с наклеенными ресницами (сейчас хорошие девочки носят пухлые силиконовые губы, а также наклеенные глаза, чтобы изображать удивление: вау, вау! Удивляться по-человечески разучились!). Сначала я хотел возразить ей: на Западе, в центре обожаемой вами цивилизации, где придумали наклеенные ресницы, в Лондоне, одеваются небрежно. Демократично. Но прежде я возразил себе (и реплика моя, любезно адресованная дурехе, пропала втуне): «Небрежность в одежде – это не демократизм, это лень заниматься культурой во всем ее проявлении, это плевок в сторону духовности. Одеваться стильно – еще больший плевок». На каждом шагу – враги культуры. Вы все, одетые или раздетые, стоите друг друга.
Игра под названием «Один в поле воин» близилась к финалу.
Вот и роман получился с самим собой – именно об этой игре.
Самое интересное заключалось в том, что необычный герой романа, оказавшись в той ситуации, в которой он оказался, должен был поступить как самый обычный человек: он должен был пойти к Елене. Просто потому, что больше идти было некуда.
Я и пошел.
Но Елена исчезла (мне даже лень из этого делать интригу): вышла замуж и уехала. Далеко. Очень далеко. За границу. Так сказала ее мама. Голос у моей возможной тещи был вовсе не убитым. А это самый верный показатель: мама не врет. Еще бы! Выдать замуж беременную дочь. Да так удачненько. Мои поздравления, мэм.
– Она не оставила для меня письма?
(По телефону я слегка изменил свой голос. На всякий случай.)
– А вы кто, простите?
– Перелетов. Гм-гм.
– А имя?
– Неважно.
– Для вас писем нет. Моя дочь очень спокойно и достойно попрощалась со своим прошлым.
Что маман имела в виду – загадка.
Это уж совсем нелепо. А-у! Бросить меня одного. В пустыне. Обрубить все сюжетные линии. Персонажи разбежались. Даже Судьбы что-то не видно. Может, спряталась за декорациями? Ну, блин, судьи…
Ладно. Воля ваша. Но вы не имеете права лишить меня последнего слова.
Впрочем, кажется, я его уже сказал. Оно растворено в романе.
Осталось кое-что из лирики. Я хочу поделиться этим непременно. Сердце мое на миг приоткрылось и стало вмещать…
Телефонная трель. Звонил Цицерон. Поговорили о том, о сем. Недолго, минут пять. Лирическое настроение пропало.
Возвращаясь с прогулки, я обнаружил в почтовом ящике письмо от Елены, в котором самым информативным было начало: «Я тебя по-прежнему люблю. Совсем недавно узнала, что случилось несчастье с Машей. Соболезную. Но все произошло слишком поздно. Я вышла замуж за испанского кинорежиссера. Учу испанский. У нас будет мальчик. Не хочу тебе мешать…» И т. д.
Забавно: если бы «несчастье с Машей» произошло немного пораньше, я вполне мог быть счастлив в третий раз. Почерк фортуны я теперь способен был узнать за версту. Она не баловала разнообразием. Письмо Елены было одновременно и посланием Судьбы. Теперь Елена выступала орудием Судьбы. Забавно.
Мальчик… Здесь бы его назвали Изяслав. Или Фрол. Там, возможно, он станет Кристианом. Или Мигелем. Сейчас модно вспоминать прошлое. Не потому ли, что оно представляется нам светлым будущим?
Девочке повезло бы еще меньше: Евфросинья, Устинья, Юдифь…
Люди, живущие бессознательной жизнью, находят смысл в том, чтобы посвящать себя детям, внукам, еще чему-нибудь жизненно важному. Кошкам и собакам, например. А также прошлому (с их точки зрения – вечному). Люди эти – в природном цикле, в коконе, внутри. В цветнике. Те же, кто сумели что-либо понять в жизни и, следовательно, возвыситься над нею, выбраться из кокона, – те обретают иное измерение и отрываются от простых людей. Я, понимая, не перестаю жить бессознательной жизнью (иначе откуда грусть?); живущие только бессознательной жизнью никогда меня не поймут.
Вот он, пункт, разделяющий людей! Пропасть. Я и они. (Кажется, об этом я уже говорил; значит, мне больше действительно нечего сказать.)
Самый великий режиссер – Судьба.
Весь мир – театр.
А люди в нем – лицедеи, вынужденные делать вид, что им неизвестен неотвратимый финал спектакля.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































