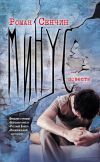Читать книгу "Минус 273 градуса по Цельсию. Роман"
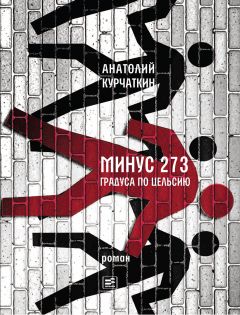
Автор книги: Анатолий Курчаткин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Ты что поперед батьки в пекло? – нарушил К. их с привередой молчание.
Следовало перебросить мост над случившимся, соединить расступившиеся берега, и слегка потрепанное жизнью заслуженное присловье с его испытанной временем философией готовно скакнуло на язык.
– Кто это мне тут батька? – отозвалась привереда, без промедления ступая на мост и бросаясь навстречу К. – Вот уж оставь!
Длить свое пребывание в этом кондитерско-кофейном заведении Косихина дальше было невозможно – пусть компания конопеня и убралась в другой конец зала.
– Пойдем? – предложил К., ничего не объясняя.
– Пойдем! – тотчас ответила привереда вставая.
Недопитый кофе, недоеденное мороженое. К. достал из кошелька купюру, достаточную, чтобы покрыть стоимость заказа, подсунул под креманницу привереды, чтобы не снесло движением воздуха от распахнувшейся двери…
В спину им, когда дверь забубенчила колокольцами, распечатав улицу, полную звуками проходящей там репетиции торжества, ударил, догнав, голос конопеня: «Бежать от него! Опрометью! Мой совет!»
Дверь закрылась, отрезав продолжавшие звучать колокольцы и голос конопеня. К. с привередой оказались отданы улице без остатка. Медноголосых тарелок, пронизывающих воздух уколами тонкожалящей рапиры, слышно не было, зато барабанная дробь лилась нескончаемой камнепадной волной: тра-та-та-та, тра-та-та-та, гудел воздух. Колонны мальчиков и девочек – черный низ, белый верх, классический торжественный вид – маршировали по площади с притиснутой к груди, к тому месту, где сердце, сжатой в кулак рукой. Достигали условной точки – руки взметывались вверх, словно в некой клятве, и колонны шли дальше, минуя место, где, надо полагать, через неделю должно будет возвышаться трибуне с главой города, со вскинутым кулаком. Стоявший там, где в будущем полагалось находиться трибуне, человек с мегафоном вещал, перекрывая несмолкаемую барабанную волну: «Стерильности – да! – пауза – и следующий слоган: – Стерильность – это круто! – Новая пауза – и, прорывая луженой металлической глоткой барабанную дробь, мегафон объявлял: – Враг стерильности – мой враг! – И еще, немного погодя: – Стерильность – смысл и цель жизни! – И еще: – Стерильность – будущее планеты!»
– Каникулы ведь в школе уже, – пробормотал К. – Умудриться нагнать такую тьму…
Он не обращался к привереде, он сказал это самому себе, но она сочла необходимым ответить.
– Не нагнать, а собрать, – поправила его привереда. – Так положено говорить. Не отрывайся от народа.
Любимое ее нравоучительное замечание, когда она полагала, что его уж слишком заносит. Чаще всего произносимое тоном шутки. Но не сейчас. Сейчас это было произнесено всерьез. Пожалуй, даже более чем всерьез.
Ноги той порой снесли их со ступеней крыльца на тротуар.
– Ты слышала, что тебе этот тип посоветовал? – останавливаясь, спросил К.
– Это конопатый-то? В спину нам? Бежать опрометью? – уточнила привереда. – Не слышала, – сказала она в противоречие с собственным утверждением. – Мало ли что мне какой-то тип посоветует. Которого я и знать не знаю.
– Как не знаешь? – удивился К. – Я понял, вы как раз знакомы.
– Знакомы, но не знаю, – с невозмутимостью законченной софистки отозвалась привереда. – Это он у нас в мэрии к тому, за железной дверью, заходит. Видела его.
– Вот как! – К. почувствовал облегчение. Все же эта недоуменная мысль, откуда привереда знает конопеня, не оставляла его, тяготила, мешала – как камешек, попавший в ботинок; можно поджать пальцы, приноровиться к нему, но все равно ступню натирает, неприятно, болезненно, и не вынуть в конце концов – раздерет кожу до мяса. – Что ж, раз не слышала… – Вынутый камешек был осмотрен, отброшен в сторону. – У нас вроде кое-какие планы были?
– А почему ты спрашиваешь? – Та, электризующая все вокруг себя игрунья стремительным пушистым зверьком выпрыгнула из своей норки наружу и, сыпля фейерверком жарких огненных брызг, закружила вокруг К. – Ты что, не уверен в наших планах? Хотел бы отменить? Это еще почему?
– Я? Отменить? – К. было повелся на ее уловку.
– Тогда в чем дело? Почему мы еще здесь? Ничто не должно помешать нашим планам.
Конопень с его известием из смартфона, новая скрутка-малява, доставленная привередой, скрутка-малява, поступившая через друга-цирюльника, – все сбежалось в точку, уменьшилось до величины игольного жала, сделалось незначительным, не стоящим внимания, призрачным.
– Ничто не должно помешать нашим планам, – подтвердил К., слово в слово повторив пожелание привереды. – Ни звука больше об этих гадостях. Нет этого ничего. Фантомы. Галлюцинации. Только мы с тобой двое – и больше никого. Никого и ничего. – Он достал из кармана свой телефон и отключил его. – Все. Мира нет. Только ты и я.
Барабаны все так же обрушивали небо, черно-белые колонны школьников, вновь и вновь вскидывая руки со сжатым кулаком, проходили мимо человека с гремящим мегафоном, – и ничего этого не было. Слух отключился, глаза перестали видеть. Тишина трепетала легким колыханием воздуха над площадью. И пустынна была площадь – ни единого человека на ее просторной сковороде, ни единой обегающей ее по кругу машины.
Правда, выключая телефон, К. подумал, что следовало бы позвонить все же родителям, сказать, что не придет… Но мелькнув, мысль тут же отлетела от него. Следовало еще позвонить другу-цирюльнику, извиниться за свое исчезновение, но мысль об этом была уж совсем мимолетна, чиркнула никудышной спичкой и, не разгоревшись, погасла.
5. Номер двадцать второй
Счастье, с которым он проснулся, было похоже на облако, что окружало его совершенно вещественной, плотной субстанцией, как вещественно охватывает тело при погружении в нее вода. К. лежал в постели, ощущая с сожалением свое одиночество в ней, но это сожаление ничуть не умаляло его счастья. Сожаление было связано с чисто телесным, счастье при всей его вещественности имело истоком эфирную сущность.
Звуки, доносившиеся из-за притворенной двери – нечаянный звяк тарелок, звон чайной ложечки в чашке, стук сорвавшегося ножа о доску, удар вырвавшейся из крана воды о дно загудевшей раковины, тут же притушенный поворотом вентиля, – свидетельствовали, что он не слишком уж залежался, привереда еще дома, еще завтракает, успев лишь принять душ, еще не ушла. Счастье, одевавшее К. воздушным коконом, с легкостью, словно он был невесом, подняло его с постели, хотя глаза еще слепливало сном, и понесло из комнаты – застать привереду, не дать ей уйти без прощания, как же, как же расстаться с ней, не увидеть перед уходом?
Привереда, уже вся в броне служивой одежды – ландскнехт, изготовившийся к броску в бой, длиною в день, – как раз вылетала из кухни, в руке на отлете косметическая сумочка с распахнутым зевом, вторая рука перебирает содержимое – выудить необходимый инструмент для макияжа и сотворить на лице до вечера защитную маску.
– А-ай! – воскликнула она, оказавшись схваченной К. И сей же миг принялась выкручиваться из его рук. – Нет-нет, все… не трогай! Я уже все… я тебе там оставила посуду, не успеваю… помоешь?
– Помою, помою, – пообещал К., отпуская ее (о, как не хотелось!). – Какие еще поручения?
– Любить меня, – ответствовала привереда. Она уже стояла перед зеркалом в прихожей и, вся подавшись к нему, вперясь в свое отражение, омахивала веки кисточкой-бархоткой, придавая лицу дневной боевой раскрас. – Захлопнешь потом, уходя, дверь.
Но сначала он захлопнул дверь за ней. После чего, торопясь, хотя в том и не было надобности, сто раз мог успеть, перекинулся через всю квартиру к комнатному окну и, привставая на цыпочки, принялся пялиться в него, ожидая ее появления на улице. И она знала, что он смотрит, протрепетала, вскинув над головой, на ходу рукой, а прежде чем скрыться за углом, все же обернулась и – скорее всего, даже не увидев его в окне, – снова воздев руку над головой, прощально помахала К. А ему сегодня некуда было спешить. Он сегодня был свободен навылет – с утра до ночи. Экзамены у группы, перед которой вчера метал бисер на консультации, предстояло принимать лишь завтра. Завтра, завтра, не сегодня, так ленивцы говорят. Сегодня он мог позволить себе быть ленивцем.
Счастье, несшее его на своих крыльях, повлекло К. естественным образом в туалетную камору, в ванную комнату, шумной музыкой струй ударил душ… и везде, куда ступал, чего касался, он въяве осязал предшествовавшее ему пребывание привереды – оставленные ею невидимые следы: на полу, на стенах, на вентилях кранов; от них, невидимых, словно исходило некое излучение, и его рецепторам было подвластно их восприятие.
Но когда он, завершив все дела, уже выходил из квартиры привереды, уже переступил через порог, неожиданно в нем прозвучало брошенное ему привередой у зеркала напоминание захлопнуть за собой дверь. И что было в нем такого двусмысленного, какая лукавость? – но оживший в нем ее голос вдруг прозвучал прямым и несомненным свидетельством ее неискренности и пренебрежительного отношения к нему. Захлопнуть дверь! Просто захлопнуть, а не закрыть, как бы следовало, ключом на щеколду. Безопасности она предпочитала… что предпочитала безопасности? Независимость! Независимость от него, К. Путами долга и обязательств – пусть хлипкими, едва ощутимыми, но все же! – неизбежно связал бы их врученный ему запасной ключ, и она не хотела даже таких пут. Нуждалась в нем лишь затем, чтобы соответствовать своей жизнью вмененным правилам стерильности? Держала при себе, не имея ему пока замены, которая могла удовлетворить ее?
Овивавший его своими пеленами кокон счастья развился – он не успел отойти от щелкнувшей язычком замка ее двери. И тотчас все вчерашнее – друг-цирюльник в простыне на манер древнеримского патриция с ошпаренным лицом, кондитерско-кофейное заведение Косихина, конопень со своей командой, – намертво запертое где-то, неизвестно где, словно прорвалась некая запруда, хлынуло в него, круша на своем пути остатки кокона, клокочущим беспощадным потоком.
Вышагнув из полумрака подъезда на ослепившую бесстыдно нагим, ни клочка облачной одежды, блистающе-жарким солнцем, словно обесцвеченную улицу, К. достал из кармана телефон, пролежавший там бессмысленной тяжестью с лишним полсуток, и включил его. Пора было возвращаться в мир. Сколько бы градусов там тебя ни ждало. Куда деться от мира. Что ты без мира. Без мира ты лист, сорвавшийся с дерева, ни земных соков тебе от корней, ни хлорофилла из воздушного океана, ложись на землю, желтей и сгнивай.
И только оживший брусок телефона завершил внутри своего электронного чрева все необходимые операции и подключился к миру, тотчас на экран с писком полезли одна за другой эсэмэски: от родителей, от друга-цирюльника, от оператора, сообщавшей об их звонках – вчера, ночью, сегодня, – и бессчетно, бессчетно.
Засаженный шпалерами нестриженного кустарника и редкими деревьями между ними зеленолиственный бульвар рассекал улицу, на которой стоял дом привереды. К. перебежал перед машинами проезжую часть и, дошагав до первой же скамьи на бульваре, опустился на нее. Требовалось сесть, чтобы говорить по телефону.
Первому он позвонил другу-цирюльнику. С друга-цирюльника, казалось ему, начать будет проще.
– Ты где? Откуда ты? – завопил друг-цирюльник, едва заслышав голос К. – Жив-здоров, цел? Что с тобой случилось? Почему ты пропал?
Похоже, если друг-цирюльник и был обижен на К., – не мог не быть! – тревога за К. была для него важнее обиды.
– Я жив-здоров и цел, – сказал К. – И вообще все нормально…
– Нормально? – голосом, полным подозрения, вопросил друг-цирюльник. – А с отцом-матерью ты говорил? Они тебя обыскались!
Конечно, обыскались. Чувство покаянного стыда залило К. удушающей волной.
– Позвоню, – сказал он. – Вот сейчас с тобой… и наберу им. Извини, что я вчера ушел. Мне так было… ты понимаешь?
– Понимаю, понимаю, – ответствовал друг-цирюльник. И через кратчайшую, но отчетливо обозначившую себя паузу спросил: – Так ты что? Ты можешь говорить? – И, снова через запинку, видимо, решив, что К. мог не понять его, уточнил: – Тебе ничто не мешает? Никто?
– Не мешает. Ничто и никто, – отозвался К. – Сижу на бульваре, один, жив-здоров. Вот звоню тебе.
– И ты… с тобой… как ты вчера ушел… С тобой… ничего? – с откровенной опаской назвать вещи своими именами осторожно поинтересовался друг-цирюльник.
– Без событий и новостей, – коротко ответил К.
Событий, можно считать, и вправду не было, а знать другу-цирюльнику о цидуле, переданной через привереду, и о том, что включен в некую базу, – зачем ему это?
– А туда… – друг-цирюльник снова споткнулся. – Туда ты ходил? Или нет?
– Не ходил, – с прежней короткостью сказал К. – А ты что считаешь?
– Ну-у… – Осторожность в голосе друга-цирюльника была похоже на то, как если бы он шел в темноте и, прежде чем ступить вперед, ощупывал носком пространство перед собой. – Тебе мое мнение известно. Я его не изменил.
– В смысле, рекомендуешь пойти?
– Пойти, пойти, – уже смело ступил вперед друг-цирюльник. – А какой у тебя другой вариант?
– Ладно, пока, – принялся прощаться К. – Еще раз: извини… Звони мне, прошу тебя.
– О чем разговор! – поторопился с ответом друг-цирюльник. – Но и ты мне, ты мне! Звони, пожалуйста. Да хоть среди ночи!
Позвонить родителям и после звонка другу-цирюльнику казалось все так же невозможным. Но и нельзя же было не позвонить. К. разбежался, оттолкнулся ногами от тверди, взметнул в полете руки над головой, сложил лодочкой и ухнул во вскипевшую вокруг пенными брызгами неизвестность.
– Наконец-то! – услышал он в трубке голос отца.
Странно, однако: в голосе отца не было того негодования и возмущения, которых он ожидал. Одно растерянное волнение было в его голосе, смятенная тревога – без всякого следа порицания, – словно К. и не помучил их неведением о себе, не заставил их «обыскаться». Даже что-то сочувственное, виноватое, пришибленное было в этой отцовской неосуждающей тревоге-волнении.
И вот же что было тому причиной. Вот что перевесило их справедливый гнев: еще большая тревога! Ночью им, оказывается, звонили. В час между собакой и волком, подняв с постели, и без всяких извинений, с повелительностью: что ваш отпрыск?! знаете, что под подозрением? ах, не говорил? думает, все рассосется?! не рассосется! рассосется, когда вдоволь насосется! а он насосется, к тому идет! дерьма он насосется, и вдоволь, вдоволь!
Представились? – спросил К. Нет, сказал отец. Но по всему же ясно откуда.
Ясно, ясно, конечно, ясно. Разве что в своей последней цидуле-маляве – что была передана через привереду – как бы свидетельствовали всем тоном, что терпению их приходит конец, а тут этому терпению конец уже был положен. В эпистолярном жанре им стало тесно, перешли на вербальную форму. И специально родителям звонили, именно им?
Следовало, какое бы объяснение тому ни было, успокоить родителей.
Нет, это не оттуда, откуда вы думаете, сказал он отцу, это просто какое-то хулиганье, развлекаются так. Не оттуда?! Кому нужно так развлекаться? – отец не поверил. Просто кто-то подшучивает, кто-нибудь из моих студентов, возможно, придумал на ходу К. Дурак, что ли, какой-то полный? – повелся на его обман отец. Дурак, дурак, ухватившись за прозвучавшее слово, подтвердил К. Он чувствовал что-то похожее на радость. Своим звонком его неизвестные преследователи, не желая того, сыграли роль щита, избавив его от тягостных объяснений с родителями по поводу вчерашнего исчезновения.
Заканчивая разговор с отцом, К. встал со скамейки. Словно сжавшаяся пружина, не желая больше удерживать себя, толкалась теперь в нем, распирала накопленной кинетической энергией, просилась наружу. Что же, как советовали друг-цирюльник и привереда, пойти к его преследователям с распахнутой на груди рубахой: вот он я, что вам нужно?! Бульвар был пустынен в оба конца, лишь на одной из дальних скамеек рисовались фигуры то ли двух, то ли трех человек – мало кто пользовался в эту раннюю пору дня зеленолиственным покоем бульвара, сжатым двумя асфальтовыми полотнищами с режущими по ним с ревом автомобилями. Неожиданно для себя К. сорвался с места и решительно зашагал в направлении, в котором следовало, если исполнять совет друга-цирюльника и привереды. Он еще не был уверен, что исполнит его, а ноги уже несли куда повелела пружина. Не был уверен – и шел. Бесстыдно-нагое солнце понуждало в промежутки между оазисами тени от редких деревьев ускорять шаг, чтобы побыстрее достигнуть следующего оазиса, – получалось, еще и поторапливался как можно скорее достичь нежеланной цели.
Цель, к которой вела К. хозяйствовавшая в нем пружина, скромно таилась в густо обсаженном деревьями и кустарником неприметном особнячке в полутора кварталах от площади с вавилонской громадой мэрии. У деревьев были вовремя и тщательно сформированы кроны, кустарник ровно, с изыском подстрижен – не то что на бульваре, где только что сидел на скамейке К. Слухи, впрочем, гласили, что скромность ведомства, явленного миру лишь этим особняком, чисто внешняя, его лицо, открытое всеобщему обозрению, – на деле же и все здания вокруг принадлежат ему, связанные паутиной подземных переходов…
«Приемная» было написано на скромной, неброской доске рядом со скромным, вполне затрапезного вида входом, который язык никак не повернулся бы назвать парадным.
Те несколько секунд, что К. стоял на крыльце перед дверью, он боролся с повелевающей пружиной внутри себя. Было мгновение, когда ему показалось, что вот, уже переборол ее, ринется сейчас вниз, сбежит обратно на землю… но, вместо того чтобы сделать это, потянул отчаянно взвизгнувшую дверь на себя, толкнул открывшуюся за ней вторую, оказавшуюся безмолвной, и ступил внутрь.
Тьма ослепила его. Прозрение приходило, словно проявлялось изображение на фотографии. Возникли сначала непонятные тени, явили границы, начали обретать глубину. Помещение, в котором оказался К., представляло собой большую комнату без окон, отделанную с пола до потолка темными деревянными панелями, ими же был забран и потолок, – К. словно попал вовнутрь некой шкатулки, и освещала ее пространство лишь единственная жидкая лампочка под похожим на кулек колпаком. Обретшие трехмерность тени оказались людьми. Сидели на стульях, расставленных в связках рядами посередине, стояли у стен, клубились толпой около полукруглого окошечка в одной из стен – вроде того, что бывают в кассах, торгующих билетами на людные мероприятия. Странным образом шкатулка оказалась полна. А ему-то представлялось, что не будет никого, кроме него.
Высокий, узкий, с нераздавшейся костью, щедро усеянный угрями и с трогательно-нежными юношескими усиками над верхней губой, молодой человек с неснятой холщовой кепкой-восьмиклинкой, увенчанной в том месте, где клинья сходились, пуговкой, пытался пробиться сквозь толпу вокруг окошечка к его амбразуре и с гневной требовательностью повторял как заклинание: «Я агент! Мне срочно! У меня утрачена связь!» Никто ему не отвечал, но и не сдвигался с места, чтоб пропустить, в голосе юного агента зазвучали истерическо-угрожающие нотки, и стоявший рядом выразительный бородач – такой тип охотника на женщин – взял юного агента за козырек кепки и натянул ту ему на глаза: «А остальные здесь кто?» Юный агент, смолкнув, тотчас ушмыгнул в сторону, воздевая на ходу кепку обратно на темя, а теснившаяся вокруг окошечка толпа, в беспорядочно перепутавшемся клубке которой угадывалась очередь, ненадолго вышла из царившего до того молчания: «Агент он! Связь утратил. Срочно ему! Сосунок!» Голос с отчетливым стариковским дребезжанием подытожил с удовольствием: «А гляди, пошевелил мозгой!»
Вновь установившееся молчание было нарушено женским голосом из глубины толпы: «Так мне с заявлением, я правильно встала, сюда мне?» Толпа не ответила ей, сразу будто ощерившись недоброжелательством. «Так с заявлением мне сюда?» – оробев, решилась все же повторить вопрос заявительница. На этот раз ее попытка разжиться информацией увенчалась успехом: общее глухое безмолвие разодралось прежним стариковским дребезжанием: «Куда еще? Окно одно».
К. понял, что и ему нужно в это окно. Куда же еще?
– Кто последний? – обратился он к очереди.
И тотчас толпа, до того не замечавшая его, воззрилась на К. Он физически ощутил ее взгляды. Они ощупывали его, обвивали – изучали, запоминали, опознавали. Неприятное было чувство. Словно саму изначальную силу жизни высасывали эти взгляды-щупальцы, оставляли от тебя, как паук от попавшейся в его сети неудачливой мухи, одну пустую хитиновую шкурку. К. внутренне передернуло. Надо же, чтобы здесь оказалось так многолюдно!
«Последний? Кто последний?» – напитавшись наконец им до сытости, в несколько голосов заспрашивала между тем у самой себя очередь.
Последним определился тот юный агент. Он мигом вынырнул из тени, в которую было ускользнул, и с вызовом известил К.:
– Ну я, значит, последний. И что?
– Ничего, – ответил К. – Значит, за вами буду.
– Но я, может, раньше пройду! – с тем же вызовом провещал юный агент.
– Раньше он! – голосом, обещающим, что раньше юному агенту пройти не светит, уронил, как бы обращаясь к самому себе, бородатый охотник на женщин.
Желания топтаться перед окошечком, игравшим, как видно, роль игольного ушка, у К. не имелось. Он попросил юного агента указать на него, если кто появится занимать очередь, и направился к рядам стульев посередине шкатулки. И только направился, тотчас его как опалило.
На стульях сидело не больше пяти человек, и выловить опаливший его своим сокрушительным жаром взгляд труда не составило. Секретарь кафедры это была, кто едва не обратил его в пепел, вот кто! Сюда, сюда, ко мне, призывно позвала рукой секретарь кафедры. И до чего же экспрессивен был этот ее жест, какое возбуждение выразил! Она была тут совсем иная, чем К. знал ее все годы по кафедре. Ничуть не похожа на унылую, обшарпанную годами даму, ведущую отсчет своим годам со времен Древнего Рима, силой и энергией жизни веяло от нее, решительной уверенностью в себе.
Проманкировать ее предложением, не подойти к ней – было исключено. Изображая на лице приветливую улыбку, К. протиснулся по проходу между связками стульев к секретарю кафедры, и она, протягивая снизу руку, с радостным видом соучастницы поприветствовала его:
– Так вы, значит, тоже?!
Радость ее была искренна и неподдельна. Пожалуй что и исполнена восторга.
Ряд не связанных между собой частиц, междометий, союзов – невразумительную мешанину – пробормотал К. в ответ на ее вопрос-приветствие. Секретарь кафедры, однако, истолковала эту словесную кашу в пользу К.
– Ой, вы не смущайтесь! Я так рада вас видеть здесь, так рада! Вы здесь впервые?
Вот на этот вопрос К. мог ответить вполне вразумительно.
– Впервые, – подтвердил он.
– Я так и поняла, – покровительственно отозвалась секретарь кафедры. – Смутило вас, вижу, количество народа? Пусть вас это не смущает. Просто задержались с открытием. Быстро сейчас рассосется. Они четко работают. Размечут туда-сюда, кого куда во мгновение ока.
Похоже, ей и в голову не приходило, что К. здесь совсем по другой причине, чем она сама и все остальные. Хотя по какой причине были здесь все остальные? Наверняка К. было известно лишь о том нервном зеленом фрукте в восьмиклинке. Да еще о робеющей особе, желающей подать заявление. Однако, судя по тому, как все другие, заполнявшие шкатулку, держали себя, их привели сюда совсем не те обстоятельства, что у К. Они очевидно были своими здесь, им было привычно находиться в этой шкатулке, а глядя на секретаря кафедры, понятно: еще и желанно. Но что несомненно – не секретарь кафедры была причиной полученных им цидуль-маляв, иначе бы, увидев его, не подумала, что он «тоже».
– Присаживайтесь, посидите. – Секретарь кафедры сделала движение, словно подвинулась, освобождая место. Ей хотелось проявить свое расположение к К.
К. поколебался и сел. Не посылать же было ее куда подальше. Секретарь кафедры смотрела на него с возбужденно-счастливой улыбкой – как если б на сына, оправдавшего самые тайные надежды матери. Следовало что-то наконец сказать ей, поддержать беседу.
– А вы… – начал он. Нет, не хватало только спросить «а вы что тут делаете?» – Почему здесь так темно, только одна лампочка? – вырвалось у него.
Секретарь кафедры посмотрела под потолок.
– Наглядная агитация, – сказала она, опуская взгляд. – Кому, как не службе стерильности, подавать пример. Не следует транжирить народные деньги.
– Но это, пожалуй, уж слишком, – не смог удержать себя К. – Я зашел с улицы – ничего не мог разглядеть.
– Но сейчас видите же? – с подсказывающей правильный ответ порицающей материнской улыбкой ответствовала секретарь кафедры.
– Сейчас вижу, – вынужден был согласиться К.
– Что и следовало доказать. – Секретарь кафедры с торжествующим видом развела руками. – Нужно было просто привыкнуть. Кому, как не службе стерильности, учить аскетизму. Аскетизм – основа народного благополучия и процветания.
Она шпарила прямо цитатами из правил стерильности.
Щелкнул, включаясь, электрическим разрядом невидимый динамик, и отрывистый, словно бы с жестяными прожилками, мужской голос произнес:
– Посетитель номер три, пройдите на контроль.
Секретарь кафедры, только динамик включился, замерла, вытянулась вверх, вся обратилась в слух. И едва голос назвал номер, вскочила с резвой поспешностью.
– Это я, – бросила она К. Она враз перестала быть матерью, а превратилась в ту унылую крашеную грымзу, какой ее знал К. по университету, только необычайно оживленную и всю будто летящую грымзу. – Покидаю вас. Счастливо вам.
– И вам, – вынужден был ответить К., чтобы не оказаться невежей.
Но маловероятно, что она услышала его. Она уже летела вдоль ряда стульев, стремила себя легкой божией птичкой к заветной радостной цели, букли ее трепались в полете вокруг головы подобием перышек, взъерошенных током обтекающего воздуха. Не замеченная прежде К. дверь явила себя взгляду на линии ее полета в дальней стене шкатулки. Секретарь кафедры, не замедляя полета, распахнула филенчатое полотно, выплеснуло изнутри радостным полным светом (там агитации уже не требовалось?), и секретарь кафедры влетела в него, а свет, двинувшись перед тронувшейся назад дверью, стал быстро худеть, превратился на миг в струнку, и полупотемки шкатулки прищемили его окончательно.
Спустя недолгое время резкий голос из выстрелившего грозовыми разрядами динамика повелел пройти на контроль номерам четвертому и пятому. Толпа около игольного ушка окошечка, как и обещала секретарь кафедры, споро рассасывалась, перемещалась на стулья, динамик снова и снова выстреливал грозовыми разрядами, приглашая на контроль… Ничто не мешало К. подняться и тоже покинуть сумеречную шкатулку, только через ту дверь, через которую попал сюда, но, вместо того чтобы сделать это, он все продолжал сидеть и ждать, когда подойдет его очередь к игольному ушку.
К. поднялся, когда перед юным агентом в восьмиклинке никого не осталось. Юный агент стоял у игольного ушка, влезши в него по самые плечи. И когда он наконец, со счастливо-распаренным лицом, выбрался из него наружу, направился к стульям дожидаться вызова своего номера и настал черед К. припасть к открывшемуся ему таинственному жерлу, К. обнаружил в себе желание поступить, как этот желторотый фрукт: втиснуться в жерло игольного ушка как можно глубже, до самых пят – впрямь уподобясь тому библейскому верблюду из каравана, навьюченному товарами дальних стран, которому нужно, чтобы попасть в город, опуститься на колени и так, на коленях, проползти в городские ворота, – словно от того, насколько глубоко сможешь проникнуть в зияющее жерло, зависел успех твоих усилий опровергнуть павшие на тебя непонятные подозрения.
Размер окошечка, однако, не позволял всунуться внутрь никакой иной частью тела, кроме головы. И от того, впрочем, К. удержал себя.
– Доставляют вам, и что? Я ничего понять не могу, – брезгливо кривя вишнево накрашенные губы, произнесла в ответ на его лепетание о полученных записках представшая взгляду К. полногрудая матрона в лихо заломленном на ухо форменном красном берете.
К. подумал, что его объяснение, как ни изощряйся, в любом виде будет звучать полной дичью.
– В общем, мне нужно к кому-то… ответственный за прием населения кто у вас?
Матрона смотрела на него изнутри питоньим взглядом, как если б решала, удавить К. прямо сейчас или чуть погодя.
– Номер двадцать второй, – изошло наконец из ее вишневых уст. – Стойте, ждите. – Пальцы ее, с коротко, по-мужски подстриженными ногтями, уже выколачивали на клавиатуре стоявшего перед нею компьютера некий текст, имевший, вероятней всего, отношение к К.
Зачем, зачем, зачем, тупым метрономом стучало в К., когда он снова сидел на стульях в ожидании своего номера из динамиков. И не поздно же было подняться и покинуть шкатулку еще и сейчас, – но нет, оставался сидеть.
Номер его прозвучал много раньше, чем он ожидал, – шкатулка еще была полна, не вызвали и половины тех, кто был перед ним.
К. ступил в свет, оказавшийся стерильно белым, отделанным пластиком коридором под слепящими ртутными лампами, и тут же был остановлен запретительными решетчатыми воротцами. Сбоку от воротец за такой же стерильно-белой, как остальной коридор, выгородкой, восседал на высоком, как у барной стойки, стуле похожий статью на того конопеня, с которым К. познакомился вчера вечером в кондитерско-кофейном заведении Косихина, твердоскулый молодец, только, в отличие от конопеня, бывшего вместе со всеми своими подчиненными без всяких примет ведомственной формы, у молодца, как у матроны в игольном ушке, на голове сидел такой же красный берет, разве что у него он был уж совсем сдвинут на ухо, и залом его – хоть брейся. Молодец в загоне выгородки с выжидательной суровостью молча смотрел на К., словно недоумевая, зачем он возник здесь, и К. смешался под его взглядом.
– Что, документы? – спросил он.
– А что же еще? – не переменяя выражения выжидательной суровости на лице, процедил молодец.
К. достал удостоверение личности и подал ему. Молодец принял пластик, поизучал, вложил в считывающую выемку на электронном девайсе перед собой, уставился в экран, сверяя данные удостоверения с теми, что, вероятно, передала ему сюда из своего игольного ушка матрона. Все сошлось, и пластик удостоверения был протянут К. через перила выгородки обратно. Вслед за чем решетчатые воротца, повинуясь движению руки молодца у себя под столешницей, пропищали и клацнули, открываясь, замком.
– И? – вопросил К. – Что дальше?
– Идите, – не тратясь на объяснения, скупо промолвил молодец.
К. нерешительно толкнул воротца и шагнул за них. Воротца за спиной, закрываясь, хрустко чмокнули магнитами. И тотчас в дальнем конце ослепительно белого коридора явила себя из стены (но, должно быть, там была дверь) черная фигура. Явила и замерла, – выказывая всем своим очерком нетерпеливое ожидание. Несомненно, К. следовало двигаться к ней.