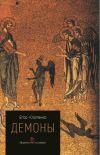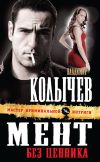Текст книги "О чем безмолвствует народ"

Автор книги: Анатолий Ланщиков
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Разумеется, трудно в романе воспроизвести весь процесс работы героя над книгой. Да этого и не нужно было делать. Суворов – личность историческая вдвойне, поскольку не только имя его принадлежит истории, но он и сам активно и зримо творил историю. И мы только тогда поверим, что герой не сочиняет, а творит книгу о Суворове, когда обнаружим у героя историчность собственного мышления.
«Куда денешься от истории. Против теперешнего Белогорска, на том вон известняково-белом плато устроил свой полевой штаб Суворов, а вон тот неказистый серый обелиск – один из последних уцелевших верстовых столбов, которые были поставлены на всем пути следования Екатерины II по Крыму в 1787 году. Здесь пуля пробила голову молодому Кутузову, пройдя рядом с виском. Там в горах совершал рейды знаменитый партизан и виноградарь Македонский».
«Куда денешься от истории…» Во-первых, зачем непременно куда-то деваться от истории? Во-вторых, разве это история и разве это как-нибудь напоминает исторически мыслящего человека? В лучшем случае перед нами бойко составленный текст для экскурсовода.
Или другой немаловажный момент. У Алексея есть друг, «занимающий крупный издательский пост» (имя его в романе не называется), о котором говорится: «Любил свой пост, работу, книги по истории, дружеский казачий круг, но пуще всего – коллекцию, украшавшую всю стену в его однокомнатной квартире». Далее на полстраницы дается аппетитно написанный реестр самой коллекции. О друге еще говорится, что он был «учен, неглуп, воспитан», однако почему-то с ученым и неглупым другом, как и с умнейшим и образованнейшим Тимохиным, разговоры ведутся о чем угодно, но только не об истории.
После окончательного разрыва с женой «Алексей и сам чувствовал, что отец и мать остались в нем странными, несоединившимися началами, что надежды на новую любовь и семью слабы. Ну что ж, осталась возможность работать. Остались друзья, общие интересы, привязанности и цели».
К сожалению, мы должны признать, что книга о Суворове для Алексея – пока только всего лишь попытка отойти от халтуры, попытка при помощи воспоминаний детской любви к Суворову (в тяжелые военные годы таким идеалом мог быть только Суворов, и никто иной, – полководец, не знавший поражений) возбудить в себе творческое вдохновение.
Что же касается друзей, то их у Алексея, по сути дела, не было, да и не способен он на дружбу; привязанности, общие интересы – это, пожалуй… При всей интенсивности отношений с окружающими у него ни с кем не образуется настоящих человеческих связей, то есть в главном он повторяет своего отца. Поэтому очень важно и интересно в романе все то, что связано с пребыванием Алексея в родительском доме; прошлое его является единственным веществом, скрепляющим душу, готовую распылиться, превратиться в ничто в любую минуту, поскольку родительское семейство распадается и исчезает на наших глазах.
«Когда просохло, – читаем мы в финале романа, – Алексей с братом навестил Мудрейшего на Ваганьковском кладбище.
Глядя на осевшую могилку с простым, быстро ржавеющим крестом, брат сказал, глотая слова (дикцию он унаследовал от своего отца):
– Добрый Мудрейший! Он никому сознательно не сделал в жизни зла!..»
Действительно, он никому «сознательно не сделал в жизни зла», но в то же время он спокойно внимал и творящемуся рядом злу. И Алексей тоже предельно эгоцентричен, однако его эгоцентризм нейтрализуется не то чтобы добротой, а каким-то упорным нежеланием умышленно творить зло, и в этом он повторяет своего отца, правда в иных жизненных и житейских обстоятельствах.
У Алексея эгоцентризм и незлобивость – черты не только доминирующие, но для него и судьбоносные. Ведь ни образование, ни литературный успех, ни бедность или, напротив, богатство или достаток, ни окружающие его люди при всей кажущейся его податливости никак не могут нарушить равновесия доминирующих в его характере черт, образующих в своем соединении удивительный по прочности элемент равнодушия ко всем и ко всему. И от этого своего равнодушия не меньше других страдает сам Алексей.
«Все, что у него было до Алены, он воспринимал как вынужденную сделку. Он искал именно предмет для поклонения. Потому что ему необходимо было не быть любимым, а любить самому. Он даже тяготился, когда начинал чувствовать, что его любят больше, чем он сам». И Алена так долго устраивала его именно потому, что никогда не любила его.
В то же время Алексей с юных лет мечтал о какой-то особенной любви и ждал от нее какого-то особенного счастья. «Он всерьез полагал, что способен, идя против течения традиций, создать особенную, непохожую на другие семейные союзы жизнь». Однако о его мечтах, о его любви и о его семейной драме следует, вероятно, поговорить особо.
3
Нет, О. Михайлов не случайно упрекнул всю классическую русскую литературу за то, что ею «специально любви произведений почти не посвящалось». Самого О. Михайлова в том не упрекнешь, его роман целиком посвящен именно этой сложной материи, во всяком случае, он так задумывался. Написание героем книги о великом полководце, любовь к собственному «суворовскому» детству, сентиментальные экскурсы в прошлое своих родителей и родственников – то всего лишь вспышки, иногда искусственно раздуваемые; главное и единственное, что приносит герою радости и огорчения, – любовь или все то, что на нее похоже.
Два коротких студенческих романа окончились «категорическим разочарованием». Были еще слабые увлечения, но и они не в счет. Он искал предмет для поклонения! И нашел. Случайно. В троллейбусе.
«Лицо ее с четким овалом, чуть курносое, пухлогубое, все ее узкое тело напоминали фотографии из «Вога» или «Эль» – французских модных журналов… Она походила на тех скромных, безымянных, стандартных девушек, которые в начале и в конце журнала показывают лифчики, колготки, пояса» (курсив мой. – А. Л.).
Итак, вкус отработан по рекламным журналам, согласно вкусу выработан идеал, точнее – предмет для поклонения. Итак, господство моды и стандарта! Разумеется, выбор делался вопреки традициям, что, надо заметить, в дальнейшем если и не гарантировало, то сулило жизнь, действительно «непохожую на другие семейные союзы».
«Как он гордился ею, женившись! Собирал и наклеивал в специальный альбомчик фотографии, ходил бесконечное число раз мимо тех магазинов, где в витрине было ее лицо – то в дорогой норковой боярке, то с помадой у губ, то с переделанной ретушером из помады карамелькой – в окне булочной на улице Горького».
«Алексей медленно вошел в Аленину комнату: ее белозубое лицо на календарике за 1972 год…»
«Ее фотографировали часто и охотно – в «Вечерке», на обложке журнала мод, карманном календарике. А одна коммунистическая английская газета назвала Алену в репортаже из Московского дома моделей «маленькой лорд Фаунтлерой».
Автор то ли сам путается в понятиях «гордость» и «тщеславие», то ли, по известным только ему причинам, путает читателя.
«Как он любил ее в эти минуты, как остро чувствовал зависть других мужчин, с их выстарившимися, похожими больше на тещ женами…»
Если в молодости он пытался вызвать у других зависть при помощи купленного первоклассного приемника, то теперь для той же цели у него была молодая жена с ее стандартно-модной красотой. Вероятно, потому он и не переживал по-настоящему измен жены, хотя, конечно, потерять ее боялся, как боятся потерять дорогую модную вещь.
«Отношение к ней как к собственности, которая уже никуда не денется, преобладало над всеми прочими чувствами».
«Алексей со спокойной душой оставлял Алену одну, потому что относился уже к ней как к дорогой, но безусловно ему принадлежащей вещи, которую никто не отнимет».
Когда рекламная красота Алены начала чуть увядать, она все чаще вдруг стала подолгу где-то задерживаться, участились мужские телефонные звонки, а Алексей с «удвоенной беззаботностью глядел на все сквозь пальцы, уверенный, что ходит по толстому льду». Он рассуждал примерно так: если она не ушла в короткие годы женского расцвета, то теперь никуда не денется.
Было и еще одно обстоятельство, которое его успокаивало: «Алексей чувствовал, как сильно хочет она прочной, основательной жизни, как страшится вернуться в подвал на Зацепе и как ценит поэтому их союз».
Насчет «союза», по-моему, сказано слишком сильно. Тут не союз, тут сделка: ему нужна была постоянная живая реклама, и он ее получил; ей нужен был определенный современный комфорт, и она его получила. А из чего же складывалась их повседневная совместная жизнь?
«Они просыпались в двенадцатом часу, подолгу валялись в постели, слушая музыкальные передачи. Затем кто-то шел за завтраком, покупал калачи, масло, двести граммов белужьего бока, а оставшийся молол и варил кофе. Потом они гуляли, забредали в какой-нибудь кинотеатр, болтали о пустяках и возвращались на Тишинку».
Иногда они вместе ездили в Дома творчества, в перерывах между рекламными «сеансами» (когда Алена должна была вызывать зависть у коллег-писателей) они просто гуляли: «Как ему нравилось молчать рядом с ней во время прогулок…» А нравилось молчать потому, что говорить-то было не о чем.
Потом, после развода, Алексей напишет Алене:
«У нас был открытый – «европейский» – брак.
Я не хранил тебе верность потому, что был разболтан и легкомыслен, и потому, что ты не была ласкова и горяча со мной.
Ты не была верна мне потому, что меня никогда не любила, что была столь же хорошенькой, сколь и легкомысленной…»
И все-таки их «союз» продержался тринадцать лет. На чем же он тогда держался?
Алена сначала работала продавщицей, затем – манекенщицей, что обеспечивало ей постоянную публичность и что устраивало как Алену, так и Алексея. Собственно говоря, то была единственная связывающая их страсть.
«Подводя итоги своей нескладной супружеской жизни, Алексей понял, что потерял Алену задолго до того, как она ушла от него, – именно тогда, когда отпустил ее в молодежный лагерь. Она вернулась иным человеком – счастливая, гордая, уверенная в себе».
Что же дало ей счастье, гордость и уверенность, и отчего она стала «царственно высокомерной»?
«– Меня избрали мисс Нидой… – со снисходительной важностью объяснила она».
Алексей видел только «стройное, крепкое тело, покрытое не шоколадным крымским загаром, а нежной позолотой, похожей цветом на морской песок Прибалтики», и не обращал никакого внимания на то, какие внутренние перемены произошли в Алене, он принял самой низкой пробы высокомерие за гордость и безмерно радовался Алениной победе на пошлом самодеятельном конкурсе. «Подобного счастья он никогда не испытывал в жизни. В помрачении, близком к обмороку, движимый инстинктом, он хотел сделать что-то необычное, чтобы выразить этим свою любовь и восхищение ею».
Между прочим, в «Былом и думах» Герцен вспоминает такой эпизод из московской жизни: после ареста Огарева он встретился со своей кузиной Натальей (будущей женой) и стал говорить о горькой участи друга. Наталья близко к сердцу приняла горе Герцена, но когда тот сказал, что Огарев «гибнет неоцененный, неузнанный», она спросила: «Неужели вы это говорите о рукоплесканиях? Сейчас мы видели (они шли от ипподрома к Ваганьковскому кладбищу. – А. Л.), как их расточают лошадям. Одни поденщики требуют награды».
Как известно, Наталья Захарьина не была ни «синим чулком», ни пуританкой. Достаточно вспомнить хотя бы их романтическую любовь и еще более романтическую женитьбу.
Мы не станем вдаваться во все перипетии Алексеевой «драмы», слишком уж это утомительное и неинтересное занятие: Алена будет уходить к другому, возвращаться, опять уходить, вместе с нею в обоих направлениях будут передвигаться мебель и прочие вещи. Мы дадим из этого длительного периода жизни Алексея только один небольшой эпизод:
«– Я вернусь, вернусь, – твердила она в коридоре, подвигая к двери тяжелый чемодан и сумку, стучащую стеклом, железом, фарфором. – Ты меня извини, если я вернусь и застану тебя с женщиной! Дай мне только месяц! Нет – две недели!
И, раздавленный, жалкий, противный сам себе, Алексей мог только пролепетать в ответ: – Алена! Я буду ждать тебя!»
Пожалуй, весь фарс с уходами, возвращениями, объяснениями, театральными выходками (однажды Алена так и скажет Алексею: «Неужели ты не можешь и сейчас без театра?») и наполнил под конец их совместно-раздельную жизнь хоть каким-то содержанием. Теперь им хоть стало после тринадцатилетней супружеской жизни, до безумия пресной и никому из них не нужной, о чем и поговорить.
Года через четыре после женитьбы они поехали отдохнуть в Тарусу. Тогда они еще были молоды, а жили вместе с родителями и родственниками Алексея. Вот, кажется, и наслаждайся недолгим уединением… Но нет, они едут не одни, они берут с собой… кота! Специально для обузы. Словно старички какие-то.
Если прежде Алексей демонстрировал Алену, то теперь он с тем же усердием демонстрирует свою «драму». «Алексей нуждался в том, чтобы постоянно рассказывать о себе, о своих переживаниях». Этими постоянными рассказами он возбуждал себя, доводил до истерики. Конечно, мне могут сказать: «А где те весы, на которых можно взвесить истинность переживаний?» Могу точно указать адрес: в квартире Алексея Егорова. Не верите? Пожалуйста: «Да, но ведь он страдал, рыдал, рвал зубами угол подушки, похудел за неделю на десять килограммов…» Рыдал, страдал и бегал взвешиваться. Или: Алексей патетически кричит Алене: «Алена! Я буду ждать тебя!» – а сам внимательно прослушивает стук уносимого в сумке Аленой стекла, железа, фарфора…
Как мы уже говорили, Алексей имел особый вкус к хорошим вещам, будь то дорогой, последней марки импортный магнитофон или антикварная вещь. Когда Алена окончательно вывезла мебель, Алексей, несмотря на все свое отчаяние, моментально заново обставился. «И квартира засверкала новым, дорогим и холодным блеском: ореховым деревом «Ромоны», бронзой и хрусталем, белым металлом музыкальной японской системы: усилитель фирмы «Сони», магнитофон «Акай», проигрыватель «Джи-Ви-Си»…»
Алексей не терпел ни бедности, ни убогости, право на них он оставлял кому угодно, даже близким. Вот он приходит к оставшемуся теперь в одиночестве отцу, Георгиевским крестом которого не переставал хвастаться. «Он (то есть отец. – А. Л.) лежал на старой продавленной кровати в пустой комнате, где с потолка свисала лампочка на оскорбительно голом шнуре с липучкой от мух». Кого оскорблял или оскорбил этот голый шнур с липучкой от мух? В том-то и дело, что никого. Просто по ходу дела был оскорблен эстетический вкус Алексея, который, глядя на отца, думал не о нем, а о том, что когда-то в этой комнате были «персидские ковры и текинские паласы, дорогие безделушки, тисненные золотом нотные клавиры, фотографические портреты…». Алексей спокойно сравнивает давнишний и настоящий интерьеры отцовской комнаты, радуясь тому, что персидские ковры и текинские паласы сам он сумел компенсировать бронзой, хрусталем и различными современными «системами».
Нет, Алексей не был ни стяжателем, ни накопителем, он всем сердцем любил красивые вещи, любил их видеть возле себя или просто вспоминать о них, и эта любовь его была искренней и постоянной. За что же он так любил вещи? За прочность их красоты. В силу разных обстоятельств в нем с самого детства эстетическое преобладало над этическим и нравственным. В период войны, когда внешне эстетическое почти утратило свою цену, он качнулся в сторону нравственного, его стала привлекать красота внутренняя – красота подвига, в основе которой лежит нравственное начало. Но в дальнейшем то чувство не нашло развития, но и не исчезло, оно как бы закапсулировалось в нем и стало находить свой выход только в редкие часы «возвращения» в то далекое время, о чем свидетельствуют хотя бы встреча его с бывшим офицером-воспитателем Мызниковым или искреннее желание написать нехалтурную книгу о Суворове.
Но с годами эстетическое все разрасталось и разрасталось, и не само по себе, а уже за счет нравственного и этического. Для Алексея Егорова теперь уже не существует понятий «хорошее» и «плохое», для него теперь существенны понятия «красивое» и «некрасивое», они-то и стали его абсолютными критериями, ими-то он и руководствуется в жизни.
Но вернемся к сюжету романа, поскольку мы еще не выяснили, чем же закончилась личная «драма» Алексея и, если говорить языком ворожей, чем же «успокоилось его сердце»? Естественно, родные близко принимали затянувшуюся драму Алексея, не раз пытаясь его с кем– то познакомить, свести, но он каждый раз капризно отвергал кандидаток на Аленино «место», хотя у Алены в новой семье уже росла дочка. Но, может быть, это все-таки верность, хотя бы их совместному прошлому. Навряд ли.
Как-то Алексею позвонила бывшая Аленина подруга и сказала: «Хотите, я вас познакомлю с очень милой манекенщицей. Кстати, работает на Аленином месте. Да они и внешне схожи, только фигура у нее, поверьте, лучше, чем у вашей бывшей жены…»
И куда делся страдалец! Все вроде бы разом забылось, и вовсю заговорила гастрономическая эстетика: «Ожидая Цареву, Алексей еще раз оглядел достойно украшенный стол: армянский коньяк и буколе, салями и холодная фаршированная утка, зелень, маслины, сыр. И когда в дверь позвонили, пошел открывать с шаткой надеждой, что его судьба может перевернуться».
Оказывается, для «переворота судьбы» всего-навсего нужна была «получше фигура».
Но окончательно сердце успокоилось не тогда, когда появилась новая манекенщица с фигурой получше, а когда Алексей вновь увидел Алену: он «глядел на нее, узнавал и не узнавал. Куда подевалось ее узкое податливое тело! Головка, личико – все вроде бы ее. Но она так огрубела, раздалась, переменилась телом, налилась такой грушей, что он поспешно отвел глаза…» Вот и конец всей «драме», тут-то сердце успокоилось окончательно (курсив мой. – А. Л.).
Эстетические весы сработали не в пользу Алены, и она перестала для него существовать. Прежде он мог сколько угодно ее ругать и даже оскорблять, но то была словесная пена, которая тут же улетучивалась, нисколько не роняя Алену в глазах Алексея. А вот «налилась такой грушей» – это равносильно штампу «уценено».
Но, может быть, все-таки взыграло уязвленное самолюбие? Нет, Алексей ко всем людям относился объективно, как может только относиться абсолютно равнодушный ко всем человек. Он всех взвешивает на одних и тех же эстетических весах. Еще давным-давно, когда Алексей и Алена отдыхали в Тарусе, по соседству проживала переводчица. Потом почему-то вспомнится и она: «Соседний дом принадлежал переводчице, коротконогой, ярко-рыжей, похожей на хорошо сваренного и вставшего на хвост рака».
За что же так женщину? А за то, что немолода и некрасива, то есть неэстетична.
Эстетические весы работают беспрестанно, они своей механистичностью напоминают гильотину, в тупом безразличии рубящую головы всем подряд. Что там какая-то случайно встреченная переводчица… Алексей помнил по «домашнему» портрету знаменитую в прошлом певицу, красавицу Нину Александровну. Время не пощадило ни таланта, ни красоты, и, вероятно, не только время.
«В последний раз Алексей встретил ее на станции метро «Площадь Свердлова». В вестибюле, на скамеечке под уродливой бронзовой головой зашевелилась куна тряпья, он невольно замедлил шаг и вдруг узнал: ну конечно, это она, Нина Александровна!» (курсив мой. – А. Л.).
Эстетическая гильотина в беспощадном равнодушии рубит и родного отца: «Мудрейший долго приземлялся, подобно аэростату, переливаясь плотью в тонкой старческой оболочке». Или: «Отец лежал на спине, беспомощный, как перевернутая гигантская черепаха».
Портреты навеки запечатлели красоту Нины Александровны и бравость Мудрейшего, сами же они не выдержали испытания на прочность и теперь, по мнению Алексея, превратились в живую рухлядь. Человеческая красота мимолетна, и эта мимолетность оскорбляет Алексея. К тому же у этих людей есть перед ними «вина»: они своим старением и беспомощностью как бы напоминают ему о беспощадности времени, как покойники – об обязательности для всех неминуемого конца («Нет бывших мертвецов, но будущие – все…»).
Отяжелевший, уже тронутый старением Алексей признавал только очень молоденьких женщин, но вовсе не потому, что его тянуло к чистоте, а потому, что хотел надолго запастись «гарантированной» красотой женского тела. Что же касается всякого рода грязи, то тут Алексей был более чем терпим, вполне разделяя точку зрения признанного лидера «двенадцатого ряда» Павла Тимохина, утверждавшего: «Любовь всегда в грязи. Но грязь-то живая, она и пачкает только сверху. Оттого и о любви живой писать стыдились, то есть стыдились писать ее в грязи, как будто любви это страшно».
Спор с подобными взглядами бесполезен, ибо здесь не разные взгляды на любовь, а разные взгляды на жизнь, совершенно исключающие друг друга.
У Алексея, пожалуй, осталась с людьми только одна живая двусторонняя связь – зависть. К примеру, он не только признавал интеллектуальное лидерство Павла Тимохина, но и возводил его интеллектуальное лидерство в культ, однако, признавая и возводя, он одновременно и завидовал. Противопоставить Алексею было нечего, поскольку весь Алексеев женский «хоровод» Тимохин считал и называл «помойкой». И тогда Алексей беспощадно казнит своего «друга» по своим эстетическим законам:
«Хотя мускульно он (Тимохин. – А. Л.) был силен (крепкие сухие мышцы придавали красивый рельеф его торсу, имевшему нечто звериное от обильных волос, дымными крыльями возникавших даже на плечах), сил физических отпущено ему было немного. Желудок, поджелудочная железа, печень – все плоховато еще со времени студенчества. Его постарение произошло неожиданно, разом: подсох лицом и из прелестного юноши, пленявшего однокурсниц, стал мальчик-старичок. Седоватые мягкие волосы казались так легки, что Алексей думал: подует ветер, и от этого одуванчика останется один гвоздь».
А однажды Алексей испытал почти сладострастное чувство, когда подглядел, как состарился его «друг».
«Вечерами приятели собирались на веранде у Алексея, пили шампанское, говорили о литературе, спорили. Тимохин запаздывал, и Алексей внезапно заметил его идущего в полутьме, уверенного, что он еще не попал в полосу наблюдения. И даже вздрогнул. Нет, это был уже не мальчик-старичок, а просто старик, почти колдун – с опустившимся лицом и погасшими глазами, скорбный и страшный…»
В чем-то здесь Алексей, конечно, и довообразил в желаемую ему сторону. Каким, скажем, образом при своем слабом зрении на довольно большом расстоянии да еще в полутьме он смог увидеть «погасшие глаза» Тимохина?
«Но вот Тимохин оказался в конусе света, понял, что может быть увиден, и тотчас преобразился: глаза весело заблестели, сам подтянулся, защебетал, зачирикал и через десять минут был веселей всех, шутил, смешил, тормошил словами».
Какие уж тут друзья, какие общие цели, если соперничество шло на жестоком уровне молодящихся престарелых женщин?
Но и этого оказалось мало, далее Тимохин изничтожается окончательно: «Он стоял в любимой позе, заложив руки в кармашки жилета и слегка расставив короткие крепкие ноги».
По строгим «эстетическим» понятиям Алексея, лучше таскать кошельки или быть полным идиотом, чем иметь короткие ноги.
Как-то, когда родные измучились от фарса, который разыгрывали Алексей и Алена, произошел такой разговор:
«– Мужик! Как ты можешь так переживать! – кричал Ленин муж.
– Неужели ты ее примешь? – с нескрываемой злобой к Алене спросил брат.
Алексей только вертелся, отбиваясь от расспросов.
– Я бы ее за ноги повесила! – сказала Колина жена.
И тогда отозвался Мудрейший:
– Наверное, мы с тобой, Аленька, оба однолюбы…» Да, действительно, они, отец и сын, были однолюбами, только не в том смысле, что предполагал Мудрейший. Искренне, самозабвенно и постоянно они любили только самих себя. Алексей презирал чужую старость и чужие болезни, собственного же старения он замечать не хотел, молодился, бодрился, говоря его языком, «чирикал»… А что касается собственных болезней, так он даже любил их и порой вспоминал проведенные с ними ночи куда ярче, чем ночи, проведенные с женщинами, которых по ритуалу называл любимыми.
«К вечеру окреп ветер. Алексей Николаевич лежал и вспоминал ту московскую ночь. Когда под левой мышкой начала накапливаться тяжесть, он не обратил на это внимания. Эка невидаль! Но после полуночи тяжесть стала растекаться по левой руке, каждый палец ощутил в кончике биение пульса, и тупая боль объяла его всего. Нестерпимо заныли два пломбированных зуба, напомнили о себе и надорванный мениск в колене, и давно залеченная трещина руки. (Как все красиво: мениск, трещина в руке – профессиональные травмы теннисиста – и всего только два запломбированных зуба! Это тебе не со студенческих лет желудок и поджелудочная железа умника Тимохина. – А. Л.). Боль сгустилась и перетекла под левую лопатку. Он подложил повыше подушки и присел, упираясь в них спиной, страшась, что заснет и умрет во сне. Боль стала острой, захватив середину груди. Начались перебои сердца…»
Что ж, может быть, сердечная болезнь, только не в переносном, а в прямом смысле, и окажется во всей жизни Алексея Егорова единственно постоянной и нефальшивой и, как в старых романтических сказаниях, умрет с ним в один день и в один час. А мы вместе с Алексеем Николаевичем, как в далекие детские годы, будем пока верить, что этого никогда не случится.
Ну вот, я вынес «приговор» роману О. Михайлова, но, в отличие от критика из этюда Д. Голсуорси, не почувствовал, чтобы кровь моя быстрее побежала по жилам, а мне бы стало тепло. Мне стало грустно. О. Михайлов обратился к нам с исповедью, непридуманной исповедью, своеобразие которой не мешает в какой-то мере утолить и собственное наболевшее, но не высказанное чувство. В романе О. Михайлова присутствует по преимуществу то, что Толстой, вероятно, причислил бы к «постыдному», однако это «постыдное» не отзывается навязчивой обнаженностью, потому как оно приведено к единому итоговому чувству – к чувству пагубной абсолютизации эстетического начала, а герой заведен в страшный тупик, название которому одиночество.
Как мы уже говорили, семейная драма Алексея Николаевича обернулась фарсом, однако сам фарс обернулся глубокой человеческой драмой, поскольку на него, на этот фарс, было потрачено два десятка лет и полностью истрачена душа.
«Не жаль мне лет, растраченных напрасно…» Искренно так можно сказать лишь тогда, когда ничего именно так не жаль, как напрасно растраченных лет, напрасно не с обыденной точки зрения, а с точки зрения жизненных итогов, сверяемых с давними мечтами далекого детства и далекой юности; но не теми праздными мечтами, что отлетают навсегда, а теми, что формируют высокие гражданские и нравственные идеалы.
Да, детские сны и грезы пророчили Алексею Егорову ту жизнь, которой не суждено было осуществиться, и во многом по его собственной вине.
Наше поколение как-то смолоду потянуло на исповедь. Первые журнальные публикации, первые книги… и появляется термин «исповедальная» проза, призванный указать на главную особенность новой писательской генерации. Однако «исповедальная» проза оказалась как раз менее всего исповедальной. Впрочем, она и не могла быть иной, поскольку на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов наше поколение хотя и имело уже какие-то индивидуальные признаки, но еще не имело судьбы, а стало быть, и права на исповедь.
Преждевременная исповедь отталкивает нескромностью своих претензий, а запоздалая – оставляет равнодушным к неуместной в данном жанре мудрости. «Есть время для любви, для мудрости – другое», – сказал когда-то Пушкин. И опять оказался прав. Видимо, и для исповеди есть свое особое время. Во всяком случае, «исповедь» Олега Михайлова выгодно отличается от многих произведений, претендующих на искренность, но чаще всего отдающих неуместным публичным обнажением.
1982
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?