Текст книги "Мой век, мои друзья и подруги"
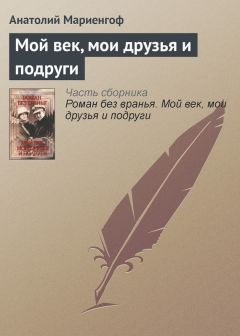
Автор книги: Анатолий Мариенгоф
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Нет.
– «Беда, – говорит, не дуда: поиграв, не кинешь». Хорошо сказано? Стихи надо писать так, как говорит Настенька: образы, образы, образы.
Корни имажинизма!
В библиотеке у отца, конечно, был и толковый словарь Даля. Этой книге, по-моему, цены нет. Какое богатство словесное! Какие поговорки! Пословицы! Присказки и загадки!
Разумеется, они примерно на одну треть придуманы Далем. Но что из того? Ничего. Важно, что хорошо придуманы.
Этот толковый словарь в переплете, тисненном золотом, являлся не просто любимой книгой Настеньки, а каким-то ее сокровищем. Она держала его у себя под подушкой. Читала и перечитывала каждодневно. Как старовер Библию.
От него, от Даля, и пошла эта Настина чудная русская речь. А когда она впервые приехала в Пензу прямо из своей саранской деревни Черные Бугры, ничего такого и в помине не было – говорила Настенька обычно, серовато, как все.
14
В Москве поэты, художники, режиссеры и критики дрались за свою веру в искусство с фанатизмом первых крестоносцев.
Трибуны для ораторов стояли в консерватории, в Колонном зале бывшего Благородного собрания, в Политехническом музее, в трех поэтических кафе и на сценах государственных театров в дни, свободные от спектакля.
Народные комиссары первого в мире социалистического государства и среброволосые мэтры российского символизма: Брюсов, Бальмонт и Андрей Белый – самозабвенно спорили с юношами-поэтами из Пензы и Рязани, возглашавшими эру образа, и не менее горячо – с несовершеннолетними поэтессами из Нахичевани, верующими в ничего.
Они так и назывались – ничевоками.
«Я, товарищи, поэт гениальный». С этой фразы любил начинать свои блистательные речи Вадим Шершеневич.
И Маяковский примерно говорил то же самое, и Есенин, и я, и даже Рюрик Ивнев своим тоненьким девическим голоском.
В переполненных залах – умные улыбались, наивные верили, дураки злились и негодовали.
А говорилось это главным образом для них – для дураков.
«Гусей подразнить», – пояснял Есенин.
Древняя традиция. Очень древняя. Иисус из Назарета еще посмелей был. Он забирался на крышу и объявлял: «Я сын Бога», «Я сошел с небес».
Евангелист замечает, что при этом зеваки обычно судачили:
– Не Иисус ли это, сын плотника Иосифа? Ведь мы же знаем мать его и отца. Как же он говорит, что сошел с небес?!
А четыре родных брата «сошедшего с небес»: Иаков, Иосиф, Иуда и Самсон – тут же мозолили глаза.
Даже нехитрые доверчивые ученики Иисуса, опять же по словам евангелиста, очень удивлялись: как, мол, такое можно слушать?!
Значит, хочешь не хочешь, а надо признать, что мы со своим «я, видите ли, поэт гениальный» не очень-то были оригинальны и храбры.
Если маленькое «Стойло Пегаса» не вмещало толпу, кипящую благородными страстями, Всеволод Эмильевич Мейерхольд вскакивал на диван, обитый красным рубчатым плюшем, и, подняв высоко над головой ладонь (жест эпохи), заявлял:
– Товарищи, сегодня мы не играем, сегодня наши актеры в бане моются; милости прошу: двери нашего театра для вас открыты – сцена и зрительный зал свободны. Прошу по жаловать!
Жаждущие найти истину в искусстве широкой шумной лавиной катились по вечерней Тверской, чтобы заполнить партер, ложи и ярусы.
Если очередной диспут был платным, сплошь и рядом эскадрон конной милиции опоясывал общественное здание. Товарищи с увесистыми наганами становились на места билетерш, смытых разбушевавшимися человеческими волнами.
О таких буйных диспутах, к примеру, как «Разгром "Левого фронта"», вероятно, современники до сих пор не без увлечения рассказывают своим дисциплинированным внукам.
В Колонный зал на «Разгром» Всеволод Мейерхольд, назвавший себя «мастером», привел не только актеров, актрис, музыкантов, художников, но и весь подсобный персонал, включая товарищей, стоявших у вешалок.
Следует заметить, что в те годы эти товарищи относились к своему театру несравненно горячей и преданней, чем относятся теперь премьеры и премьерши с самыми высокими званьями.
К Колонному залу мейерхольдовцы подошли стройными рядами. Впереди сам мастер чеканил мостовую выверенным командорским шагом. Вероятно, так маршировали при императоре Павле. В затылок за Мейерхольдом шел «знаменосец» – вихрастый художник богатырского сложения. Имя его не сохранилось в истории. Он величаво нес длинный шест, к которому были прибиты ярко-красные лыжные штаны, красиво развевающиеся в воздухе.
У всей этой армии «Левого фронта» никаких билетов, разумеется, не было. Колонный был взят яростным приступом. На это ушло минут двадцать. Мы были вынуждены начать с опозданием. Когда я появился на трибуне, вихрастый знаменосец по знаку мастера высоко поднял шест. Красные штаны зазмеились под хрустальной люстрой.
– Держись, Толя, начинается, – сказал Шершеневич.
В ту же минуту затрубил рог, затрещали трещотки, завыли сирены, задребезжали свистки.
Мне пришлось с равнодушным видом, заложив ногу на ногу, сесть на стул возле трибуны.
Публика была в восторге. Скандал ее устраивал значительно больше, чем наши сокрушительные речи.
Так проходил весь диспут. Я вставал и присаживался, вставал и присаживался. Есенин, засунув четыре пальца в рот, пытался пересвистать примерно две тысячи человек. Шершеневич философски выпускал изо рта дым классическими кольцами, а Рюрик Ивнев лорнировал переполненные хоры и партер.
Я не мог не улыбнуться, вспомнив его четверостишие, модное накануне революции:
Я выхожу из вагона
И лорнирую неизвестную местность.
А со мной – всегдашняя бонна —
Моя будущая известность.
Докурив папиросу, Шершеневич кисло сказал:
– «Разгром» не состоялся.
Нашего блестящего Цицерона это слегка огорчило. Надо было утешить его.
– Не горюй, Дима. Мы сразу объявим второй диспут. В Большом зале консерватории.
– Правильно. Другого выхода нет.
На этот раз на афишах стояло: «Мы – ЕГО!» (то есть Мейерхольда).
Мелкой рысцой на доисторическом извозчике подъехал мастер к зданию на Никитской. Рядом с ним гордо сидела Зинаида Райх. Брошенная Есениным, она стала женой вождя «Левого фронта», который в спешном порядке делал из этой скромной совслужащей знаменитую актрису.
– А где же свистуны? – удивленно спросил я у нашего администратора. – Где левая армия под красными штанами?
– Сегодня у него в театре идет спектакль. Занята почти вся труппа, – со счастливым видом отвечал степенный администратор. – Нам повезло, Анатолий Борисович.
– Великолепно!
Бедный Мейерхольд левой рукой прикрывал от ветра перевязанную щеку, а правой отстегивал облезлую полость.
– У Всеволода Эмильевича флюс. Очень болят зубы, – грустно сообщил мне угодливо-вертлявый рецензентик из мейерхольдовского лагеря.
– Вот так камуфлет! Ну как же его драконить? Такого несчастного с флюсом?
Шершеневич, как Анатэма в МХАТе, вскинул правую бровь:
– Очередной балаган, Толя. Головой ручаюсь, никакого флюса у него нет. А вот актер он все-таки замечательный!
Администратор кивнул:
– На жалость берет. Не столько вас, друзья мои, сколько публику. Расчет тонкий, психологический.
Купив билеты у перекупщика, Мейерхольд расслабленной походкой больного старика вошел в зал, тяжело опираясь на руку Зинаиды Райх.
– А ну-ка, Боря, – сказал я своему приятелю Глубоковскому, – сорви ненароком черную тряпицу с его физиономии.
– Есть!
И через несколько минут он уже победоносно ею помахивал.
Само собой, никакого флюса у Мейерхольда и в помине не было.
– Можно начинать? – осведомился степенный администратор. – Всеволоду Эмильевичу «фокус не удалей».
– Начинайте.
Заложив руки за спину, администратор вышел на сцену и с профессорской важностью произнес:
– Слово принадлежит Анатолию Мариенгофу, члену ЦК Имажинистского ордена: «Мейерхольд – опиум для на рода».
На одном из театральных диспутов Маяковский сказал с трибуны, обтянутой красным коленкором:
– У нас шипят о Зинаиде Райх: она, мол, жена Мейерхольда и потому играет у него главные роли. Это не тот разговор. Райх не потому играет главные роли, что она жена Мейерхольда, а Мейерхольд женился на ней потому, что она хорошая актриса.
Отчаянная чепуха!
Райх актрисой не была – ни плохой, ни хорошей. Ее прошлое – советские канцелярии. В Петрограде – канцелярия, в Москве – канцелярия, у себя на родине в Орле – военная канцелярия. И опять – московская. А в канун романа с Мейерхольдом она уже заведовала каким-то внушительным отделом в каком-то всесоюзном департаменте.
И не без гордости передвигалась по городу на паре гнедых.
Зима. Большую Никитскую, словно кровать, застелил снег. Застелил будто простыней, отлично выстиранной. Тротуары, как накрахмаленные, похрустывали под ногами.
Из окна нашей книжной лавки Есенин с лирической грустцой поглядывал на улицу.
Вдруг:
– Ух, извини-подвинься… Зинаида!
И, проводив насмешливым взглядом ее крылатые сани, он запел, как старая цыганка:
Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и жалких на вид,
Тихо плететесь вы мелкой рысцою
И возбуждаете смех у иных.
Не любя Зинаиду Райх (что необходимо принять во внимание), я обычно говорил о ней:
– Эта дебелая еврейская дама.
Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице круглом, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ресторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги ее ходили по земле, а потом и по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку. Вадим Шершеневич в одной из своих рецензий после очередной мейерхольдовской премьеры нагло скаламбурил: «Ах, как мне надоело смотреть на райхитичные ноги!» Эпоха, к счастью, была не чересчур деликатной.
Во второй рецензии он написал еще наглей: «Конечно, очень плохо играла Зинаида Райх. Это было ясно всем. Кроме Мейерхольда. Муж, как известно, всегда узнает последним».
На следующий день после неотпразднованной свадьбы Мейерхольд спросил меня (мы снова стали приятелями):
– Как ты думаешь, Анатолий, она будет знаменитой актрисой?
– Кто?
– Зиночка.
Я вытаращил глаза:
– Почему актрисой, а не изобретателем электрической лампочки?
Тогда, по наивности, я еще воображал: для того чтобы стать знаменитой актрисой, надо иметь талант, страсть к сцене, где-то чему-то учиться. А потом лет пять говорить на сцене: «Кушать подано!»
Мейерхольд вздернул свой сиранодебержераковский нос:
– Талант? Ха! Ерунда!
И ткнул себя пальцем в грудь, что означало: «Надо иметь мужем Всеволода Мейерхольда! Вот что надо иметь. Понял? И все!»
Мастер оказался прав. Я бы добавил: «Еще полезно иметь дуру-публику».
Примерно также Мейерхольд относился, по крайней мере на словах, и к драматической литературе:
– При чем тут пьеса? Что такое пьеса? Дай мне справочник «Вся Москва» или телефонную книжку, и я сделаю гениальный спектакль.
Хорошей актрисой Зинаида Райх, разумеется, не стала, но знаменитой – бесспорно. Свое черное дело быстро сделали: во-первых, гений Мейерхольда; во-вторых, ее собственный алчный зад; в-третьих, искусная портниха, резко разделившая этот зад на две могучие половинки; и, наконец, многочисленные ругательные статейки. Ведь славу-то не хвалебные создают! Кому они интересны? Это бы давно надо понять нашим незадачливым критикам.
Про «Всю Москву» и телефонную книжку Мейерхольд охотно говорил, а ставил «Маскарад», «Ревизор», «Лес», «Доходное место», «Смерть Тарелкина».
Наконец, как и следовало ожидать, он задумал «Гамлета».
Одним из первых Мейерхольд рассказал об этом Есенину и мне.
– Чертовски интересно! – сказал я. – Думается, Всеволод, даже поинтересней, чем ставить телефонную книжку.
А Есенин перекрестил члена партии:
– Валяй, Всеволод! Благословляю.
Вскорости Мейерхольд собрал главных актеров и кратко поделился с ними замыслом постановки. Главный администратор спросил:
– А кто у нас будет играть Гамлета? Не моргнув глазом, мастер ответил:
– Зинаида Николаевна. Актеры и актрисы переглянулись.
– На все другие роли, – заключил он, – прошу подавать заявки. Предупреждаю: они меня ни к чему не обязывают. Но может случиться, что некоторые подскажут то, что не при ходило мне в голову. То есть: ад абсурдум. В нашем искусстве, как и во всех остальных, это великая вещь.
Если Станиславский был богом театра, то Мейерхольд его сатаной. Но ведь сатана – это тот же бог, только с черным ликом. Не правда ли?
Как мы знаем по истории прекрасного, в предшествующую эпоху некоторые стоящие служители муз и граций даже предпочитали иметь дело с ним, с сатаной, считая его умней, дерзновенней, справедливей, а потому и выше Бога.
Один из лучших артистов мейерхольдовской труппы, к тому же и самый смелый, неожиданно спросил мэтра:
– Зинаида Николаевна, значит, получает роль Гамлета по вашему принципу – ад абсурдум?
Собрание полугениев затаило дыхание. А Мейерхольд сделал вид, что не слышит вопроса этого артиста с лицом сатира, сбрившего свою козлиную бородку.
В полном согласии с богом, то есть с Константином Сергеевичем Станиславским, я совершенно не переношу на сцене кривляющихся актеров (под видом гротеска) и ставлю на высшую ступень тех, которые могут довести острейший характер до абсолютной правды. Редчайший случай!
Артист, спросивший мастера о Зинаиде Николаевне, нередко бывал очень смешным в сценах трагических и горестным до слез, подступающих к горлу, – в смешных.
Редчайшее дарованье!
Не получив ответа, этот артист поспешно вынул из кармана вечное перо и написал заявку на роль… Офелии.
Результат?
Ну, конечно, Мейерхольд выгнал его из театра.
Этот артист впоследствии везде ругательски ругал Мейерхольда. Но всегда делал это с сияющими глазами. Потому что подтекст неизменно был один и тот же: «А все-таки я его боготворю!»
* * *
Однажды Всеволод Эмильевич с Зинаидой Николаевной приехали в Рим.
Вечный город был напоен истомой.
В каком-то чрезвычайно античном месте они стали целоваться слишком горячо для таких близких знакомых.
И вот вышла неприятность с полицией, которая даже в Италии представляется любящей целомудрие и добрые нравы.
Русские артисты не говорили по-итальянски, а полицейские-итальянцы – по-русски. Не слишком молодой женщине и почти старику пришлось документально доказывать в участке, что они супруги.
– Совершенно законные! – засвидетельствовал перевод чик-эмигрант.
Пораженные полицейские долго и крепко пожимали руки супругам-любовникам:
– Муж целуется с женой! На камнях! Со своей собствен ной женой! Жена целуется с мужем! Со своим собственным мужем!.. Нет, – заверяли блюстители добрых нравов, – у нас, у итальянцев, этого не бывает. Ах, русские, русские!..
Растроганные полицейские отвезли в отель на своей машине Всеволода Эмильевича и Зинаиду Николаевну.
В том же Риме, в доме нашего посла Платона Михайловича Керженцева, Мейерхольд рассказывал о философском замысле постановки «Гамлета», о понимании шекспировских характеров, о режиссерском решении всей трагедии и отдельных сцен.
Ему благоговейно внимала небольшая избранная компания. Так, кажется, пишут салонные романисты.
– Надеюсь, товарищи, – сказал мастер, – вы все по мните гениальную ремарку финала трагедии: «Траурный марш. Уносят трупы. Пальба». Конечно, товарищи, мы воплотим ее беспрекословно на нашей сцене. Творческая воля великого драматурга для меня не только обязательна, но и священна.
Избранная компания благоговейно зааплодировала. Мастер спросил:
– Быть может, кто-либо из товарищей хочет задать мне вопрос? Или вопросы?
– Разрешите, Всеволод Эмильевич? – откликнулся посол.
– Пожалуйста, Платон Михайлович. Я буду счастлив ответить.
– Дорогой Всеволод Эмильевич, вы сейчас с присущим вам блеском рассказали нам решение целого ряда сцен. Даже, казалось бы, третьестепенных. Но…
И посол улыбнулся своей лисьей улыбкой. – Но…
– Неужели я упустил что-либо существенное? – с искренней тревогой спросил Мейерхольд.
– Всеволод Эмильевич, дорогой, вы забыли нам рассказать, как вы толкуете, как раскрываете, какое нашли решение для знаменитого монолога Гамлета «Быть или не быть».
Вся маленькая избранная компания как бы выдохнула из себя:
– Да!.. Да!.. «Быть или не быть»!.. Умоляем, Всеволод Эмильевич!
Хотя вряд ли многие из них помнили вторую строчку бессмертного монолога.
– А-а-а… Это… – небрежно бросил Мейерхольд, – видите ли, товарищи, я вычеркиваю гамлетовский монолог.
И мастер сделал небольшую паузу, чтобы насладиться впечатлением от своего ошарашивающего удара.
– Да, товарищи, я вычеркиваю его целиком, как место совершенно лишнее, никому ничего не говорящее.
– Что?.. – вырвалось прямо из сердца Марии Михайловны, супруги посла.
– Поверьте, товарищи, этот монолог, триста лет по недоразумению считающийся гениальным, тормозит действие.
Почти все сконфуженно закивали головами.
– Кроме того, он всего лишь точное переложение в белые стихи отрывка из философского трактата «О меланхолии», очень модного в ту эпоху.
Тут избранное общество просто замлело от эрудиции мастера, действительно прочитавшего побольше книг, преимущественно переводных, чем провинциальные режиссеры, которым приходилось два раза в неделю ставить новую пьесу.
– Вы, товарищи, вероятно, не согласны со мной? – то ном примерной скромности спросил Всеволод Эмильевич. – Вы считаете…
Аплодисменты не дали Мейерхольду договорить. Только Марья Михайловна простодушно шепнула на ухо своему соседу, военному атташе:
– Он просто издевается над нами.
Супруга посла и в роскошном вечернем туалете от Пуаре осталась сельской учительницей из самой скудной полосы царской России.
– Тише, тише, Марь Михайловна! – испуганно ответил сосед.
Он не хотел показаться невеждой.
О, я так и вижу Мейерхольда на премьере «Гамлета», к сожалению, не состоявшейся.
Вот он сидит на некрашеном табурете, как сатана Антокольского на утесе, и царапает кулису длинным ногтем. Это в том случае, если постановка была бы решена в конструкции.
Вероятно, Полония играл бы Игорь Ильинский.
В моем воображении возникает следующая неосуществленная сцена.
Полоний. Вот он идет. Милорд, уйдемте прочь. Скорей.
(Выходят Король и Полоний. Входит Гамлет.)
Наш сатана спрыгивает с табуретки и, как пойнтер, делает стойку.
Зрительный зал замирает. Два часа он с трепетом ждал:
Быть или не быть? – вот в чем вопрос!
Что благородней для души – терпеть
Судьбы-обидчицы удары, стрелы
Иль, против моря бед вооружась,
Покончить с ними? Умереть, уснуть…
А вместо этого:
– На, выкуси-ка, товарищ публика!
И сатана самого передового театра на земном шаре показывает зрителям нахальный шиш с маслом! Есть от чего прийти им в восторг.
И будущий зал ахает.
А сатана уже сидит на некрашеной табуретке, самодовольно вздернув свой абсолютно неправдоподобный нос.
Очень обидно, что эта поучительная картина оказалась только в моем воображении. Невероятно грустно, что Мейерхольду не довелось осуществить постановку «Гамлета». Пусть даже с Зинаидой Райх в роли принца Датского.
Спасибо, что мастер показал «Горе от ума», то бишь «Горе уму», как похуже сначала назвал Грибоедов свою комедию.
Мейерхольд всегда поступал по украинской пословице: «Нехай буде гирше, абы инше», что значит: «Хуже, да иначе».
А ведь это великое дело! Без него, без этого «инше», все искусство (да и жизнь тоже) на одном бы топталось месте. Скучища-то какая!
Нередко, впрочем, у Всеволода Эмильевича бывали не только «гирше», а и «краще».
Сотню лет кряду Чацкий являлся «чуть свет» перед Софьей этаким кудрявым красавцем. Будто он выпорхнул прямехонько из-под горячих щипцов куафера. И уж конечно – вылощенным проутюженным щеголем. Как говорится, с иголочки.
Словно до Мейерхольда все режиссеры читали книгу, а видели фигу.
Чацкий-то что рассказывает?
Я сорок пять часов, глаз мига не прищуря,
Верст больше семисот пронесся; ветер, буря,
И растерялся весь, и падал столько раз…
И приехал «чуть свет» прямо к Софье, а не к куаферу. Это уж после, к балу, он прикуаферится.
Поэтому у Мейерхольда Чацкий и вбегал (а не «появлялся» перед Софьей) в дорожном зипуне, в теплых шарфах:
Ну, поцелуйте же, не ждали?
А уж после того сбрасывал дорожный зипун, подбитый белым бараньим мехом.
Сколько психологии! Какая правда! Умная, грубоватая правда, не притеатраленная бессмысленным фрачком в корсетную талию. И какое знание горячего благородного сердца! С таким сердцем тогда выходили на Сенатскую площадь. А в кармане – пистолетишко был против всей Российской империи. Потом с николаевской виселицы срывались и, упав на скрипучие доски эшафота, с горечью говорили: «У нас в России даже повесить как следует не умеют».
Именно так представил нам Мейерхольд Александра Андреевича Чацкого, вопреки Достоевскому, который нес на него напраслину, что «сам-то он-де был в высшей степени необразованным москвичом, всю жизнь свою только кричавшим об европейском образовании с чужого голоса».
И, пожалуй, вопреки Пушкину, который был не слишком высокого мнения об его уме. Потому что: «Первый-де признак умного человека – с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому подобным». Не прав Пушкин. И самые умные люди частенько мечут бисер перед болванами.
У Мейерхольда Чацкого играл Эраст Гарин. Совсем уж не первый любовник. И нос с нашлепкой, и волосы не «кудри черные до плеч». Но в голове была мысль и был человеческий огонь в глазах, хотя они и не являлись «черными агатами». Куда там!
Эраст Гарин незадолго до того полюбился Москве в мещанском сынке Гулячкине из «Мандата», комедии не только смешной, но и насмешливой. Она принадлежала перу Николая Эрдмана, нашего юного друга, тоже имажиниста.
Он пришел к нам из Сокольников с медной бляхой реалиста на лаковом ремне.
Мать его – Валентина Борисовна – была почти немкой, а отец – Роберт Карлович – самым чистейшим немцем со смешным милым акцентом. Из тех честных трудолюбивых немцев мастеров, которых так любовно писал Лесков в своих повестях и рассказах.
Эрдмановские синие брюки, без пятнышка и всегда в классическую складку, мы называли «зеркальными». Право, если бы их повесить на гвоздь и в соответствующее место глядеть, можно было бы не только прическу сделать, но и без особого риска побриться безопасной бритвой.
Очень уж милым носом наградила мать-природа Николашу Эрдмана: под стать Гулячкину. С этакой гаринской нашлепкой и еще – с ямочками на щеках. И небольшими умными глазами, чуть-чуть не черными. Совсем черные редко бывают умными. И широкоплечей спортивной фигуркой, когда и руки и ноги в меру. Со всем этим Эрдман так и лез в душу. Как в мужскую, так и в дамскую… что приносит всегда удовольствие, но не всегда счастье. Несколько беспокойно это.
Вначале он поотстал от нас в славе, как пышно называли мы свою скандальную известность.
Пришли мы к ней путями многими, путями нелегкими. Доводилось темной осенней ночью даже московские улицы переименовывать. Отдирали дощечки «Кузнецкий мост» и приколачивали «Улица имажиниста Есенина», отдирали «Петровка» и приколачивали «Улица имажиниста Мариенгофа».
Председатель Московского Совета Л. Б. Каменев, похожий лицом на Николая II, потом журил меня:
– Зачем же Петровку обижать было? Нехорошо, нехорошо! Название историческое. Уж переименовали бы Камергерский переулок.
А в предмайские дни мы разорились на большие собственные портреты, обрамленные красным коленкором. Они были выставлены в витринах по Тверской – от Охотного ряда до Страстного монастыря. Не лишенные юмора завмаги тех дней охотно шли нам навстречу.
– Поотстал, Николаша, в славе, – огорчался Есенин, – поотстал!
И быстро придумал:
– Ты, Николаша, приколоти к памятнику «Свобода», что перед Моссоветом, здоровенную доску: «Имажинисту Николаю Эрдману».
– На памятнике-то женщина в древнеримской рубахе, – задумчиво возразил Эрдман. – А я как будто мужчина в брюках. Да еще в зеркальных.
– Это совершенно не важно! – заметил Есенин не без резона. – Доска твоя все равно больше часа не провисит. А разговоров будет лет на пять. Только бы в Чекушку тебя за это не посадили.
– То-то и оно! – почесал нашлепку на носу имажанист Эрдман. – Что-то не хочется мне в Чекушку. Уж лучше буду незнаменитым.
Тем не менее через несколько лет он туда угодил за свои небезызвестные басни с подтрунивающей политической моралью. Угодил сначала в эту самую Чекушку, а потом и на далекий Север – в Енисейск, в Томск.
Оттуда все письма к матери, милейшей Валентине Борисовне, он подписывал так: «МАМИН-сибиряк».
А во времена лакового пояса с медной бляхой реального училища Коля Эрдман писал лирические стихи.
К примеру:
Все пройдет и даже месяц сдвинется
И косу заплетет холодная струя.
Земля, земля – веселая гостиница
Для проезжающих в далекие края.
Мейерхольдовский Эраст Гарин навестил своего автора в Енисейске.
Он отправился туда весной.
Разлились реки и речушки.
Плыл, ехал и шел двадцать дней.
Багаж навестителя помещался в карманах и в газете, перевязанный бечевкой.
Когда он вошел в комнату ссыльного Эрдмана, у того от неожиданности глаза раскрылись и округлились. По его же словам, «стали как две буквы О».
– Эраст!..
– Здравствуйте, Николай Робертович.
Ссыльный драматург поставил на стол поллитру, селедку с луком и студень.
Выпили. Перекусили. Поговорили малость. Гарин расположился против окна:
– Смотрите-ка, Николай Робертович, гидросамолет сел возле пристани. Может, он на запад летит…
– Вероятно.
– Может, меня прихватит. Пойдемте-ка спросим. Пилот согласился «прихватить», и Гарин через час улетал на запад, так и не распаковав своего багажа… в газету перевязанного.
Через три года в Москве, опять же за рюмочкой и глазуньей, Эрдман спросил Гарина:
– Почему, собственно, Эраст, вы так быстро тогда от меня улетели?
– Да мне показалось, Николай Робертович, что я помешал вам. На столе отточенные карандаши лежали, бумага.
Так хорошие артисты относились к своим авторам, если они тоже были хорошие.
Бог театра шел, шел путями мысли и опыта и наконец-то пришел к системе, которая, как известно, стала называться системой Станиславского.
– Ха, им без системы, как без штанов! – сказал сатана. – Ну что ж, будет им и система. Бабахнем!
Это было еще до поездки в Италию.
И вдохновенно придумал слово: «биомеханика».
С той минуты, что ни собрание театральщиков, что ни заседание, что ни диспут, что ни статья в их журнале: би-о-ме-ха-ни-ка!
О ней, стоявшей на трех китах: «акробатика, гимнастика и клоунада» – Мейерхольд пишет, говорит и докладывает.
У Бога, конечно, – чистейший идеализм!
А у него, у сатаны, – чистейший материализм!
На улице стояла самая беспорядочная погода: ветер, мокрый снег вперемешку с ледяным дождем.
С Господом вовсе не спорница
Богословская наша горница, —
где-то написал Есенин, а потом вычеркнул. Не понравилось. На березовых поленцах мы присели возле жаркой буржуйки. Сумерки сгущались. Но зажигать электричество не хотелось. Поглядывая на фыркающий и кашляющий огонь (поленца-то были сырые), на огонь, всегда располагающий к лирике и философии, мы с Есениным размечтались о золотом веке поэзии.
– Теперь уж недалече, – тихо сказал Есенин.
– Да. Вот стукнет нам лет по сорок…
– У, куда хватил! Значит, по-твоему, он наступит, когда уж мы старушками будем? Нет, не согласен! Давай-ка, Толя, выпустим сборник под названием «Эпоха Есенина и Мариенгофа».
– Давай.
– Это ведь сущая правда! Эпоха-то – наша.
– Само собой, – ответил я без малейшего сомнения. Есенин подбросил в огонь три коротких поленца, слегка пообсохших на горячем животе буржуйки.
При военном коммунизме дрова покупали на фунты, как селедку.
– А следующий сборник, Сережа, назовем по-чеховски. С его эпиграфом на первой странице. Он лихо придумал, да только струсил.
– Ну?
– «Покупайте книгу, а не то в морду!»
– Ох, здорово!
– Может, Сережа, сначала выпустим «В морду!», потом «Эпоху»? Я как раз «Заговор дураков» кончу, а ты своего «Пугачева».
– Правильно!
– За «Эпоху»-то Рюрики Шершеневич не обидятся? Скажут: «А где мы? Почему только ваша эпоха?»
Есенин крякнул и почесал за ухом.
Тут неожиданно явился Мейерхольд. Он был в кожухе, подпоясанном красноармейским ремнем; в мокрых валенках, подбитых оранжевой резиной; в дворницких рукавицах и в буденовке с большой красной пятиконечной звездой. На ремне – полевая сумка через плечо. Только пулеметных лент крест-накрест и не хватало.
– Ты что, Всеволод, прямо с поля боя? – серьезно спро сил Есенин.
– Да! – еще серьезней ответил Мейерхольд. – Прямо из Наркомпроса. С Луначарским воевал.
– Так, так.
Мейерхольд снял полевую сумку, расстегнул ремень, сбросил рукавицы, скинул кожух и, отряхнув с него воду, повесил сразу на три гвоздя, заменяющих нам вешалку. Потом вытащил из полевой сумки свои фотографии. Их называют теперь «фотокарточки».
– Прошу принять. Как знак дружбы.
И торжественно преподнес нам. Мне с надписью: «Единственному денди в Республике».
У этого «денди» было четыре носовых платка и две рубашки. Правда, обе из французского шелка.
Мейерхольд сказал:
– Сережа, Анатолий, завтра приходите ко мне в театр. Ровно в восемь. В репетиционный зал.
– А что такое? – спросил Есенин.
Глаза у Мейерхольда сверкнули сатанинскими молниями:
– Бабахаю.
– Кого, Всеволод? – спросил я.
– Самых главных простофиль.
– ЧКМ? – спросил Есенин.
– Вот увидите и услышите.
Мы пристали: расскажи да расскажи.
– Клянетесь в вечном молчании?
– Клянемся!
– Чем или кем?
– Имажинизмом! – сказали мы без малейшего юмора. – Имажинизмом, Всеволод!
Это было для нас самое святое. Клятва вполне устроила Мейерхольда.
– Отлично.
Он стащил с ног мокрые валенки, чтобы подсушить их возле буржуйки. Но в буденовке с красной звездой почему-то остался. Очевидно, в ту эпоху комната не совсем была комнатой, а как бы залом железнодорожной станции.
– Так вот, – сказал Мейерхольд, – третьего дня я при звал к себе трех самых верных своих негодяев и так же, как сейчас, потребовал: «Поклянитесь в вечном молчании». – «Клянемся!» – «Чем?» – «Театром Мейерхольда!» – ответили ребята. Тогда я спокойно выдал им: банку с тушью, три кисточки и несколько обойных рулонов. «За ночь, товарищи, – сказал я, – вы должны красивейшим образом размалевать эти рулоны: кругами, треугольниками, квадратами, конусами, спиралями, параллелограммами, параллелепипедами и прочей математической ерундой, какая придет вам в головы. Понятно?» Ответили: «Понятно!» Я спросил: «А что, товарищи, вам понятно?» Ответили: «Бабахать будете, Всеволод Эмильевич». – «Правильно! В понедельник у нас в театре читаю лекцию о биомеханике. Перед самой многоуважаемой аудиторией».
Ровно в восемь в понедельник мы с Есениным явились в репетиционный зал. На стенах висели рулоны, красиво исчерченные – кругами, спиралями, усеченными конусами и прочей «геометрией». Для невежд в математике вроде нас вид был до крайности внушительный и до предела чарующий своей безапелляционной научностью.
На венских облезлых стульях, сдвинутых в ряды, чинно сидели члены коллегии Наркомпроса, заведующие отделами, седовласые театральные критики (которых называют «зубрами»), юные развязные рецензентики и юркие хроникеры. А старательные фотокорреспонденты общелкивали рулоны при вспышке магния.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































