Текст книги "Голоса безмолвия"
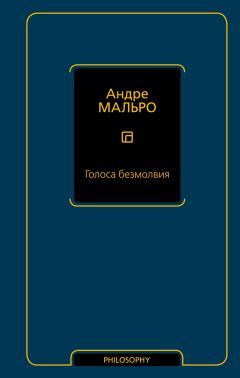
Автор книги: Андре Мальро
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
И прежде случалось, что мазок обретал требуемую ныне автономию, но это всегда служило выражению какой-либо страсти, для которого живопись оставалась лишь средством. «Мир сотворен, чтобы стать прекрасной книгой», – говорил Малларме. В еще большей степени он существовал, чтобы стать такими вот картинами.
Этим объясняется связь между всеми новыми великими полотнами, как и любопытная история идеологии импрессионизма. Отношение между теориями и конкретными произведениями часто выступает в жанре комедии разума. Художники теоретизируют на тему того, что им хотелось бы сделать, но делают то, что могут, и их возможности, порой слишком слабые для их же теорий, оказываются сильнее теорий. Какое произведение больше всего подходит к предисловию к драме «Кромвель»? Это точно не «Рюи Блаз», а скорее «Благовещение». Все теории Курбе меркнут перед его живописью. Одновременно с тем, как Мане буквально вломился в мир искусства, импрессионисты выступили с утверждением своих ценностей во имя более тесной связи с видимым, словно желали получить пленэр, улучшенный оптиками; Сезанн, вскоре за ним Гоген, Сёра и Ван Гог творили самое грубо стилизованное со времен Эль Греко искусство. Теоретики импрессионизма заявляли, что живопись обращается в первую очередь к зрению, но их картины обращались к зрению именно как картины, а не как пейзажи. Пока менялось отношение художника к тому, что он называл природой, теоретики форматировали посредством природы то, что художники (не всегда сознательно, но с похвальным упорством) делали посредством живописи. Важно не то, что берега Сены у Сислея больше похожи на берега Сены, чем у Теодора Руссо. Новое искусство стремилось перевернуть отношения между объектом изображения и картиной, подчинить его картине. Пейзаж должен был покориться художнику, как покорился ему в своем схематичном портрете Клемансо. Отказ считать что-либо, кроме зрения, ценностью означал разрыв с музеем, для которого пейзаж был подчинен знанию и представлению о нем человека; размытый пейзаж импрессионистов был не изображением, а намеком и сильно отличался от пейзажа Леонардо; на самом деле речь шла не о том, чтобы обозреть пейзаж цепким взором и как можно точнее его воспроизвести, а о том, чтобы извлечь из своего видения более выразительную живопись. Мане родился в 1832 году, Писсарро – в 1830-м, Дега – в 1834-м; за два года, с 1839-го по 1841-й, родились Сезанн, Сислей, Моне, Роден, Редон и Ренуар; для каждого из них вселенная стала способом во всеуслышание заговорить собственным языком. Если цепкость взора – не более, чем средство, то цель – преобразование предметов в автономную изобразительную вселенную, специфичную и внутренне логичную. Вскоре начнет работать Ван Гог. На смену изображению мира придет его захват.
Неверно, что современное искусство – это способ «видеть предметы в оптике темперамента», потому что не существует никакого особого способа видеть предметы. Гоген не смотрел на мир в оптике фресок, Сезанн – в оптике объемов, а Ван Гог – в оптике кованого железа. Это искусство осуществляет захват форм в согласии с внутренней схемой, которая принимает или не принимает форму персонажей или предметов, но эти персонажи и предметы являются исключительно средством выразительности. Изначальное стремление современного художника заключается в том, чтобы подчинить своему стилю все, в первую очередь – самый «сырой», самый голый предмет. Его символом служит «Стул» Ван Гога.[10]10
См. картину № 5 на вклейке.
[Закрыть]
Не стул из голландского натюрморта, благодаря окружению и освещению превращенный в один из элементов той умиротворенности, к которой подталкивал все вещи упадок Нидерландов, а изолированный стул (с едва различимым намеком на возможность безрадостного отдыха), похожий на идеограмму самого имени Ван Гога. Латентный конфликт, издавна тлевший между художником и предметами, наконец вспыхнул ярким огнем.
Современный пейзаж все меньше будет напоминать то, что прежде именовали пейзажем, потому что из него исчезает земля; современный натюрморт – то, что прежде именовали натюрмортом. Прощай, бархатистость персиков Шардена; у Брака бархатным выглядит не персик, а вся картина. Прощайте, медные котелки, кухонная утварь и прочие вещи, оживляемые светом; расставшись с блеском голландской посуды, натюрморт у Пикассо познакомится с пачками табака. Натюрморт Сезанна по отношению к голландскому натюрморту – то же, что ню Сезанна по отношению к ню Тициана. Если пейзаж и натюрморт – вместе с их ню и лишенными индивидуальности портретами, обращенными в натюрморты, – становятся главенствующими жанрами, то не потому, что Сезанн любил яблоки, а потому, что в картине Сезанна с изображением яблок для Сезанна больше места, чем было для Рафаэля в портрете папы Льва XI.
Я слышал, как один из великих современных художников говорил Модильяни: «Ты можешь писать натюрморт, как тебе нравится, – любитель будет в восторге; пишешь пейзаж – он опять в восторге; пишешь ню – он в уголке скривит рожу; пишешь его жену… ну, тут все зависит от конкретного случая. Но если ты возьмешься писать его портрет и себе на беду тронешь его морду, то тут, старина, ты увидишь, как он взовьется». Только глядя на собственное изображение, многие люди, даже те из них, кто любит живопись, начинают понимать смысл волшебной операции, которая грабит их в пользу художника. Каждый художник, который в прошлом навязал это понимание, является в каком-то смысле современным: Рембрандт стал первым мастером, чьи модели порой боялись взглянуть на свой портрет. Единственное лицо, с которым современный художник часто «торгуется», это его собственное, и можно много чего нафантазировать, рассматривая автопортреты. Разрыв с фикцией и конец эпохи воображаемого могли иметь всего два последствия: либо прославление абсолютного реализма, никогда, как мы покажем дальше, не существовавшего, поскольку любая форма реализма направляется ценностью, на службу которой ставит свою власть создавать иллюзию; либо зарождение новой главной ценности – полное и громко провозглашенное доминирование художника над тем, что он изображает, то есть преобразование мира в картины.
Пока живопись была средством преображения, это преображение, касающееся портрета или пейзажа (что хорошо показал Рембрандт), признавало за воображением все права и было связано с глубинным потоком фикции. Достаточно представить себе Тинторетто, вынужденного написать три фрукта в вазе – и больше ничего! – чтобы почувствовать его подавляющее присутствие как художника, где оно было бы намного более ощутимо, чем в роскошестве барокко или в зрелищности «Битвы при Заре». Здесь ему пришлось бы совершать над фруктами метаморфозу силами одной только живописи. Художник ни в коем случае не переходил от преобразования к подчинению; он переходил от преобразования к захвату. Понадобилось, чтобы фрукты стали частью его особой вселенной, как прежде они были частью преображенной вселенной. Ожесточение, с каким искусство на протяжении веков стремилось отделить предметы от их природы, чтобы подчинить божественной способности человека, именуемой красотой, повторилось, но на сей раз чтобы отделить их от их природы и подчинить божественной способности человека, именуемой искусством. Яблоки перестали быть яблоками и стали пятнами цвета; изображаемая вселенная, не становясь фикцией, должна была стать живописью; решающее открытие заключалось в следующем: чтобы живопись стала живописью, она должна быть сама по себе.
Если бы демон-хранитель Рафаэля объяснил (не показал, а объяснил) ему, что впоследствии попытается сделать Ван Гог, я думаю, Рафаэль прекрасно понял бы, в чем заключается интерес этой авантюры для самого Ван Гога; но еще больше его заинтриговал бы вопрос о том, в чем заключается ее интерес для других. Но вслед за открытием существования драматического рисунка и трагической палитры было также открыто, что сведение мира к индивидуальной изобразительной вселенной само по себе обладает силой, сравнимой с силой стилей, и что оно представляет собой ценность того же порядка – для всех тех, в чьих глазах искусство имеет какую-то ценность.
И воля к захвату мира заняла огромное место, прежде занятое волей к преображению. Разрозненные формы мира, прежде стремившиеся к вере или к красоте, отныне сошлись вокруг индивида.
Этому индивиду предстояло взять на себя всю неисчерпаемую историю искусства и осмыслить его – и на сей раз без экивоков – как череду примеров создания особого языка; прозрачные акварели Сезанна обретут мощное звучание фресок Мазаччо. А изображение фикции после пятидесяти лет удобной и несерьезной агонии обретет второе блестящее рождение в своей родной сфере – в кино.
Как только живопись прекратила открывать новые изобразительные средства, она пустилась в лихорадочный поиск движения, как будто отныне только движение обладало той же убедительной силой. Но овладеть тайной движения позволяло не открытие новых способов изображения. Погруженность в барочный мир требовала не изменения образа, а последовательной смены образов, и нет ничего странного в том, что это искусство, все состоящее из жестикуляции и сантиментов, помешанное на театральности, нашло себя в кино…
Конкуренция среди «гражданских» проявилась в фотографии. Но фотография, нацеленная на то, чтобы представлять жизнь, и после тридцати лет византийской неподвижности перешедшая к буйству барокко, столкнулась с теми же проблемами. Она замерла там же, где остановилось барокко. Ее паралич был даже сильнее, потому что она не располагала таким ресурсом, как фикция: она могла показать прыжок балерины, но была бессильна продемонстрировать вход крестоносцев в Иерусалим. Между тем, начиная с ликов святых и заканчивая историческими реконструкциями, художники старались изображать и то, чего никогда не видели, и то, о чем знали.
Таким образом, четырехвековые усилия, направленные на то, чтобы поймать движение, в фотографии остановились в той же точке, что и живопись, а кино, позволяющее фотографировать движение, всего лишь заменило неподвижную жестикуляцию подвижной. Чтобы продолжился поиск изобразительных средств, погрязший в барокко, камера должна была стать независимой от изображаемой сцены. Проблема заключалась не в движении персонажа внутри картинки, а в смене планов съемки. Она была решена не техническими, путем совершенствования камеры, а художественными средствами, то есть изобретением монтажа.[11]11
«План» меняется, когда перемещается камера. Последовательная смена планов обеспечивает раскадровку: сегодня каждый кадр длится в среднем десять секунд. – Прим. автора.
[Закрыть]
Пока кино просто показывало персонажей в движении, оно имело не больше отношения к искусству, чем звукозапись или фотографирование репродукций. Актеры на реальной или воображаемой сцене разыгрывали фарс или драму, а неподвижный аппарат снимал их на пленку. Рождение кинематографа как выразительного средства совпало с его освобождением из этого замкнутого пространства, когда раскадровщик, вместо того чтобы снимать спектакль от начала до конца, фиксировал его отдельные моменты, то приближая (чтобы показать лица актеров крупным планом), то отдаляя камеру; но главное, отказавшись от рабской покорности театру, он вместо сцены предложил «площадку» – пространство, где актер мог появляться и исчезать; режиссер больше не был пленником пространства, а сам его выбирал. Средство воспроизведения в кино – это движущаяся фотография, но средство его выразительности – это смена планов.
Легенда гласит, что Гриффит, потрясенный выражением лица актрисы, которую снимал, потребовал сделать еще несколько дублей той же сцены, постоянно приближая камеру к лицу актрисы, пока оно не заняло весь кадр. Так был изобретен крупный план. Эта история показывает, в каком направлении на заре кинематографа вел поиск один из самых талантливых режиссеров; он пытался воздействовать не столько на актера (заставляя его изменить манеру игры), сколько на его отношения со зрителем (увеличивая размер его лица на экране). К тому времени, когда кино осмелилось «резать» изображение персонажей, что повлекло его полную трансформацию, самые посредственные фотографы уже десятилетия как отказались от съемки моделей в полный рост, предпочитая съемку «по пояс» или портретную съемку. Но, если кинокамера не двигается и площадка не меняется, то, сняв одну сцену с актерами «по пояс», пришлось бы и весь оставшийся фильм снимать так же. Так и было, пока не изобрели раскадровку и смену планов.
Следовательно, кино как искусство родилось благодаря раскадровке, то есть после того, как кинематограф получил независимость от театральной сцены. Затем он смог заняться поиском выразительных кадров, восполнив их последовательностью свою немоту. Кино перестало фотографировать театр и превратилось в ярчайшее средство изображения фикции.
К тому времени, когда это произошло, фикция и талант живописца уже полстолетия как расстались. Кино сделало невозможным возврат назад. В изобразительном искусстве на место изображения движения пришел намек на зарождение движения, как мы видим это у Дега или в скифских абстракциях. Великое соперничество между экспрессией мира и фикцией, чем жило официальное искусство, потеряло смысл. Ценности изображения, прежде задававшие тон в живописи фикции, потонули в мире, общем для всех, и были подхвачены кинематографом: стремление соблазнять и волновать, театральный стиль и поэзия, красота персонажей, выражение лиц. В глубине веков – бесстрастная маска, которая бубнит что-то невнятное и исполняет торжественный танец в лучах света; у нас перед глазами – крупный план взволнованного лица, что-то шепчущего из наползающей тени.
Освобождение от фикции обеспечило великому художнику возможность господства над миром, к которому он стремился. Еще никогда в истории один толчок не давал такого обилия настолько разных произведений: Домье, Мане, Ренуар, Моне, Роден, Сезанн, Гоген, Ван Гог, Сёра, Руо, Матисс, Брак, Пикассо… Это многообразие простиралось от воскрешенных Пьеро делла Франчески и Вермеера до романских фресок и искусства Крита, как сегодня оно простирается от недавно открытого полинезийского искусства до шедевров Китая и Индии. Микеланджело собирал антики, Рембрандт (по его словам) – доспехи и лохмотья, а витрины мастерской Пикассо, в которых день за днем выставляли его произведения, свидетельствующие об исчерпании конфликта между художником и формами жизни, представляли собой варварский музей. Множество форм индивидуализма готовило приятие многообразного прошлого, в котором каждый стиль воспринимался как забытый художник. Мастера монастырей Вильнёва и Ноана, Грюневальд, Эль Греко, Жорж де Латур, Уччелло, Мазаччо, Тура, Ленен, Шарден, Гойя (в 1850 году «Герцогиня Альба» была продана за семь ливров) и Домье были либо открыты, либо вознесены (или возвращены) в первый ряд; вновь возникали из небытия все более архаичные искусства – от Фидия до «Коры Эутидикоса» и Крита, от Ассирии до Вавилона и Шумера. Все они явно объединены произошедшей с ними метаморфозой в области, вытеснившей концепцию красоты; это выглядит так, словно раскопки показали нам одновременно прошлое мира и его будущее.
Произведения не попадают в воображаемый музей, отвергая историю, – в отличие от классических произведений, попадавших в собрания коллекционеров; с историей их объединяет сложная связь, которая иногда рвется, потому что метаморфоза, если и затрагивает историю, то затрагивает ее иначе, нежели произведения искусства. И если нам известны другие цивилизации помимо той, что определила европейскую традицию, это знание не в такой степени изменило наши взгляды, как на наши чувства воздействовали произведения искусства. Воскрешенные мировые шедевры, последовательными волнами наполняющие первый Воображаемый музей, выстраиваются, пусть пока на ощупь, согласно мировому порядку. Мы показали, как предчувствие этого порядка, связанное с открытием того факта, что ценности искусства и ценности цивилизации не обязательно совпадают, изменило наше отношение к Греции; не меньше меняется и наше восприятие искусства как такового, когда мы смотрим на греческие статуи через призму существования всего Древнего мира; когда на смену конфликту умирающего Рима с торжествующими победу племенами приходит вражда умерших Дельф с Востоком, Индией, Китаем и нероманизированным варварским миром. Когда значительную часть нашего художественного наследия мы получаем либо от тех, чье представление об искусстве отличалось от нашего, либо от тех, для кого понятия искусства вообще не существовало.
Часть вторая
Метаморфозы аполлона
I
Когда умер Цезарь, от того, чтобы было освобождением человека, остались лишь образы сладострастия или гордыни. XIX век видел следы их разложения, сопровождаемого распадом империй, в галло-римском искусстве – «упадническом» искусстве Запада. Но, каким бы фрагментарным ни было наше нетерпеливое знакомство с этим искусством, мы понимаем, что упадок затронул весь античный мир: Галлию, Испанию, Египет, Сирию, Аравию, Гандхару, Бактрию. Упадок – такая же распространенная и такая же значимая часть искусства, как и та, что начинается с дельфийского Акрополя и заканчивается с воцарением Константина. Античное искусство одержало больше побед, чем любой завоеватель, и объединило империю Цезаря с империей Александра; но, едва античный человек ослабел, Великий Упадок охватил весь мир, от Нарбонской Галлии до Мавераннахра.
Понятие «упаднического» искусства вновь появилось (вновь – потому что в XVI–XVIII все средневековое искусство считалось упадническим) в связи с произведениями, которые казались неумелыми копиями тех, что были созданы исчезнувшей или распадающейся цивилизацией. Наше представление о неумелости не всегда совпадает с тем, что бытовало в XVII веке, но, если – не без осторожности – предположить, что великий художник всегда делал то, что хотел делать, можно ли то же самое сказать о каждом скульпторе? Время отбросило в разряд почти примитивных произведения, которые при своем появлении слыли образцами мастерства… В том, что существуют формы неумелости, нет никаких сомнений, но они не являются попыткой проявить умелость. Они – знаки, часто связанные с элементарными действиями, необходимыми, чтобы что-то изобразить: раньше нос лепили из глины, сегодня – из хлебного мякиша, но движения пальцев одни и те же; непритязательная сложность «человечка» (голова, две палки – руки, две палки – ноги, палочки поменьше – пальцы) – принадлежит той же области, что и пятно или дырка, изображающая глаза. Классическая эпоха видела «детскость» в искусствах, не похожих на ее собственное, потому, что верила, что в искусстве бывает детство, и потому, что понятия не имела о детском искусстве. Кто сегодня спутает последнее с романским искусством? Бывают неумелые художники, но не бывает неумелых стилей.
Крайняя форма упаднической копии – это, очевидно, знак. Но он не сохранился, и мы не имеем возможности сравнить собрание знаков с единством того или иного стиля. Ему было трудно сохраниться еще и потому, что он использовал недолговечный материал: как египетской статуе нужен гранит, так знаку нужен кусок угля или мела… Стоит его высечь на камне или изваять, и он меняется. Пока полыхало восстание багаудов, римская форма, вроде бы связанная с ним, встретилась с формами Великих нашествий; персонажи с пряжек бургундских поясных ремней ближе к фетишам, чем к условным цыганским знакам. Таким образом, можно сказать, что в упадническом искусстве унаследованные из прошлого и утратившие смысл формы видны нам лучше, чем новые и только зарождающиеся. Галло-римское искусство пребывало в упадке так долго, что имперские формы заметны в нем отчетливее, чем те, которым предстояло стать романскими; но если бы в них была видна только агония имперских форм, никакого галло-римского искусства не существовало бы, а были бы только предметы галло-римской эпохи. Искусство живет тем, что привносит, а не тем, что отбрасывает. Идея упадка приложима к конкретному искусству, а не к искусству вообще; искусство, которое распадается на идеограммы, находится в упадке; искусство, ищущее новый стиль (оба процесса часто идут одновременно), в упадке не находится; очевидно, что романское искусство не есть пришедшее в упадок античное искусство.
Одно плохо изученное искусство позволяет нам успешнее, чем на примере многих хорошо известных варварских искусств, проследить за изменением стилизованной формы, двигавшейся то в сторону упадка, то в сторону нового смысла. Это искусство кельтских монет. Увеличенное фотографическое изображение открывает для выбитых на них рисунков область, прежде им недоступную – как в силу их малого размера, так и в силу самой их природы. (После фотографии, которая воспроизводит оригинал, появляется кино, не имеющее оригинала; в нашем случае оригинал – всего лишь источник увеличения.) Какой бы смутной ни представлялась преемственность форм, распространившихся от Англии до Трансильвании, можно задаться вопросом, какие метаморфозы эти формы навязали греческим монетам. С одной стороны, от изображения к знаку; с другой – от гуманистической экспрессии к варварской. Потому что в основе всех этих монет лежит статер, отчеканенный Филиппом II Македонским.
Чем больше македонские монеты удаляются от Средиземноморья, тем заметнее преображается на них Гермес. Его галльские «имитации» больше не имеют с ним ничего общего: уже на монетах каталонской Роды мы находим очертания Тенских рельефов (так множество видов китайского искусства отмечены одним и тем же угловатым акцентом). Их профиль составляется методом спрессованного лепного коллажа, отличного от шумерского, и на монетах, «имитирующих» каталонские, воспроизводит перекрученную косу – признак высшей власти. Разумеется, в этих изображениях просматривается влияние глиптики, но, как только мы к ним привыкаем, они теряют черты сходства с шумерскими печатями и резными камнями. У армориканских озисмиев и на острове Джерси эти монеты – через сколько промежуточных звеньев? – обрели полную свободу и оригинальность, заставляющую забыть про статеры Филиппа.
Вскоре рельеф станет менее выпуклым, но рисунок сохранит манеру оконтурирования объема толстыми линиями, как на рельефной мозаике. Изображение на монете паризиев напоминает рисунок мелом по черному фону, но его линии очерчивают те же объемы, что на предыдущих профилях: их можно без труда реконструировать, и им же принадлежат две выпуклости, обозначающие выступ рта. На монете есть неровности, возможно, появившиеся в силу износа либо по воле чеканщика, но они выстраиваются в мощную барочную линию.
На другом своем полюсе это искусство преобразует в рельеф традиционные углубления, не теряя при этом сложного единства кельтских объемов. В данном случае мы имеем дело с редкими сохранившимися образцами, и понадобится немало исследований, чтобы наши предположения стали историческим фактом, но первые же художники, пришедшие после македонского Гермеса к согласию форм, превосходным свидетельством чему служат монета озисмиев или монета куриозолитов, являются теми, кого сегодня мы называем мастерами. У куриозолитов волосы, нос и губы имеют выпуклую форму, как и у озисмиев, но если у первых веки выпуклые, то у вторых представляют собой углубления, как и глаз, хотя раньше и он был выпуклым. Но главным образом щека, почти всегда представляющая собой самую объемную деталь, – плоская и менее выступающая, чем лоб. Нижняя часть лица, от затылка до подбородка, – сплошная абстракция, и такой же абстракцией предстает то, что соединяет нос с завитком шевелюры. Лучшие из чеканщиков этих монет отличались друг от друга не меньше, чем романские скульпторы.
По какой причине они меняли элементы средиземноморских монет? Потому что не понимали заключенного в них смысла? Или потому, что этот смысл их не интересовал? Летящий по ветру плащ возницы колесницы они заменили щитом – потому, что очертания плаща стерлись, но и потому, что им захотелось выбить щит; затем щит сменит крылатая фигура. А когда вместо уха они изображали солнце, они что, не знали о существовании ушей? Лошадь с человеческой головой – широко распространенный тогда образ – это не ошибка толкования. Редко какому художнику удавалось на таком крошечном пространстве нарастить выбранную им живую форму на смутный, но неразрушимый скелет своего стиля: неровное пятно, изображающее на марсельской монете льва, превратится в силуэт кальмара. Жемчужное ожерелье классических монет, снятое с шеи, украсит армориканские монеты доисторическими шариками. Перечень этих замен был бы познавательным, но разве нам неизвестно, что точно они обозначали? От «порчи» к «порче» голова Гермеса на статерах Филиппа разрушалась, но в результате этого разрушения возникла голова льва.
На разных концах Европы варвары попытаются заново собрать голову Гермеса, руководствуясь собственными законами. Или это им удастся, или лицо исчезнет окончательно.
В последнем случае монета приобретает модернистскую двусмысленность. Чеканщик одержим круглой поверхностью, которую намерен покрыть абстрактными линиями, как современный художник одержим прямоугольником холста. На смену абстрактным фигурам атребатов, еще оживляемым подобием движения, наводящего на мысль об Андре Массоне, в Англии и в области Соммы приходят статичные композиции безумной структуры, тем более удивительные, что монеты – это вид искусства, не предполагающий одиночества (как и негритянское искусство)… Нумизмат еще увидит здесь какие-то знаки – скульптор не увидит ничего. На месте глаза – никакого глаза, на месте носа – никакого носа, зато устрашающего вида серп, под ним – кольцо, а рядом – шарик.
Одним из самых частых мотивов, появляющихся на реверсе монет, был крылатый конь. И цивилизованным народам, и варварам было легче договориться между собой по поводу коня, чем по поводу человека: и Александр, и Верцингеторикс оба были – помимо всего прочего – предводителями конницы. В Аквитании конь становится геометрической фигурой, которая, впрочем, не сводится к его геометрии; иногда изгиб его шеи перекликается с передней ногой и тем местом, где должна быть голова всадника (заменившая крыло), тогда как тело всадника, задние ноги и хвост коня изображены прямыми линиями, а его гриву образуют варварские шарики. У лемовицев конь соответствует своему фантастическому всаднику; у паризиев мы встречаем его – с крыльями, но без всадника – выписанного арабесками, почти по канонам орнаментального искусства, напоминающего росписи персидского фарфора.
Но Восток тут ни при чем. И даже степи ни при чем. Для искусства степи, чем-то напоминающей Альтамиру, обычно наличие животных, закованных в броню и сталкивающихся в поединке; это столкновение, такое же характерное, как фронтальность для Египта, мускулатура для Ассирии или свобода для Греции, здесь уступает место расщеплению. Даже когда исчезает нервная структура Арморики, даже когда в Дордони, краю пещер, монеты словно спускаются в глубь времен в поисках тотемного кабана, каждая линия на них приобретает вид сломанной кости. Повсюду конь распадается на куски, как и человеческое лицо, и, как и оно, умирает – там, где мы видим его смерть, – чтобы превратиться в рассогласованную идеограмму.
Эти «композиции» тем заметнее отличаются от знаков, что от некоторых племен, например от велиокассов, остались монеты, представляющие собой чистые знаки. Варварская экспрессия, в армориканских монетах более агрессивная, чем в «Богах с молотком», и более пылкая, чем даже экспрессия голов в святилищах Рокпертюз и Антремон, здесь исчезает – если предположить, что она когда-либо присутствовала у велиокассов; примет, характерных для композиций Соммы, здесь также нет. Линии идеограмм скорее играют роль надписей, чем складываются в рисунок. В лучших армориканских и английских фигурах разрушается внутренняя логика их классических «моделей», зато появляется другая логика, тогда как идеограмма выражает не идею фигуры, а идею двух кос, или повязки, или носа, или глаза. Если не знать ее происхождения, прочитать ее целиком невозможно, а ухо превращено в ней в солнце. Это уже не метаморфоза, а полнейшая регрессия: в этом искусстве, и не только в нем, торжество знака есть признак смерти.
Но разве подобный стиль использовался только в чеканке монет? Мы угадываем его в некоторых металлических галльских статуэтках; современное ему деревянное искусство до нас не дошло. Во всяком случае эти статуэтки показывают, что македонский Гермес был побежден варварской волей, достаточно ясно, чтобы определить в античных формах от «Дамы из Эльче» до Лунмыня, в какой своей части они пережили метаморфозу, а в какой поддались агонии.
Там, где шел распад римской цивилизации, искусство великого упадка проявлялось не так заметно, как в местах, где эта цивилизация претерпевала метаморфозу. Авторы надгробий Арля и сланцевых пещер Гандхары робко разрабатывали те же коренастые формы; какой скульптор согласится признать, что мастер, способный изваять эти фигуры, придав им единый стиль, что мы наблюдаем, не постарается изготовить более точную копию?
Неумелость копииста разрушает стиль, а не создает новый; но и самый неловкий ремесленник без труда воспроизведет скульптуру в нужных пропорциях. Передача движения требует обучения, что, наверное, вызывает вопросы, но скульпторы Упадка отказались не только от передачи движения, но и от смягчения очертаний. Какая неловкость могла бы помешать им сгладить углы? Скульпторы заменили греко-римскую драпировку тяжелыми, часто глубокими параллельными складками; и если интуитивный поиск толкал их на путь создания символических изображений, открытый три тысячелетия и отброшенный шесть столетий назад, то это происходило потому, что разрушалось римско-александрийское представление о человеке. И в Византии, и в Бактрии агонизирующие империи смотрели на Афродит и Венер так же, как мы смотрим на восковые головы в витрине парикмахера; они их видели, но не принимали.
Это искусство принято называть народным. Но к этому слову следует относиться с осторожностью, поскольку сегодня его смысл включает намек на некую наивность. По мнению Мишле, искусство народа или, по Евангелию, нищих духом подразумевает его внезапное преображение, в результате которого рождаются религии или происходят революции. Но так ли это? На самом деле это искусство темных веков; превратившись в аристократическое и профанное, оно агонизирует, способствуя появлению религиозного и даже теократического; романское искусство тоже называли народным. Греческое искусство стало аристократическим в силу традиции и преемственности культуры. Но искусство эпохи великих переломов отвергает традицию (в данном случае шло отвержение как раз эллинской культуры). В это время исчезает художник, каким он виделся в Греции. Его покорное следование традиции требовало поиска средств, способных обеспечить преемственность с ней; зачем ему было изучать анатомию и академический рисунок, если то, что получалось у него лучше всего, потеряло всякую ценность? Искусство обращается к умелости только в цивилизациях определенного типа…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































