Текст книги "Голоса безмолвия"
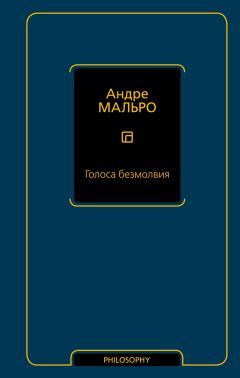
Автор книги: Андре Мальро
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Ремесленники эпохи Упадка, как и все ремесленники, копировали, но копировали они не античные образцы, а то, что заимствовали из этих образцов создатели варварских и буддийских форм, а также то, что у них самих заимствовали византийские художники: прорезанные, а не выпуклые складки, в Азии – опущенные долу глаза, в Византии – акценты Востока. Но если ремесленничество связано с прошлым, то искусство нацелено на будущее и освещено светом будущего; его история – это история его шедевров. Мы покажем, как с помощью этих шедевров строился новый мир и разрушался старый. Гений неразрывно связан со своими корнями, но не только: подобно пожару, он есть то, что сжигает.
II
Если в Европе эпохи Великих нашествий и в Византии античные формы столкнулись с варварством и христианством, то в македонских царствах Индии их ждала встреча с Буддой.
Нельзя сказать, что в то время греческая и буддийская душа разговаривали на разных языках: хотя буддизм ведет происхождение из Азии, это не восточная религия. Женщины Кашмира и Гандхары с белыми розами в сложенных руках, с ласковой почтительностью преклоняющие колени, не имели восточной привычки простираться ниц перед Божественной сущностью. Если в Греции свободный человек стремился уравнять свои шансы с судьбой, то буддист мечтал ее как минимум избежать. Он надеялся освободить человека от поступков и метаморфозы, от собственной воли и космоса; два потерянных ребенка, взявшись за руки, шагают по мертвому городу; им досаждают обезьяны, над ними летают неповоротливые павлины… Реинкарнация, о которой Древняя Индия не имела представления, растворяла жизнь в вечности. Философия буддизма была гораздо теснее связана с Ведами, чем это предполагали в XIX веке, но индийская судьба была так тяжела (с каким пылом Будда призывает «выйти из Колеса сансары»!), что от звуков печальной проповеди, произнесенной в Парке газелей и накрывшей мир состраданием, казалось, зацвели бескрайние степи. Центральная Азия находила в греческих формах иную свободу. Но греческая свобода была многообразной, как многообразен человек. После Александра, все больше тускнея, она одновременно становилась более доступной и для Азии. Достигая Памира, Аполлон с фронтона Олимпии нередко превращается в солнечное божество. Цари из сланцевых пещер вполне могли бы принадлежать искусству барокко, но они принадлежат окостенелому эллинистическому искусству. Буддийское освобождение было суровым и узким, как и Путь Будды: в искусстве абсолют всегда приобретет форму чувства, которое к нему ведет. На лицах буддийских статуй застыло выражение избавления, а лицо человека, освободившегося от тягот жизни, – если его путь уникален, – повторяет лицо того, кто служил ему посредником.
В лице брахманизма и множества примитивных религий, на которые Индия, судя по всему, не оказала заметного воздействия, эллинизм и буддизм столкнулись с общим противником. Проповедь буддизма пришлась на правление индийского царя Ашоки, но в его защиту выступили также греческий царь Менандр и индоскифский царь Канишка. Но греко-буддийское искусство, знакомое нам лучше всего, появилось спустя пятьсот лет после смерти Александра. По всей видимости, поначалу с эллинистическими статуями конкурировали только «народные» скульптуры; установленные у подножий Памира за два века до того, как туда проникло Учение Просветленного, они представляли собой единственную достаточно разработанную форму творчества.
О том, как проходила эта встреча, нам не известно ничего. В греческих царствах Центральной Азии, отрезанных от эллинистического мира парфянским завоеванием (но не оторванных от их культуры, как это наблюдалось в Южной Африке, отрезанной от Великобритании), александрийские формы сохранялись вплоть до правления Менандра I, как они будут сохраняться и в царствование индоскифских владык, несмотря на влияние кушанского искусства. Но мы по-прежнему считаем, что они заметно изменили индийское или бактрийское искусство – потому, что эволюционировали в Центральной Азии, а также, может быть, потому, что, хоть мы и склонны об этом забывать, буддийская проповедь проникла в эти регионы относительно поздно. Скорее всего, они оказали глубокое и многократное влияние на автохтонные формы. Но в первую очередь – и чаще всего – они сами подвергались трансформации. До того, как они добрались до Индии и Ганга, а также Китая, они не столько воздействовали на чужую культуру наподобие вируса, сколько служили ей исходным материалом. Романское искусство возникло в результате завоевания Византии Западным миром, а не наоборот; пришедшее из Греции искусство выжило не потому, что поглотило местные или индийские искусства, а потому, что трансформировалось в буддийское искусство.
Кроме того, буддизм прокладывал себе путь не намного быстрее, чем христианство прокладывало свой. Буддийское искусство, развивавшееся одновременно с искусством индийских художников-анималистов, самых виртуозных в мире, и под властью царя, который приказывал сажать вдоль дорог деревья («чтобы под ними отдыхали люди и животные»), практически не интересовалось темой животных. (Как, кстати, и францисканское искусство.) Оно стремилось показать Мудреца, которого до этого изображали символически, как впоследствии будут изображать Христа на фресках римских катакомб. Поначалу оно вроде бы повторяло стиль ранней сланцевой скульптуры: арльские процессии, замершие в византийской неподвижности; торжественный параллелизм фона и персонажей – повсюду, от Атлантики до Инда, мы видим агонию радостного возбуждения, характерного для Панафиней. Это тяжеловесное искусство индийских украшений, напоминающих ожерелья из тубероз для жрецов; порой оно достигает пронзительной поэтичности, ибо больше нигде в мире голос умирающей Греции не звучал так причудливо, как у врат Памира, где Индия встречалась с татарской пустыней, как на юге она встречалась с малайскими джонками. Это немного примитивное искусство, как и все умирающее греко-римское искусство, что в Провансе, что в Пальмире. Но вдруг – голова из черного камня, возможно, голова божества, которому поклонялся Гелиогабал… И завоеватели с курчавыми усами.
Затем наступает время имитации. Оно продлится несколько веков, и в нем без привязки к конкретным датам перемешаются образцы искусства упадка и многократно повторенные копии, иранские реминисценции, отголоски искусства эпохи Флавиев и китайские портреты: складывается впечатление, что через эти пустынные врата шли и шли караваны с музейными ценностями.
Первые афганские Будды – это копии Аполлона, дополненные атрибутами мудрости: точкой между глаз и шишкой на макушке. Лицо Аполлона – это символ, как римский Гермес Криофор – символ Доброго Пастыря, то есть Христа. Буддизм и христианство – две религии, в которых больше этики, чем метафизики, – имели в основе биографии иной природы и гораздо более точные, чем истории Осириса, Зевса или Вишну, следовательно, должны были не только представить персонифицированного Бога – Иисуса и Сиддхартху, – но и показать, что именно делает их Христом и Буддой. Они могли временно использовать символику Аполлона или Доброго Пастуха, но не могли воспроизвести их изображения. Только создание собственного стиля позволило бы выразить божественную сущность того и другого.
Греция враждебно относилась к абстрактным знакам; скульпторы сочли бы естественным, если бы высшую мудрость они попытались выразить через безупречную красоту. Но ни буддистские жрецы, ни самый дух буддизма долго не могли смириться ни с неукротимой свободой, которой дышат греческие формы, ни со сладострастием, которое к ним всегда добавляет Азия. Попутно с тем, как в каменной скульптуре эллинский танец сменялся неподвижным параллелизмом тел, маска Будды приспосабливала под себя монашеские одеяния, переставшие быть тогами, и украшения из Центральной Азии, но главное – она должна была отречься от автономии человека, которая была формой греческого триумфа; это отречение, как позже в Галлии и в Византии, приведет к каталептическому стилю вечности. Греческий дух подарил буддизму свой изобразительный талант, оживил – похоже, впервые – сцены из жизни Мудреца и заменил пустовавший трон, прежде символизировавший Просветление, его образом. Но на смену дворцу пришел монастырь. Скульптуры исчезли с площадей и переместились туда, где человек осмеливался лишь повторять за священнослужителем ритуальные жесты. Вскоре каждому мгновению жизни Будды в скульптуре будет соответствовать символический жест. Мы чувствуем, что даже в самом изображении Будды появляется намек на запрет его изображать – пустующий трон Просветления, вытесненный было Просветленным. Искусство отныне обращается к человеку не в его повседневной жизни, а в ее исключительные часы, когда ему в присутствии Посредника открывается смысл существования. В любом буддийском монастыре греческое искусство предстало бы еще более развязным, чем на Афоне или в монастыре Гранд-Шартрёз. Для искусства сосредоточенного раздумья отныне будут чертить линии тишины.
Его история – это прежде всего история обретения неподвижности. В христианстве доминирует идея искупительного страдания; в буддизме – образ безмятежной медитации. Отсюда – с каждым веком все более низко опущенные веки и все более сжатое письмо, в результате которого на китайских изображениях Будда «замкнут» сам на себя. Отсюда же – складки плаща, все плотнее облегающие тело; отсюда – абстрактное изображение самого тела. Античное, особенно александрийское ню – все в движении; Будда не только неподвижен – он избавился от необходимости двигаться.
Таким образом, первой мишенью стал жест. У Аполлонов некоторое время не трогали голову, потому что она была знаком; но, чужая в этом мире неподвижной задумчивости, она часто кажется привнесенной извне. Между тем, Аполлон постепенно становится противником. Идет поиск новых, отличных от него форм, воплощающих ту же освободительную силу. Вместо плавного перехода появляется грань, хотя античная линия сохраняется. Но объемность скульптурных лиц Гандхары слишком отличалась от архитектурной объемности архаической Греции, чтобы затвердевшие черты Аполлона напоминали лицо Возничего. Линия, сменившая текучие контуры рельефов, служила уже не архитектуре, а скорее каллиграфии. На фресках Бамиана глаз похож на орнамент, выполненный пером; очертания тонкого кривого носа, сменившего греческий, повторяют – независимо от этнической принадлежности владельца – фигурные скобки губ…
Появление этой каллиграфии не случайно. Византия тоже обратится к каллиграфии, но другой, угловатой. Запад в иллюстрациях к рукописям эпохи Меровингов изобретет свою, смягчив до хрупкости в рисунках Адемара де Шабанна; романское искусство, едва избавившись от сурового гения Отёна и Клюни, вновь вернется к каталонским завитушкам. Каллиграфия Гандхары эволюционирует в индийскую живопись, связанную с танцем, и ее изгибы будут все больше напоминать силуэты баядерок, которые скользят в тени Аджанты с византийской ритуальной строгостью. Тогда кудрявый рисунок Виллара де Оннекура и рисунки на наших изделиях из алебастра перекинутся на мелкие статуэтки из слоновой кости, чтобы вскоре затеряться в гофрированных складках готики…
У каждого искусства своя каллиграфия, и великие произведения заимствуют ее, хотя не всегда повторяют. Так же, как в Западной Европе и Византии монументальные стили развивались параллельно с каллиграфией, которая им сопутствовала, но не оказывала на них серьезного воздействия, в дружелюбный стиль Гандхары проникали (возможно, под влиянием Ирана) формы, определившие греко-буддийское искусство в его противостоянии Греции. Почерк и объем займут в нем то место, какое в живописи принадлежит мазку. Вновь появляется острая грань, хотя щеки остаются выпуклыми; но губы и веки, даже тонкие, кажутся высеченными ножом – как у «Дамы из Эльче», как у романских голов.
С рождением нашего средневекового искусства формы, выработанные в Античности, встретятся с низкой культурой, одновременно крестьянской и милитаристской, в душу которой христианство племен вбило свой вырубленный топором войны крест. В Азии те же античные формы встретятся с культурой «Вопросов Милинды», в которой легендарный Менандр слушает диалоги греческих философов и буддийских богословов. У нас – плуг, и секира, и древний призыв вояк с размалеванными красной краской лицами; здесь – толпы, приветствующие желтыми лилиями проповедника, сидящего под памирским тополем или пламенеющим королевским делониксом… Степь была рядом, но оазис бережно хранил и свои статуэтки из слоновой кости, и свою стеклянную посуду, и свои украшения, и свои ритуалы; в высокогорных долинах эллинистическое искусство встречалось не с Меровингами с их практикой казни негритянских царей, а с изысканностью манер. Четвертый буддийский собор возглавлял индоскиф Канишка. Замена гипса – материала более хрупкого – синим сланцем имела свои причины и не обошлась без последствий. Там, где торжество сострадания объединило мир, подарив живым лицам прежде неведомую буддийскому искусству улыбку, так называемые гуманистические формы, по-видимому, стали на службу этому робко торжествующему состраданию, которое сами же срежиссировали; но им пришлось изменить концепцию гуманизма. У нас они послужили смягчению готики и папскому блеску; тем не менее мастера Реймса, Джотто и Микеланджело не стали ни Фидием, ни Лисиппом. Термин «готико-буддийский», под которым понимают некоторые из этих произведений, оказался удачным в том смысле, что он проводит различие между ними и ранней сланцевой скульптурой, например головами Аполлона, но они уже не имеют отношения к готике и принадлежат Возрождению. Те из них, что наиболее близки к «Реймсской улыбке», объединяет с ней не техника лепки: они далеки как от Микеланджело, так и от Праксителя, если сравнить, например, глаза и рты. Общего в этих улыбках немного: это трудно уловимая нежность, благодаря которой греческая идеализация, преображенная состраданием, смыкается с готикой, во всем христианстве признававшей только ангелов…
Удивительная история искусства Гандхары привлекает внимание скульпторов именно потому, что оно встретилось с Возрождением, не зная ни романского стиля, ни готики. Оно открыло неподвижность, но не религиозный ступор и перешло от Античности к Джотто через Никколо Пизано, минуя Средневековье и не задумываясь ни об аде, ни о сакральном. Буддизм, стремясь в лике Просветленного выразить высшую степень мудрости, вынуждал художников из каждой универсальной иллюзии извлекать элемент, связанный с избавлением; он стилизовал мир, чтобы превратить его в жемчужину безмятежности, как египетское искусство стилизовало его, чтобы превратить в жемчужину вечности.
Именно тогда это искусство займет – с еще большим размахом, чем римское искусство в Европе – место эллинистического и, вытеснив его, вступит в контакт с Индией, Китаем и смертью.
В V веке в Индии, в правление династии Гуптов, оно породило – в каком-то смысле помимо собственной воли – скульптуру крупной формы. Хотя искусство Гандхары обрело свое лицо не на пути подражания эллинизму, а на пути освобождения от него, на самом деле греческий дух в этом эллинизированном регионе глубоко проник в буддизм. В Матхуре он столкнулся с буддизмом Ганга. Исследователи долго анализировали его влияние на индусское искусство. Оно проявлялось не через статуи Гуптов; точно так же нельзя сказать, что вечная Индия просто присвоила его. Будда из Матхуры не имеет ничего общего ни с его представлением в храмах Санчи, ни с его изображением в Амаравати. В нем мало индийского, но не больше и эллинистического. Если искусство Гандхары и воздействовало на формы, предшествующие его вторжению, то как своего рода фермент; точно так же буддизм придал брахманизму универсальность, на которую тот не претендовал; из Индии появлялись произведения искусства, прежде здесь незнакомые. Вернувшись, буддизм вынудил Индию искать достаточно очищенный образ, чтобы в нем узнал себя весь буддийский мир, и он действительно себя в нем узнал – от Ганга до Чампы, от Цейлона до Явы. Влияние эллинизма выдохлось. Вплоть до подъема брахманизма Будда будет принадлежать одной только Индии.
Но вскоре на острове Элефанта будет изваян Махешамурти…
Греко-буддийское искусство проникло в Китай не через индийские врата, а через пустыню. Прежде чем в песках и на фоне гималайских голубых маков завершилась и была похоронена его феерическая история, оно успело коснуться Юньгана и Лунмыня.
Колоссальная статуя Будды в пещерах Лунмынь, вне всякого сомнения, принадлежит ему. Окружающие ее другие изваяния она как будто вытянула из старых китайских гор. Но откуда в них эта романская жесткость? По всей видимости, Север вырывает всюду, идет ли речь о растении, атлете или купальщице, вырывает цветущую греческую форму, чтобы подчинить ее песчанику; скорее всего, ему неведомы были плавные линии наскальных сасанидских барельефов. Но разве Тибет и Памир не создали ничего сравнимого с этими соборами одиночества? Складывается впечатление, что этих статуй-паломников, преодолевших бесплодную Гоби и добравшихся до Тихого океана, внезапно коснулось Просветление. В Китае возникает подлинно религиозное искусство, не меньше, чем романское, отличное от сакрального искусства Древнего Востока: человеческая драма отныне разворачивается на земле, словно звезда, которую узрели Пастухи, навсегда изменила суровый небосвод Халдеи.
Разумеется, гуманизм китайской цивилизации, беспощадный по необходимости, принял буддизм, не подвергая его – в отличие от Индии – постоянной угрозе метафизического переосмысления, способного выхолостить даже его вселенское сострадание. Китай продемонстрировал непревзойденное качество стиля. Волшебная геометрия Цинь намного превосходила роскошь индийских искусств. Смиренный или бунтующий, индус является частью космоса, тогда как древнейшие китайские чеканки выражают если не власть человека над судьбой, то по крайней мере его независимость от судьбы, постоянное желание освободиться от ее диктата. (И даже в космическом единении между Плясками смерти и живописью Сун лежит огромная дистанция.) Великое китайское искусство стремится достичь выразительности идеограммы. В самых чистых образцах искусства Юньгана утверждение сменяется намеком, а главным становится то, что главным никогда не было. Поразительны глаза скульптур династии Вэй. Это больше не закругленные петли индийской каллиграфии, а твердые линии, в самой уверенности своего почерка черпающие духовный смысл, подобный которому мы увидим только в сложной лепке кхмерских голов с похожим решением глаз; но служит эта духовность целям архитектуры. Из союза гениальной недосказанности с монументальностью в провинции Шаньси, на желтых горных склонах, на свет появятся несколько самых высоких скульптур, какие когда-либо знало человечество.
От этой монументальности захватывает дух. Считается, что наши статуи-колонны ведут происхождение от собственно колонн, породивших готическую форму. Возможно ли, что удлиненные формы стел и наскальных фигур династии Вэй продиктованы архитектурой? И что общего между нашими соборами и этими гигантами, если над теми и другими трудились безвестные и одержимые мастера? Художник делает выбор в пользу ригидности, но это неподвижность не смерти, а бессмертия. И тогда появляются колоссальные халдейские граниты и иберо-финикийские статуи, в которые художник вдохнул душу. Несмотря на завитки, украшающие его головной убор, несмотря на складки его одеяния, напоминающие складки одеяния готического Христа, Будда династии Вэй опускает веки, поглядывая на мир, в котором тонет в тенях надменная конница Акрополя…
Невозможно не видеть в метаниях духа и души, озаривших великую азиатскую пустыню, отблески той же истории, что когда-то разворачивалась в дельфийском Акрополе. Независимо от степени восхищения или отторжения и вопреки многовековому культу и открытым ею ценностям, Греция – в тот день, когда поблекшие боги уступили первенство человеку, – изменила отношение к ним художника и после трех тысячелетий раболепного поклонения подняла его с колен. Позже ярость, с какой бесчеловечный блеск пустыни погас во тьме священных пещер, снова отбросила человека, сотворившего свой триумфальный солнечный образ, в небытие. На фоне чувственной агонии эллинского и жалкой агонии римского мира, от Испании до Тихого океана, религиозное искусство завладеет – не столько из-за неумелости раннехристианских мастеров, сколько из-за страсти иконоборцев – царской прерогативой на вечность; открытой женской улыбке, сиявшей на берегах Ионического моря, Китай противопоставит одинокую улыбку молчаливых мужчин, прижавшихся к горным склонам…
Но эта история повествует не о жизни эллинистических форм, а скорее об их смерти. Когда они встречаются в оазисах с более слабыми ценностями, они разрушаются; когда в Индии и в Китае они сталкиваются с такими мощными системами мировоззрения, как индийский или китайский буддизм, они преображаются. Нечасто история демонстрирует нам с такой же ясностью, что «проблема влияния», столь распространенная сегодня, обычно ставится «вверх ногами». В Гандхаре искусство избавляется от эллинистических форм так же, как в Индии и Китае оно избавляется от греко-буддийских форм. И тогда становится явным конфликт, в эллинистических областях выступающий в завуалированном виде. Между «Корой Эутидикоса» и фигурами Лунмыня, бесспорно, существует преемственность, но она объясняется не влиянием, а метаморфозой в строгом смысле слова: эллинистическое искусство существует в Азии не как образец, а как куколка бабочки.
В Азии оно воспринимается как освободитель, ищущий способ освободиться от себя же. Там, где сохраняется греко-буддийское влияние, то есть там, где не происходит метаморфозы, искусство как будто чахнет. Начиная с VII века в великой азиатской пустыне, погребающей под своими песками города, искусство агонизирует, возвращаясь к древней каллиграфии и примешивая ее в своих фресках к фрескам Ирана, Китая и Индии. В Тумшуке (Кашгария) скульптура, несмотря на китаизацию лиц, уходит из-под китайского влияния и в изображении своих правителей возвращается к тяжеловесной мишуре. Впрочем, на западе Кабула, в Фондукистане, находили позднейшие изваяния – пока война не прервала раскопки. Местные жители извлекали из глиняной пыли фрагменты ларцов из слоновой кости, пестрых рыбок из цветного стекла или конский череп с татарским мундштуком. Здесь торжествовал цветочный мир, унаследованный от эллинистического искусства, – мир, который еще и сегодня можно наблюдать на берегах Ганга или в Самарканде, в той части Азии, где подростки прогуливаются, жуя пыльные плоды степного шиповника, а мокрые от пота шеи жрецов, совершающих жертвоприношения, украшают гирлянды из плюмерии. У рук, обожженных горячим дыханием песка, очертания, напоминающие лилию. Человеческие формы, которым предстоит послужить предлогом для создания пафосных форм барокко, здесь превращаются в абсолютного антагониста готики – в стиль орхидеи, угадываемый во всех искусствах Азии от индийской пышности до богато украшенного величия Империи Тан. Его система линий не имеет ничего общего ни с угловатой замкнутостью европейского Средневековья, ни с искусством династии Вэй, ни, тем более, с нашим классическим – и таким же замкнутым – искусством; в этой системе тело превращается в тюльпан, а пальцы удлиняются и почти растворяются, напоминая летучие формы барокко…
Для эффекта «замедления» в камбоджийском танце используется арабеска; вообще эта орнаментальность никогда полностью не исчезает из азиатского искусства. В том же веке, когда буддизм возьмет из китайского искусства его доведенную до совершенства сентиментальность, он утратит подлинное чувство, на смену которому придет бесполая чувственность. Избавленные от орнамента, его торсы станут повторять очертания аронника – наименее «живого» из всех цветов. Почти тысячелетняя история скульптуры замкнется в этом одиночестве, овеваемом ароматом лаванды, спаленной зноем афганских степей; и все мечты скульпторов Александра, Менандра и Канишки, наследие Бамиана и индийских фресок, свободных от прикладных целей, покроет патина забвения.
Тогда же в Китае, но одновременно и в Пальмире, а вскоре в Византии и в искусстве династии Гуптов проявится один из самых эффективных приемов, позволяющих подчеркнуть одухотворенность изображения, – оконтуривание рта и глаз. Этот прием захватит Азию от Юньгана до Лунмыня, от Японии до Камбоджи и острова Ява. Он будет доминировать на протяжении четырнадцати веков. Этот контур, появившийся в Азии во времена Александра, когда там агонизировала «бронзовая зеленая конница на просторных мостовых», и забытый в Египте, окончательно исчезнет только в XVIII веке. История буддийской скульптуры завершится в свой черед, и в пагодах Сиама, дремлющих под монотонный перезвон колокольчиков и вой малайских муссонов, в декорациях Ост-Индской компании, сгинет последняя метаморфоза Аполлона.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































