Текст книги "Голоса безмолвия"
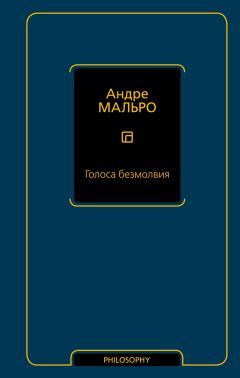
Автор книги: Андре Мальро
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
III
В Византии и христианском Риме вновь возникающие формы не сталкивались, как в Индии и Китае, с мощным прошлым, зато сталкивались с Востоком, который больше не могли сдерживать легионы.
Чтобы обнаружить метаморфозу античного искусства в византийское, первым делом следует перестать смотреть на Восточную Римскую империю как на выродившегося отпрыска Западной. Последние Палеологи в сравнении с Августом действительно выглядят бледно, чего нельзя сказать о Василии Втором в сравнении с Гонорием. Византийские ангелы и после падения империи будут присутствовать на мозаиках Равенны и в римских катакомбах, когда папские гвардейцы в золоченых мундирах будут сражаться со сторонниками антипапы; Византия – единственная в V веке мировая держава – простоит тысячу лет, то есть дольше, чем Рим.
Республиканская стойкость выдохнется, как только римская власть достигнет апогея. Ни Цезарь, ни Август не были образцами добродетели. То же относится и к их преемникам. На протяжении веков нравственная история Европы писалась для Церкви, больше озабоченной тем, чтобы объявить порочными своих преследователей, нежели тем, чтобы нападать на Цинцинната. Правда ли, что на удрученный взгляд поклонников Плутарха, мир Мессалины пребывал не в таком упадке, как мир Феофано? Церковь была не против связать жестокий мир ушедших двенадцати цезарей с раскольничеством Византии, но распад великой военной империи не привел ни к бесчеловечной торжественности мозаик и икон, ни к сладострастию александрийских статуй. Мы знаем, что объединяет некоторые изображения Катакомб, Пальмиры, Файюма и ранней Византии; римский дух на берегах Босфора покорился не хаосу и не сексуальности: он уступил Востоку.
Женщины при дворе византийских императоров закрывали лица покрывалами, как и при дворе Сасанидов, и персидские посланники нисколько не удивлялись церемониалу, установленному Багрянородными. Дарий благодарил Василия Второго за возрождение своего царства, потому что тот стер с лица земли самую память о Фидии и Бруте. В захоронениях снова начали находить длинные мечи с рукояткой, украшенной бирюзой, вместо коротких цельнокованых мечей, которые подвергали закалке одновременно с лемехами плугов. Вместо сияющей греческой непринужденности – роскошь орудий убийства и расцвет полицейщины, столь любимой тиранами; вместо признания авторитета власти (не считая верховную) – изворотливость; во всем этом мертвящем османском декоре вновь замерцало тысячелетнее отражение Бога.
Если бы ислам писал собственные иконы, насколько понятнее нам стало бы византийское искусство!
Вначале христианство заимствовало формы, подсмотренные в Риме. Гермес Агнценосец стал Христом – Юпитер или Цезарь подходили на эту роль еще меньше. Но язык вечной жизни был связан со смертью, которая, казалось, воцарилась на каждом опустевшем после статуи императора пьедестале; отныне смысл жизни придавала наконец победившая азиатская смерть. Когда империю накрыла волна нищеты и милосердия, по-детски наивные изваяния Христа затерялись в церковных стенах; понадобилось еще несколько веков, чтобы Христос перестал восприниматься каким-то античным пастухом, а сам Рим заговорил по-христиански, прислушиваясь к подземным голосам, доносящимся из Катакомб и с кладбищ…
Это искусство тайников и гробов – своего рода канте хондо, подобное испанскому импровизированному пению. Оно развивается помимо стиля. Сохранила ли римская живопись свой престиж? Как ни мало мы ее знаем, в своих лучших образцах (как и скульптура той же эпохи) она стремилась к изображению власти во всем ее блеске. Что было делать с этими самоуверенными изваяниями толпам рабов или патрицианкам с опустошенной душой, участницам убогих пиршеств посреди царящего в Риме голода? Наспех намалеванные на скрытых от чужих глаз стенах изображения Богородицы и мучениц на саркофагах представляли не больше опасности для статуй на залитых солнцем площадях, чем песнь распятого ребенка – для громады Колизея…
Пронзительность катакомбной живописи объясняется не ее ценностью, а тем, что в ней слышен ропот человека, готового ответить на призыв Синая. И когда какой-нибудь монах без сутаны привязывает к ручке метлы свечку, чтобы прочитать ранние надписи в этих галереях, мы снова различаем взывающий из-под земли голос. Это тот же голос, что готовит нас, пробирающихся по каменным переходам пещеры Фон-де-Гом, к появлению полустертых силуэтов бизонов, в свете электрического фонарика похожих на дрожащие тени. Не хватает только магии со слепым ликом многих тысячелетий, для которой смерть человеческая еще не принадлежит человеку, зато слышен голос всепрощения. Но бедные катакомбные фигуры плохо различают этот голос. На земле, за полями сельского Рима, ощетинившимися артишоками, тянутся кипарисовые аллеи, а в кузницах солнца еще плавят красное золото, так же кипевшее, когда Антоний направлял свой корабль к Клеопатре; но ни бесчисленные мертвецы, ни мученики, ни откровение, которое вскоре возьмет верх над империей, не оставили в этих переходах следов, если не считать нескольких застывших в позе мольбы фигур да неуклюже скопированного с виллы Нерона декора.
В Риме III века стиль перестал служить выразительным средством. Языческие, иудейские и христианские саркофаги и барельефы, изображающие победы императоров и жертвоприношения Митре, принадлежат одному и тому же искусству. Христианская душа поселилась в античных формах, как вскоре церкви займут императорские здания.
Поначалу христианский дух катакомбам придают неумелость и бедность. Нам хотелось бы зацепиться за эту бедность и постараться угадать под нацарапанными изображениями Доброго Пастыря трагическую и почти дикую фигуру того, чью взволнованную копию они представляют, но и Добрый Пастырь, и Оранта на саркофагах по сути – фигуры эпохи Флавиев. Если они и пытаются избавиться от признаков имперского стиля, то при каждом удобном случае его принимают. В глубине подземного кладбища римская фигура Осени заигрывает с гибнущей империей.
Но, по меньшей мере, и Пастыри, и Оранты, и даже евхаристическое пиршество все-таки принадлежат к той же сфере, что хлеб этого причастия, рыба и убогий катакомбный крест. Дальнейшая работа над собственным почерком часто будет приводить к отказу от античного искусства – благодаря прикладному искусству. Христианские художники, занимавшиеся народным декоративным искусством, использовали формы, отличные от форм статуй. Вместе с тем этот почерк, основой которого служил декор, не был декоративным. Собственная бедность придавала ему – за неимением стиля – определенную жесткость. Вдруг попадается несколько Богородиц, готовых, как кажется, заговорить ночным языком окружающей их священной любви; несколько редких фигур, как будто намеренных зачеркнуть темными линиями этот униженный народ, младенчески простодушный и страдающий, как ребенок в темнице. Какими средствами изобразить крайнюю уязвимость? Скорее всего, смиренности художника помогал не изобразительный талант, а само свойство знака, каким они наделяли своих самых «реалистичных» Добрых Пастырей и другие настенные рисунки. Но, как только Добрый Пастырь перестает быть знаком, а женщина с младенцем становится Мадонной, сакральный смысл изображения требует выразительных средств, каковых известно два.
Во-первых, ломается линия арабески. Это происходит всегда, когда вслед за агонией чувственного мира приходят горе и кровь. Египет привнес свою тонкую непрерывную линию; Евфрат – кое-где свои торжественные изгибы; Греция – свою улыбку и свои торжественные драпировки; затем родились волюты и спирали, уводящие рисунок в глубину и украшающие императорские доспехи, как когда-то они ласкали александрийских ню. Арабеска, проникшая в Рим и Сирию через копии греческих шедевров и покрывшая своими лианами побитые бюсты, не знала прецедентов нигде, кроме Азии. В Западной империи именно она стала выражением веры человека в себя – когда он утверждал свою силу вместо того, чтобы открывать свой гений; так Император сменил Возничего. Но когда мир ушел в подземелье, а христиане укрылись в катакомбах, преследуемые страхом встретиться с призраком Цезаря, бродящего по римским сточным канавам, только фигуры Богоматери – одновременно торжественные и изломанные – напоминали об искусстве священной тени. Их трагизму неведома арабеска.
В римских формах было намного больше театральности, чем в греческих. Возможно, они представляли единственный сложившийся театр, в культуре которого такое важное место занимала маска. Несколько дошедших до нас превосходных картин и вся римская скульптура намного нагляднее иллюстрируют Сенеку, чем это сделала бы любая поставленная на сцене трагедия. Начинался великий отлив, в ходе которого на смену театральному зрелищу в церквях пришла месса, а на паперти – мистерия. Прощай, самоутверждение человека – вначале мужественное, затем все более безрезультатное, но громкое; прощай, провозглашенное Грецией человеческое любопытство ко всему, что выходит за рамки понимания; отныне это человека будут донимать вопросами обо всем, что выходит за рамки его понимания, что ему недоступно, что превосходит его познания и его подавляет.
В Византии к тяжеловесности константинопольского искусства добавится, особенно в статуэтках из слоновой кости, разрыв линии, хотя первое еще не полностью смешается со вторым. Бесспорно, в «Христе с четырьмя святыми и апостолами» из катакомб Домициллы больше от гравюры, чем от скульптуры. Нам слишком хорошо известно, что все это искусство заговорит с византийским акцентом, чтобы не видеть ступенек, которые привели его в Византию. Но история римского искусства не сводится к его превращению в византийское; она включает также его борьбу с Востоком, чье влияние уже тогда ощущалось очень заметно. Прежде чем Византия нависнет над римским миром, христианский Рим предпримет неосознанное, но страстное усилие добиться собственной выразительности в противовес римской идеализации и внешнему лоску. Линии, какими изображали Марса и Венеру, имели дьявольскую природу, но какими изображать Христа, никто пока не знал; на всякий случай художники решили прибегнуть к своего рода экзорцизму – угловатым очертаниям и резким ударам кисти, неведомым античному искусству, хотя и эти разломы еще не приобрели железную византийскую остроту. Безвестный автор «Девы Марии» из катакомб Присциллы был, возможно, первым христианским художником.
Но Рим не утратил своей любви к портретам, и фотографическая традиция устояла в позолоченных стеклах, какими украшали даже надгробия. Вечная жизнь накладывала свой отпечаток на индивидуальное лицо, как в Файюме – близость покойника: нам трудно вообразить себе помпейскую «Поэтессу» рядом с саваном. Некоторые Оранты путем сублимации превратились в портреты, только глаза стали больше, а взгляд – неподвижным. Когда к этому потустороннему взгляду добавится угловатая линия, родится христианский стиль.
Судя по всему, родственное искусство формировалось и вне Рима: в Пальмире и Файюме римская форма встретилась с Востоком, как греческая в предгорьях Памира – с Азией. Эта римская форма наверняка отличалась большой уязвимостью. Чтобы забыть искусство Траяна, Рим не нуждался в Византии: отсутствие дополнительных элементов в арке Константина и его колоссальная статуя уже свидетельствуют о том, что перед нами стиль, откровенно враждебный тому, который мы называем римским. Закаменеть римские изваяния заставило не христианство, а паралич самого Рима. Жестикуляция Цезаря умерла, и вопрос заключался не в том, какая родится вместо нее, а в том, каким образом искусство сумеет оживить неподвижность.
Не исключено, что существовали и другие Пальмиры, но они до нас не дошли. Та Пальмира, которую мы знаем, представляла собой город в пустыне, но город военизированный: в этом оазисе вербовали арабскую конницу, столь необходимую Риму в Сирии. Ее спесивое искусство, во многом напоминающее византийское, просуществовало почти так же долго, как французское романское искусство. (Нам нетрудно представить себе историю искусства, в которой Возрождение было бы мимолетным гуманитарным эпизодом!) Дух, пронизывающий иберо-финикийские статуи, – несмотря на все отличия пальмирских стел от «Дамы из Эльче» – как будто заставляет замереть греческий танец, и одновременно вместо ню появляются надгробные изваяния. Уголки губ, поднятые в улыбке, опускаются вниз; жестикуляция сменяется неподвижностью вечности. Но эта вечность ищет свой стиль.
В этом искусстве присутствует реализм (радужка глаза, вырезанная в камне); в нем присутствует и одержимость портретом, которую умирающее римское искусство завещает и катакомбам, и Файюму, и второстепенным фигурам Гандхары, и Сирии. Надгробные портреты бегут от жизни, не изображая ее; драпировки и диадемы вытесняют легкие покрывала; все вместе производит впечатление поиска архитектуры смерти. Только не будем забывать, что к этому искусству, как и к искусству Гандхары, мало приложим критерий «историчности»: самые примитивные изображения сосуществуют здесь с самыми искусными. Энгр соседствует с Делакруа внутри братства, и это братство, возможно, – смерть, возможно – пустыня, и наверняка – область сакрального. Мы прямо-таки чувствуем, каких усилий стоило автору «Амита» ввести в состояние оцепенения своего живого персонажа; он стилизует его, тогда как грек на его месте приукрасил бы. Но кто-то из его псевдосовременников находит в более сложной стилизации величие, какое и не снилось империи, и ваяет одну голову, возможно, достойную именоваться Римом; другой вытягивает лицо и придает ему жесткость, наводящую на мысль о Византии. Кто-то рисунком рук передает вес украшений и тканей, как и вообще все смутно сасанидское, что присутствовало в обоих городах: мы инстинктивно считываем у Зенобии (которая на самом деле звалась Зейнаб, как султанша из сказок «Тысячи и одной ночи») жестикуляцию Феодоры.
В умирающей империи боги вернули себе непоколебимое господство. Вместе с империей гибло профанное искусство. Улыбающиеся лица Аттики и Александрии и полные достоинства лица Капитолия были так же чужды пустыне, лесу, катакомбам, ночному миру звезд и крови, как Плутарх Блаженному Августину. Искусство так же упорно чуралось всего человеческого, как в Греции IV века оно к нему стремилось. Исчезает улыбка, исчезает движение; все, что шевелится, все, что преходяще, не стоит труда быть запечатленным в скульптуре. Вновь появляется торжественный монстр Востока и кочевников, но ни неподвижность, ни отсутствие человечности сами по себе не становятся вечностью. Галло-римское искусство движется на ощупь в направлении, обратном Риму; искусство доисламской Аравии, от друзов до Петры и, возможно, до царицы Савской, отвергает римские лица с неистовством, какое вскоре подхватят иконоборцы; вместо носа у них – трапеция, вместо рта – черта. Что помешало тогдашнему Цадкину сделать нос не таким плоским и прорисовать губы? Он не хуже современных художников понимал, что такое иллюзия, но отвергал ее, хотя и руководствуясь иными мотивами. А у него за спиной, в каменистых долинах Гандхары, в зарослях ежевики, продолжалось шествие греко-римских форм, добравшееся до Тихого океана.
Несло ли каждое из этих искусств «упадка», захватившего в свою орбиту полмира, в себе собственное романское искусство? Вся скульптура южного Средиземноморья была уничтожена исламом. Только Персия вольно или невольно частично сохранила его гений. Оно превратилось в абстрактный декор повсеместного разложения, которое обрело высшую степень выразительности в Египте, в некоторых образцах коптского искусства. И оно заживо похоронило то движение на ощупь, которое для живописи то же, что Пальмира – для скульптуры; темное искусство, возможно, было бы не меньше проникнуто христианством, чем искусство катакомб – духом Файюма.
Оно тоже представляет собой кладбище, где покоятся вперемешку и великие, и самые скромные. Ремесленников не заботили ни искусство, ни грядущее; они делились своими образами с гробами – в отличие от своих коллег из Пальмиры, которых интересовали надгробия. Забудем о ремесленническом производстве, поскольку в наших музеях собрано то, что выше его по качеству, но не о том, что на подлинное искусство, как и на любое коллективное искусство авторства неизвестных исполнителей, мощное влияние оказывало сочетание индивидуального лица и присутствие смерти.
Оно не изобрело ни портрет, доставшийся в наследство от Рима, ни смерть, которая в Египте чувствовала себя как дома. Но римский портрет был антиподом посмертного образа; изображения на этрусских могилах представляли иной характер вечности, и когда смерть понемногу завладела Римом, изменилась и природа мраморного портрета. Живописный портрет, бедный родственник бюста, ориентировался на жизнь. (Миниатюрные портреты на позолоченном стекле наводят на мысль о фотографиях, которые иногда можно видеть у нас на могилах.) Задумка авторов изображений из Файюма, какими бы ремесленниками они ни были, поражает амбициозностью: древняя земля смерти снова притягивает к себе живых и требует от мумий, чтобы они подарили им вечность.
Пожалуй, ни один великий народ не был с такой глубиной и постоянством лишен изобразительного стиля, как римский. Под этим я подразумеваю не только то, что он заимствовал чужие формы, но и то, что у него не оказалось такого же гения, как тот, что позволил Ирану или Японии создать на основе ассимилированных форм нечто качественное и долговременное. Вкусы Рима эпохи Августа (неправда, что монумент в честь Виктора Эммануила II, который сегодня возвышается над городом, не римский по духу) были схожи со вкусами Второй империи, а его дух заметно отличался от того, что мы ощущаем в Национальном археологическом музее Неаполя.
Иллюзия, что этот музей является хранилищем античной живописи, сыграла немалую роль в нашем восприятии последней, однако возрождение через два тысячелетия захиревшего сегодня Довилля создало бы очень странное впечатление о западной живописи. Впрочем, последние раскопки Помпеи, показавшие, в каких местах располагались вывески и «мебельные лавки», говорят о том, что эта живопись представляла собой вульгаризацию. Персонажи, намалеванные в стиле Маньяско и напоминающие жанр сенжери, наверняка выглядели бы так же смехотворно в сравнении с поверхностным, но блестящим искусством, стоящим за ними, как «копии» Тимомаха в сравнении с оригиналом – приблизительно как репродукции «Джоконды» на наших календарях.
Нам известно капитальное римское сооружение, которое, даже будучи не образцом мастерства, а поздней копией с греческого оригинала, является произведением искусства и не относится к категории ремесленных поделок – банальных, как уцелевшая крупная, или очаровательных, как малая скульптура. Это сооружение – вилла Мистерий. Некоторые сангины, сохранившиеся на стенах или на мраморе, дают нам представление об этой живописи. Прежде всего наше внимание привлекает связь между фигурами и красным фоном, которая только на первый взгляд играет вспомогательную роль, а на самом деле не имеет никакого отношения к декоративному стилю. Скорее всего, раскрашенные и покрытые лаком античные статуи гармонировали с этим фоном; возможно, в данном случае он служил средством бегства от реальности, как впоследствии эту задачу более успешно решали золотой фон в Средние века и черный фон акватинт Гойи. Техника, стиль и самый дух подобных произведений нацелены на то, чтобы отделить зрителя от изображаемой сцены, создать такую уникальную театральную сцену, которая будет так же далека от него, как скульптурная композиция. Но, несмотря на все различия, это искусство связано со скульптурой: ни женские ню, ни «Испуганная женщина», которая как будто подставляет свое покрывало ветру, не похожи на римские статуи, но их объемные изображения, не имитируя барельефы (один лишь фон, значение которого, по меньшей мере, так же велико, как значение фигур, мог бы поспорить с барельефом), вступают с ними в соперничество. Впрочем, следует с осторожностью говорить об объемности, поскольку объемность предполагает расположение в пространстве. Если мы сравним эти фигуры с персонажами, например, Пьеро делла Франчески, то заметим, что первые невесомы, а земля под ногами нужна им только как граница собственного тела. Чтобы придать им если не рельефность, к которой художник не стремится, и не трехмерность, о которой он не имеет понятия, то хотя бы намек на то, что эта живопись не двухмерна (можно было бы предположить, что сцена «адаптирована» романским или персидским художником!), автор прибегает либо к примитивному схематизму в духе Энгра, как в изображении стоящей на коленях женщины, склонившейся над покрывалом, прячущим фаллос (любопытно, что это чем-то напоминает иронические пародии на Энгра, над которыми Сезанн работал в Жа-де-Буффане), либо к тщательной проработке рисунка, на тысячу миль отстоящей от фигурок из неаполитанского музея или от фигуры женщины на фреске «Приход Амура». Эти изображения, особенно рассмотренные по отдельности, заставляют нас думать, что их писали настоящие античные художники.
Рим в принципе признавал только то, что существует на самом деле. И тех, кто понимает значение слов «мистерия» и «Дионис», эта живопись, посвященная дионисийским мистериям, не может не поражать. И если разрыв между римским портретом и тем, что появилось после него, настолько велик, то тому есть свое объяснение: Рим не имеет продолжения ни в одной области. Его мистерии раскрывают свою символику на голых стенах; его портреты – это приукрашенные фотографии. Даже когда живопись вдыхает в изображения жизнь, она не вдыхает в них душу – потому, что у нее нет души. Да, есть упорство и преемственность, но то же есть и у науки. Придавая огромное значение портрету, она показывает только лица, существующие отдельно от вселенной. Живопись, реалистичные мозаики, позолоченное стекло – как много усилий, и все для того, чтобы изолировать индивидуума! Впрочем, сам индивидуум не имеет значения; как только портрет, изображавший конкретного вождя или завоевателя, становится портретом первого встречного, он показывает только его личные особенности, в лучшем случае слегка приукрашенные, дабы добавить ему достоинства. Бюсты, собранные в итальянских музеях, отличаются один от другого и походят один на другой, как цифры, а не как изображения живых людей. Римское лицо могло выражать движения души или воплощать божество не больше, чем римлянин – ощутить свое присутствие в пространстве или свою связь с космосом, а в искусстве империи – это бедные вселенные.
Вместе с тем языческий Рим демонстрировал непоколебимую верность тому фундаментальному чувству, из которого родились эти формы. Египет фараонов породил своих монстров из стиля; победивший Рим пересобрал их по-своему: из реалистичной головы шакала на реалистичном теле мужчины и головы львицы на теле женщины он сотворил изобретательные и внушающие авторитет «коллажи». Но Египет сам по себе был стилем, и конфликт между ним и формами, начисто лишенными стиля, относится к числу самых значительных в истории.
Многие портреты из Файюма написаны на досках, которые прикладывали к лицу умершего. Их искусство, что бы о нем ни говорили, не имеет ничего общего с гипсовыми масками Антиноя, поскольку решающую роль здесь играл материал, а также соотношение цветов, а иногда и мазок. Тем не менее и те и другие выражали один и тот же дух, благодаря которому появились последние изображения, написанные на дне саркофагов.
Эти изображения долгое время считались более важными, чем изображения на крышках. Плоские, они могли принадлежать живописи, тогда как рельеф саркофага соотносился со скульптурой примерно так же, как в наши дни декор соотносится с мебелью. Но мы начинаем это понимать только тогда, когда маска утрачивает свой цвет. Стоит этим крышкам отойти от египетской традиции и заменить ее хламом, изобретенным в III веке, как они превращаются в папье-маше: все боги Средиземноморья толпой собираются в оазисах, чтобы покрыть покойников слащавой позолотой в розовом стиле ярмарочных леденцов. Но как только дно гроба освобождает их от рельефа, эти изображения приобретают совсем другой стиль. Нам теперь хорошо известно, что ценного разложение способно добавить примитивным краскам, и лучше не думать о том, какими они были изначально, но их ярко-розовые и пепельно-голубые пятна, очерченные или перечеркнутые нервными черными линиями, вроде бы для красоты, выглядят совсем иначе, чем те же краски, но покрытые лаком и нанесенные на позолоченное папье-маше. Здесь невозможно ошибиться: если это обреченные создания, то это все же создания; впрочем, мы чувствуем в них последнее усилие агонизирующего Египта утянуть с собой в империю смерти, которой он так верно служил, все, что он еще объединял – от Евфрата до Тибра.
Но на дне саркофагов тщательно стилизованный образ смерти сменяется лихорадочной абстракцией сирийского Востока. Портреты Файюма – это не абстракции: живые персонажи на них – не просто примитивный материал для производства мертвецов. Это прежде всего римские портреты (когда их качество падает, они и представляют собой только римские портреты). Поначалу они обладают элементарной гармонией; это скромное, но искусство. Римский портрет, стремящийся стать произведением искусства, превращается в скульптуру; живопись – это просто изображение, выполненное в определенной технике, как современные групповые фотографии; и, если прежде римляне хотели, чтобы их портреты выглядели как изображения, выбитые на монете, то теперь они этого больше не хотели. Бюсты открыли индивидуума, чтобы превратить его в римлянина; теперь его следовало превратить в мертвеца, но не в труп, а в нечто иное, что вряд ли именовалось душой.
С чувством смерти были связаны многие стили, но это чувство стало сознанием. В Файюме оно искало форму, которую Рим позаимствовал у Египта. Чтобы преобразить латинские портреты, это искусство обнаружило, что они отрезаны от другого мира. Чего оно ожидало от собственных фигур, порой нарисованных на смертном саване? Узреть вечный лик смерти. Египет фараонов обеспечил вечность благодаря своему стилю, переводившему все формы на священный язык; подобный стиль родился из религии, способной все рассказать о жизни. Позитивное чувство смерти, переходящей в иную жизнь, сменилось негативным ощущением темного мира, в котором нет жизни и где издавна сосуществуют боги, демоны и мертвецы. Вот почему христианское искусство, пока оно было отрицанием языческого мира, признавало эти портреты, но отвергло их, едва христианство утвердилось. Человек чаще ощущал свою связь с потусторонним миром, который казался ему знакомым, чем с тем, о котором он предпочитал ничего не знать.
Из этого неопределенного состояния родились некоторые средства выразительности, к которым мы сегодня наиболее чувствительны. Во-первых, схематизм: исчезла тщательная отделка, потому что она всегда связана либо с реализмом (с реализмом, способным показать живого или мертвого человека, но не смерть), либо с идеализацией победы, несовместимой со страхом. Во-вторых, любовь к определенной гамме – от белого до коричневого с промежуточными вариантами охры, – позже ее иногда будет использовать Дерен. В-третьих, пристрастие к чистому цвету – более глубокое, чем наше к изысканному разложению. Сирийскую палитру держат фигуры, которым неведома гармония белого и охры; в Дура-Европос – розового и синего, порой доходящая до темно-фиолетового и бордо. Эти цвета сохранятся в коптском искусстве, даже когда оно сведет к геометрии горячечный бред со дна саркофагов и торжественную задумчивость Файюма. Наконец, мы не можем не отметить – если не во всем этом ремесленничестве, то в наиболее крупных его произведениях – особую жесткость, заставляющую вспомнить не столько о трупном окоченении, сколько о презрении к человеческой суете; трупы неподвижны, но неподвижна и вечность, и Египет выбрал для своих статуй базальт. Эта жесткость объясняется не только неумелостью, но и применением лобового подхода, и принадлежит не столько ригидности, сколько схематизму, о котором мы говорили выше, – одному из редких в живописи (до появления романской) эквивалентов великой антигуманистической скульптуры. Доски Файюма – это не орнаментальная живопись Пальмиры; их крупным планам неведомы довизантийские, возможно, парфянские акценты Сирийской пустыни, но в них ощущается смутное родство с ее скульптурой; они в равной мере отвергают наследство фаланги и легиона (вопреки военной традиции Пальмиры) и с равным усердием ищут сходство за пределами имитации. Этой живописи знаком взгляд, выражающий не сиюминутное мгновение и не гипноз Византии, но часто – бдение над вечностью, благодаря которому мертвое находит согласие с потусторонним миром.
Может быть, это искусство умерло потому, что посвятило себя гробу? Оно не первое избрало этот путь, но оно посвятило себя ему целиком. Сакральное охотно прячется в одиночестве, но плохо в нем развивается. Церковь лучше, чем кладбище, способствует единению. Христианский Рим принял это предназначение, и его искусству пришлось искать выразительные средства в мозаике; это настолько ему удалось, что все мозаики, предшествующие периоду упадка, представляются нам чисто декоративными. Какое бы значение ни приобрела, прежде всего благодаря своей транспортабельности, рукописная миниатюра, она пришла к мозаике, в которой в IV веке мрамор сменила эмаль; мозаика обгоняет миниатюру, как позже ее саму обгонят романские тимпаны: в библейском голосе, звучащем в апсиде базилики Космы и Дамиана, главное – не размах. Тогдашняя фреска – это мозаика бедных, и мозаика, мать витража, становится излюбленным выразительным средством христианского искусства не потому, что поражает богатством, а потому, что наводит на мысли о сакральном.
Вот почему священную неподвижность христианских фигур нельзя объяснить только следованием традиционной технике. Антиохийские мозаики «Времена года», принадлежащие к профанному искусству, но находящиеся под влиянием Востока, обладают торжественной неподвижностью, тогда как рисунок некоторых языческих мозаик почти так же свободен, как рисунок Матисса.
История переместилась в Византию. После монастыря Бауит она нащупывает то, что уже предчувствовал Файюм. Но Рим защищается, и с какой силой! Из его неизбежной агонии, не дающей надежды на возвращение величия, родится абсида святого Космы. Эта мозаика проникнута духом Ветхого Завета, но ее монументальный рисунок – не тот, что разрабатывался на берегах Босфора. Она плохо известна, потому что ее местонахождение, материал, размеры, но главное – линии таковы, что пока позволяют делать только жалкие репродукции. Но если от мозаики базилики Санта-Пуденциана веет мечтой о Франциске Ассизском, то здесь ощутимо предчувствие церкви Санта-Мария-дель-Кармине: эти массивные блоки, эта пафосная архитектура – кто еще, кроме Мазаччо, сможет их воспроизвести?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































