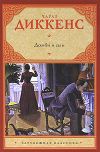Текст книги "Литературные портреты: Волшебники и маги"
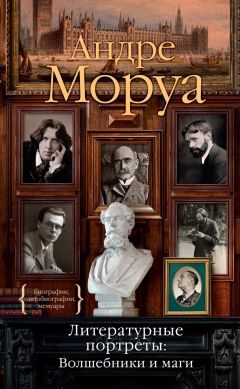
Автор книги: Андре Моруа
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Но увы! Уже на следующий день ее вновь одолевают тревоги:
«Я еще не знаю, как скажется на Вас отъезд. Ваша дружба была, возможно, лишь минутной вспышкой: но нет, я в это не верю. Что бы Вы мне ни говорили, я никогда не считала Вас бесчувственным, без дружбы Вы не были бы счастливы и удачливы, а я именно та, кого Вам подобает любить. Только не говорите, что в голове у меня романтический вздор, я весьма далека от этого; все похожее на любовь мне ненавистно, я ее презираю. Я почти рада, что стара и уродлива, и не заблуждаюсь относительно чувств, которые ко мне испытывают; я рада, что слепа и могу внушать лишь чистую и сокровенную дружбу, но дружбу я люблю до безумия, сердце мое создано только для нее».
Это любовь? Ну да, разумеется, это именно любовь. В ее возрасте? А возраст здесь ни при чем. Любовь – слово, означающее многие вещи, и одна из них – это недуг разума, который заставляет искать в каком-то человеке смысл жизни и счастье. Если любить – это значит все время мечтать об одном и том же человеке, трепетать при мысли, что увидишь его или, напротив, не увидишь, ожидать письма с бьющимся сердцем, не в силах думать ни о чем, кроме этого письма, возможно еще даже не написанного, бояться быть отвергнутым настолько, что прячешь свою любовь, именуя ее дружбой, – тогда нет никаких сомнений: мадам Дюдеффан любит Хораса Уолпола. «Я подвержена одному виду безумства – не думать ни о ком, кроме него, не видеть никого, кроме него, отдавать ему все». Этот вид безумства и есть любовь.
* * *
Самое неприятное, что Хорас Уолпол прекрасно все понимает. Вернувшись в Строберри-Хилл и обнаружив эти письма – взволнованные, нежные, вопрошающие, – он приходит в ярость. Приложить столько усилий, чтобы не впускать в свою жизнь любовь с ее тревогами, и сделаться объектом грез семидесятилетней старухи? Как это раздражало: связать себя обещанием обмениваться письмами с богатой вдовой, поскольку все считают ее занятной особой, знающей множество историй и способной ввести вас в парижский свет, – и вдруг оказаться вынужденным изъясняться на каком-то чудовищном сентиментальном жаргоне? Стоило ли отказываться читать «Новую Элоизу», чтобы в итоге от вас потребовали выражаться в ее стиле? Заметим при этом, что Уолпол любит мадам Дюдеффан, многим своим корреспондентам он говорил о ней с нежностью и симпатией, но, дабы извинить его дальнейшие поступки, следует понимать: он хочет прекратить отношения, он панически страшится впускать в свою жизнь фальшивые в своей чрезмерности чувства. Вот его первое письмо:
«По возвращении в Строберри-Хилл я нахожу Ваше письмо, которое безмерно огорчает меня. Неужели Ваши сетования, мадам, никогда не кончатся? Вы заставляете меня сожалеть о моей откровенности, зачем одарил я Вас своею дружбой? Я хотел сделать Вам приятное, а не приумножить Ваши огорчения. Эти постоянные подозрения и тревоги! В самом деле, если в дружбе наличествуют все горести любви, но нет при этом ее удовольствий, я не вижу в ней ничего привлекательного. Вместо того чтобы показать мне ее лучшие стороны, Вы явили самые непривлекательные ее моменты. Я готов отказаться от дружбы, коль скоро она вызывает лишь горечь. Вы насмехаетесь над письмами Элоизы, но Ваши послания куда более слезливы… Неужто мне суждено стать героем эпистолярного романа? Говорите со мною как разумная женщина, иначе я вынужден буду копировать свои ответы из „Португальских писем“»[86]86
Книга писем португальской монахини к французскому офицеру, вышедшая в свет в 1669 г. без указания автора и считавшаяся переводом с португальского вплоть до XX в., когда было установлено, что она принадлежит перу французского литератора и дипломата Габриэля де Гийерага. – Ред.
[Закрыть].
Уязвленная мадам Дюдеффан отвечает:
«Не знаю, все ли англичане черствы и жестокосердны, но знаю, что они ведут себя дерзко и заносчиво. Проявления дружбы, любезность, желание увидеться, грусть и сожаления от разлуки они принимают за необузданную страсть, они утомлены проявлениями чувств и заявляют об этом с такой бесцеремонностью, что сам себе кажешься преступником, ты пристыжен, смущен и сконфужен, а тех, кто позволяет себе подобную дерзость, хочется обстрелять из пушки».
Да, можно было бы обстрелять из пушки, если бы их не любили. Но их любят и им прощают, а там как знать? Возможно, такая резкость даже придется по вкусу. Великая любовь брошена в океан чувств, и из всех видов любви эта самая опасная – эпистолярная любовь. Самая опасная, потому как присутствие объекта в конце концов может вызвать пресыщение. А как можно пресытиться отсутствием? Тот из двоих, кто любит сильнее, воспламеняется от собственных писем, он отваживается написать то, что не решился бы сказать, и, поскольку за словами следуют чувства, его отвага возрастает. Если ответные письма любезны, они укрепляют любовь, если они суровы, то укрепляют ее еще больше. Отныне переписка Уолпола и мадам Дюдеффан исчерпывается лишь тремя темами. У Уолпола: «Я хочу развлекаться, не более. Если Вы желаете, чтобы я читал Ваши письма, будьте благоразумны, рассказывайте мне истории и не говорите о чувствах». О, вот она, справедливость! Разве не то же самое, слово в слово, она писала Эно? Президент, вот вы и отомщены. Тема романтической дружбы, в которой робко признается мадам Дюдеффан, желая понравиться и, следовательно, скрыть свою любовь. И наконец, тема скуки, невидимого врага госпожи Дюдеффан. Это и есть три темы. Вот каким тоном старая влюбленная женщина осмеливается отныне говорить о любви:
«Но забудем прошлое, покончим с ним, мой дорогой наставник, не будем более писать всякий вздор, оставим навсегда любовь, дружбу и влюбленности, не будем больше любить друг друга, станем с заботой и участием относиться друг к другу; уважая Ваши нравственные правила, я обязуюсь следовать им, хотя и не всегда понимаю; Вы останетесь довольны, мой наставник, будьте уверены, а Вы доставите мне огромное удовольствие, если перестанете сердиться на меня и называть мадам, это слово леденит мои чувства, пусть я всегда буду Вашей крошкой, никогда еще обращение не было столь уместным, ведь я и в самом деле мала ростом…»
А вот тема скуки у мадам Дюдеффан:
«Ах, боже мой, как Вы правы! Какая чудовищная, отвратительная вещь эта дружба! Откуда она берется? К чему ведет? На чем основана? Какие блага от нее ожидать и на что надеяться? Все, что Вы мне сказали, – правда, но зачем пришли мы на эту землю, и главное – почему стареем? О мой наставник, простите меня, я ненавижу жизнь».
«Вчера вечером я наблюдала за многолюдным обществом у себя в доме, мужчины и женщины казались механизмами на пружинах, они ходили туда-сюда, разговаривали, смеялись, не думая, не размышляя, не чувствуя, каждый играл свою роль… а я была погружена в самые черные мысли, я думала, что жизнь моя была сплошным наваждением… что я никого не познала досконально и меня никто не познал, а возможно, я и себя саму не знаю».
А вот как рассуждает Уолпол:
«Вы собираетесь пуститься на поиски человека, которого нигде нет, то есть человека, который был бы привязан только к Вам и любил бы одну-единственную тему для беседы. Вы хотели бы, чтобы он был умен и умел Вас выслушивать и в то же время лишен ума, иначе не смог бы играть эту роль… Скука для Вас сделалась навязчивой идеей. Можно подумать, Вы отчаявшаяся шестнадцатилетняя девушка. К чему Вы стремитесь? Вот уже пятьдесят лет Вы окружены людьми и до сих пор не знаете, что на свете есть глупцы, пошляки и предатели. Вы жалуетесь, будто впервые в жизни встретились с ложью и лицемерием. Внемлите голосу рассудка, примите свет таким, какой он есть, и не уподобляйтесь принцу из восточных сказок, что обошел весь мир в поисках принцессы с портрета, увиденного среди сокровищ отца, которая оказалась возлюбленной царя Соломона. Вы не отыщете возлюбленной царя Соломона…»
Три эти темы постоянно повторяются и перекликаются на страницах почти двух тысяч писем, причем сам Уолпол за восемь лет написал своей престарелой подруге восемьсот писем, что доказывает его любовь к ней; мало этого, за восемь лет он четыре раза приезжает в Париж лишь для того, чтобы ее увидеть; находясь во Франции, он все дни проводит только с ней. Когда он приезжает впервые, она сразу же присваивает его себе, буквально не давая опомниться, даже присутствует при утреннем туалете, отвечая на его протесты: мол, что в этом такого, она же слепа. Он рад увидеть знакомый салон, обитый муаром с золотыми бутонами, но его появление там встречено неистовым лаем, потому что теперь у мадам Дюдеффан имеется маленькая, невероятно злобная собачонка по кличке Тонтон. Один из гостей подарил мадам восковую фигурку Тонтона и новый том Вольтера, снабдив подарок таким куплетом:
Тот и другой для вас милы,
Тот и другой для нас подлы,
Вот в чем они похожи.
Один кусает лишь врагов,
Другой гостей загрызть готов,
Вот в чем они несхожи.
Мадам Шуазель преподнесла ему золотую бонбоньерку с рельефным изображением Тонтона. Президент по-прежнему здесь, он очень болен и полностью оглох. Что же до мадам Дюдеффан – она энергичнее, чем прежде, и не чувствует никакой разницы между двадцатью тремя и семьюдесятью тремя годами.
«Ибо, – объясняет Уолпол, – ее душа бессмертна и приглашает тело составить ей компанию. Она принижает ученых, переучивает их учеников и для каждого находит тему для разговора. Притом что мадам Дюдеффан особа пылкая и эмоциональная, она лишена предрассудков и у нее самые широкие интересы. Будучи хрупкого телосложения, она, похоже, не знает усталости, и, если бы я продолжал жить здесь, меня бы не хватило надолго. Когда мы в час ночи возвращаемся после ужина за городом, она предлагает мне пройтись по бульварам или посмотреть представление на ярмарке Святого Овидия, потому что еще слишком рано ложиться спать. Вчера вечером ей нездоровилось, но мне с большим трудом удалось отговорить ее дожидаться кометы до трех часов ночи, потому как, полагая, будто это ее позабавит, она заранее попросила у президента Эно прислать астронома с телескопами. Одним словом, ее расположение ко мне столь велико, что я бесстыдно демонстрирую свою поблекшую особу на всех светских увеселениях, от которых отказался в Лондоне».
Все то время, пока англичанин находился в Париже, мадам Дюдеффан была, безусловно, счастлива, а Уолпол предельно любезен, но вот он уезжает, и борьба возобновляется. Ее страдания особенно велики оттого, что она все более одинока. Ее верный президент вот-вот покинет ее, он очень болен. Его уговорили исповедаться, и мадам Дюдеффан сочла, что таинство длилось слишком долго.
«Ах, что вы хотите, мадам, я находил все новые и новые грехи. Это как переезд: когда перевозишь пожитки в новую квартиру, оказывается, что ты богаче, чем думал».
Ближе к концу, когда президент уже почти потерял связь с реальностью, она наносит ему визит, и разговор заходит о госпоже де Кастельморон, умершей уже несколько лет назад.
«– Скажите, президент, она была умна?
– Да, да, очень умна.
– Как госпожа Дюдеффан?
– О нет, что вы, ей было до нее далеко.
– Но которую из них вы любили больше?
– Ах, я больше любил госпожу де Кастельморон».
Слышать такое было весьма неприятно, но теперь, когда мадам Дюдеффан познала, хотя и на склоне лет, сильное чувство, она, вероятно, сочла услышанное справедливым. Теперь, когда ее так решительно осадил этот англичанин, она постигает самую трудную и самую прекрасную разновидность любви: когда любишь человека той любовью, которую он для вас назначает сам. Она сдалась, она согласна быть для Уолпола развлечением.
«Я потрудилась над своим лексиконом и вырвала оттуда некоторые страницы. Так, я избавилась от некоторых слов на букву „В“: Влечение, Восхищение, Волнение. Таких слов, как Влюбленность и Восторг, в нем никогда и не было. Некоторые слова на букву „П“ я отбросила без сожаления: Привязанность, Пылкость, Порыв, а вот Помощь и Причастность пусть остаются. Можете сами догадаться, что стало с остальным алфавитом… Я буду писать Вам каждый день о том, что случилось накануне. Там будет столько имен собственных, и никогда, слышите, никогда более никаких воспоминаний и размышлений… В конце этого письма не могу не сказать несколько дружеских слов, ах, только не пугайтесь, прошу Вас: мне хотелось бы быть Вашей бабушкой. Вот и сказала. Вы не гневаетесь?»
И вот в 1780 году (ей уже восемьдесят три) она, лежа в постели, диктует верному секретарю Виару последнее письмо Уолполу:
«Я Вам сообщала в последнем письме, что чувствую себя плохо. Сегодня стало еще хуже. Мне с трудом удается осознать, что такое состояние возвещает близкий конец. У меня даже нет сил устрашиться этого, и, зная, что более не увижу Вас никогда, я ни о чем не сожалею. Развлекайтесь, друг мой, как только можете, не горюйте, мы уже почти лишились друг друга. Вы будете сожалеть обо мне, ведь так приятно чувствовать себя любимым».
Эта последняя фраза кажется мне восхитительной, но ее следует дополнить: закончив диктовать письмо, мадам Дюдеффан с изумлением услышала, как рыдает ее старый секретарь.
«Да полно! – удивилась она. – Стало быть, вы меня любите?»
Мне представляется, что за этими словами проглядывает жестокая борьба – борьба страстей. Мы осознаем, что любим, мы хуже осознаем, когда нас любят; чувства, которые мы испытываем, доставляют нам больше счастья, чем чувства, которые мы внушаем, а когда уходит любовь, нами не замеченная, мы сожалеем. Вот как Уолпол воспринял эту смерть:
«Мне сообщили из Парижа печальную новость о кончине моей дорогой старой подруги госпожи Дюдеффан. Эта утрата отнюдь не была внезапной, к тому же преклонный возраст чуть смягчил боль от этой смерти. Ее память немного начала сдавать, но ум оставался все таким же острым. В течение последних пятнадцати лет я писал ей по крайней мере раз в неделю. Когда сталкиваешься с подобным несчастьем, не хочется говорить банальности».
Она хотела завещать ему все свое небольшое состояние, но он согласился принять лишь рукописи и золотую шкатулку с изображением Тонтона. Он отправил письмо с просьбой прислать ему и саму собачонку тоже, «потому что она такая злая, что с ней станут плохо обращаться». Тонтон прекрасно перенес путешествие, в Строберри-Хилл он вел себя так же отвратительно, как и в обители Дочерей святого Иосифа; для начала прогнал кота, затем отчаянно набросился на огромного пса Уолпола, и тот искусал Тонтона до крови. Какое событие для этого прежде спокойного, безмятежного дома! Прислуга обрабатывала раны Тонтона, приговаривая:
«Бедный песик, он даже английского не понимает!»
Шалости своего гостя Уолпол переносил стоически:
«Его необузданный нрав я не выправлял из дружеских чувств к своей старой подруге, но поощрять его поведение тоже не стал».
Впрочем, Тонтон быстро освоился и прожил еще десять лет. Отныне каждое утро в девять часов, когда Уолпол осторожно, чуть пружинящей небрежной и элегантной – о, еще какой элегантной! – походкой входит в свою любимую голубую комнату с окном, откуда виден зеленый луг, деревья и Темза, его появление встречено лаем Тонтона, раскормленного до такой степени, что пес с трудом передвигается. Тонтону достается добрая часть завтрака. Затем Уолпол насыпает в большую миску разные зерна, наливает молока и кидает смесь в окно в сад для белок, которые тут же спускаются с деревьев. Так и живет этот достойный джентльмен, который отчаянно противился чувствам старой дамы, не желая казаться сентиментальным, а теперь так трогательно и преданно заботился о собачке и белках. Контраст вполне в английском духе, возможно объяснимый.
Однако мадам Дюдеффан все же была отомщена. Уже в старости Уолпол повстречал сестер, двух мисс Берри, юных красивых девушек с живым умом, и испытал к ним чувства, почти столь же сильные, что и те, которые некогда сам внушал госпоже Дюдеффан. Но поскольку мужчины более тщеславны и не так непосредственны, как женщины, немолодой влюбленный нашел в себе силы обуздать страсти и держать себя легко и непринужденно. Он не оскорбил чувств своих прекрасных подруг и общался с ними до самой смерти, отыскав в нежной дружбе, которую некогда так жестоко отверг, единственные истинные радости своей жизни.
* * *
Так, один за другим эти два изверившихся в любви человека в итоге обратились к чувствам самым безыскусным и естественным и, долгое время искавшие счастья, осознали, что его можно найти лишь в забвении самого себя. Мне бы хотелось закончить отрывком из письма мадам Дюдеффан, написанного в тот день, когда Уолпол адресовал ей послание чуть более нежное, чем обычно:
«Важно ли, что ты стара и слепа? Важно ли место, где живешь? Важно ли, что все окружающие тебя – либо глупцы, либо сумасброды? Когда ваша душа готова кого-то принять, ей не хватает лишь объекта, которого она могла бы принять, а если этот объект отвечает на ваши чувства, то нечего более и желать».
От Рёскина до Уайльда[87]87
Перевод А. Смирновой.
[Закрыть]
Рассказывают, что Рёскин, пообещав прочитать лекцию о кристаллах, впоследствии уточнил через газеты, что название не совсем верное и говорить он будет о готической архитектуре. Поскольку он вообще слыл человеком, который не боится отступлений от темы, даже значительных отступлений, многие газеты, публикуя сообщение, отметили, что господин Рёскин излишне щепетилен, поскольку публика, скорее всего, замены и не обнаружила бы.
Сегодня я искренне сожалею, что не имею подобной репутации: это весьма удобно и предоставляет изрядную свободу действий, ведь я тоже сомневаюсь сейчас в названии своей лекции, заявленной как «Их эстеты. От Рёскина до Уайльда». Ибо эстет – человек, ставящий искусство превыше жизни. Действительностью эстет интересуется лишь в той мере, в какой может сделать из нее произведение искусства. Это определение, как мы убедимся в дальнейшем, прекрасно подходит Оскару Уайльду, но мне представляется, что Рёскин, которому мы собираемся посвятить половину нашего времени, являет собой противоположность эстету. Будь у нас возможность спросить его, он бы, разумеется, ответил, что жизнь важнее искусства. Рёскин говорил: «Единственная прекрасная живопись – это розы на детских щеках».
Ведь именно в реальном мире созданы заводы, образцовые фермы и даже чайные дома. Все это так. Но думаю, что Рёскин, как и Уайльд, оказался вовлечен в затяжной кризис традиции поклонения идеалам, что представляет собой одну из любопытнейших черт Англии новейшего времени. Именно сегодня я прежде всего попытаюсь показать вам, что Англия XIX века неизбежно, в силу своих особенностей, должна была явить миру эстетов; и это были эстеты двух разных типов: Рёскин – идолопоклонник, не отдающий себе в этом отчета, и Уайльд – закоренелый идолопоклонник.
Слово «идолопоклонник» я беру здесь в его буквальном значении. Много поколений английских художников и писателей поклонялись образам, картинам и даже – например, Уильям Моррис[88]88
Уильям Моррис (1834–1896) – английский поэт, прозаик, художник, издатель; основатель движения «Искусства и ремесла». – Примеч. переводчика.
[Закрыть] – художественному ткачеству. Они искренне верили, что созерцание предметов искусства, сама возможность жить среди «прекрасных вещей», как они говорили, превратит отвратительный мир нищеты, мир уродливых механизмов в нечто вроде земного рая.
* * *
Существуют эпохи, когда художники живут в согласии со своим временем и даже любят его; такова, к примеру, наша эпоха. Молодой французский литератор в 1926 году не испытывает никакого ужаса перед четкими формами гоночного автомобиля, американского локомотива или самолета, – напротив, созерцание этих форм делает из него поэта. Современный лирик, предположим Поль Моран или Монтерлан[89]89
Поль Моран (1888–1976) – французский писатель и дипломат. Анри де Монтерлан (1895–1972) – французский романист. – Примеч. переводчика.
[Закрыть], воспевает сегодняшнюю жизнь. Но в иные эпохи мы можем наблюдать разлад между художником и его временем. Английский XIX век как раз и иллюстрирует такой случай. Нам трудно представить себе, с каким ужасом молодой англичанин, живший между 1820 и 1900 годом, мог смотреть на механическую цивилизацию, что завоевывала его страну стремительнее и основательнее, чем какую-либо другую. Эту цивилизацию ненавидели тогда намного больше, нежели сейчас. Прекрасные некогда пейзажи застраивались уродливыми заводами и заволакивались копотью. Паровая машина, локомотив были отнюдь не полезными вещами, как мы воспринимаем их сегодня, а неуместными, чужеродными явлениями, чьи чудовищные силуэты возмущали современников. Английские рабочие трудились по четырнадцать часов в день. На фабриках использовался труд пятилетних детей. За каких-то полвека жизнь англичан сделалась убогой: вместо безмятежной счастливой сельской идиллии – прозябание в тесных зловонных лачугах городских предместий. В то же время поднимается и крепнет буржуазия – корыстная, стремящаяся к еще большему обогащению и власти. Для этой новой элиты с еще не сформировавшимися вкусами машины производят массовые произведения искусства, мебель с имитацией резьбы и типовым декором. Уродство господствует. Чудовищная мебельная обивка времен королевы Виктории возмущала современников, но новое индустриальное искусство образца 1900 года, так называемая «вермишель», было еще ужаснее.
Ничего удивительного, что, столкнувшись с таким уродством и такой нищетой, некоторые молодые люди искали убежища в культе Красоты. Самое забавное, что первые эстеты, восстав против ненавистного им времени, оказываются его образом и подобием. Корыстная и рациональная Англия, презираемая всем сердцем, оставила на них глубокий отпечаток.
* * *
Рёскин, к примеру, выходец из типичной английской семьи образца 1820 года. Его отец был крупным торговцем, импортировавшим испанские вина. В его характере прекрасно уживались суровая нетерпимая религиозность, хватка предпринимателя и любовь к живописи – исключительно английская смесь. Мать же была воплощением пуританки великой эпохи.
«Я видел, – рассказывал Рёскин, – как мать целый день, от рассвета до заката, разъезжала на автомобиле, никогда не опираясь о спинку сиденья».
Сына она воспитывала со всей суровостью и твердостью. Покупку игрушек миссис Рёскин считала грехом, и у маленького Джона их никогда не было. По воскресеньям картины, висевшие в доме, были повернуты к стене. Каждый день сын должен был читать ей вслух главу из Библии. Она следила за интонацией и не допускала ни малейшей неточности. Мальчик начинал с первой главы Книги Бытия и заканчивал последней строфой Апокалипсиса. Не имея ни игрушек, ни друзей, он целыми днями бродил по саду, с мечтательным любопытством наблюдая за птицами, цветами, изменчивыми облаками. В плохую погоду он мог бесконечно рассматривать рисунки на стенах своей комнаты. В три с половиной года, встав на стул, он уже произносил короткую проповедь. Родители слушали его с тщательно скрываемым восторгом и думали, что сын когда-нибудь станет епископом. Они взяли его с собой в путешествие. Господин Рёскин любил вести дела с коллекционерами картин, и, если какой-нибудь хозяин поместья, покупавший его порто, имел в своем собрании Веласкеса, наш торговец был на седьмом небе от счастья.
Прожив какое-то время в Англии, Джон отправился во Францию, а затем изъездил почти всю Европу. Он по-прежнему любил природу и подолгу созерцал ее. Родители опекали его так ревностно, что мальчик никогда не учился в школе. Когда же ему пришло время отправиться в Оксфорд, Англия стала свидетелем невиданного доселе зрелища: в университет молодого человека сопровождала мама. Но право же, тревожиться ей было решительно не о чем: Оксфорд не знал еще столь идеального студента. Карточных игр он страшился, как геенны огненной. По вечерам никуда не ходил. Никаких травм опасаться не следовало, поскольку спортом он тоже не занимался. Единственное, на что семейство условилось тратить деньги, – это покупка картин: отец дарил Джону по одной на каждый день рождения. Но миссис Рёскин так и не смогла решиться покинуть сына. Ей хотелось быть свидетельницей его успехов. Она уже воображала блестящую карьеру сына: он будет писать стихи, столь же прекрасные, как у Байрона, но еще и назидательные, станет произносить проповеди, столь же блистательные, как у Боссюэ[90]90
Жак-Бенинь Боссюэ (1627–1704) – французский религиозный проповедник, богослов, философ и писатель. – Ред.
[Закрыть], но протестантские, в сорок лет сделается епископом Вестминстера, а в пятьдесят примасом Англии.
В действительности же карьера его оказалась совсем иной. Выйдя из Оксфорда, юный Рёскин задался вопросом:
– Для чего я создан?
И сам себе ответил:
– Я создан, чтобы распространять и разъяснять доктрину.
Эту доктрину он сформировал и развил за годы своего плодотворного и сосредоточенного отрочества. Ее изложение вы отыщете в прекрасной книге господина Андре Шеврийона[91]91
Андре Шеврийон (1864–1957) – французский писатель, автор критических эссе об Англии и английской литературе. – Ред.
[Закрыть]«Философские взгляды Рёскина». Я все же отмечу некоторые моменты, имеющие отношение к нашему сюжету, и сделано это будет в нескольких аксиомах.
* * *
Аксиома первая (проистекающая из наблюдений за природой): «Мир прекрасен. Художник ничего не должен измышлять, он должен подражать тому, что уже существует. Жизнь свою надлежит посвятить созерцанию красоты».
Затем следует вторая аксиома (тут уже ясно виден пуританин, с детства читающий Библию): «Наслаждение от созерцания прекрасного, – так размышляет этот пуританин, – не является ли оно греховным наслаждением? Имею ли я на него право?» Это не греховно, отвечает себе Рёскин, поскольку прекрасное есть благо. А художник всего-то и должен, что отыскать божественное под видимой оболочкой. Подражать природе – значит воспевать Господа. «Прекрасное – это знак согласия с волей Провидения». Все красивые женщины суть ангелы, и тому имеется доказательство: утратив однажды свою ангельскую природу, они тут же становятся менее красивы.
Аксиома третья: «Созерцание прекрасного не обязательно эгоистично». В нем может таиться секрет всеобщего счастья, и даже счастья народа, который Рёскин так ценил, при условии, что мастер и мастеровой, как в Средние века, – один и тот же человек. Да, рабочий на нашем заводе несчастен, признавал он, но оттого, что он занимается механическим трудом. Когда мы видим в наших домах эти лампы, вазы, стулья серийного производства, нетрудно представить себе, как несчастливы люди, вынужденные их производить. И напротив, взгляните на соборы, на это многообразие статуй и украшений, и вы тотчас же почувствуете счастье мастера, их создавшего. Человеку подобает заниматься ручным трудом, который направляется разумом.
Эту доктрину Рёскин проповедовал всю жизнь через книги, лекции и даже собственные поступки.
Неподалеку от Оксфорда имелась старая разбитая дорога, на которую жаловались фермеры. Рёскин, будучи профессором искусств университета, предложил студентам подать пример физического труда и помочь отремонтировать дорогу. В течение нескольких недель местные жители наблюдали, как профессор и его ученики орудуют лопатами. Молодые люди приходили с большим удовольствием, потому что затем Рёскин приглашал их к себе и устраивал домашние конференции за чаем. Вот только дорога день ото дня становилась все хуже и вскоре сделалась самой ужасной во всем королевстве. Тогда профессор пригласил собственного садовника, и тот, имея, в отличие от хозяина, практические навыки, привел проезжую дорогу в более или менее пристойное состояние.
* * *
Итак, идея избавить мир от уродства, призвав на помощь своего садовника, прекрасно характеризовала Рёскина: дабы иметь право наслаждаться красотой мира, следовало сделать мир прекрасным для всех. Этому он и хотел посвятить жизнь.
И он мог себе это позволить. Отец скончался, оставив огромное состояние – сто пятьдесят семь тысяч фунтов. Нужды Рёскин не знал. Он был одинок. Он женился, но неудачно, поскольку совершил ошибку: взял в жены женщину, которая картинам предпочитала светское общество. Затем он совершил еще одну ошибку: пригласил к себе в поместье художника Милле[92]92
Джон Эверетт Милле (1829–1896) – английский художник-прерафаэлит. – Ред.
[Закрыть], чтобы тот написал его портрет. Это была двойная ошибка, поскольку Милле был плохим художником и красивым мужчиной. В результате этой двойной ошибки миссис Рёскин стала миссис Милле. Одинокий, сказочно богатый Рёскин решил употребить свое состояние на то, чтобы сделать мир достойным своих соборов. Начиная с этого момента его щедрость не знает границ. Количество его стипендиатов по всей Англии исчисляется сотнями. Всякий раз, получив звание профессора рисования в какой-нибудь школе, он, дабы поощрить учеников, дарил этой школе собрание рисунков художников из собственных коллекций. Во многих школах для девушек пожертвования Рёскина тратились на выборы королевы мая, а от него лично она получала золотой крестик и четыре десятка томиков его сочинений, которые ей надлежало распространить среди подруг по своему выбору; когда была возможность, при вручении премии он присутствовал лично. Ибо несчастный господин Рёскин ужасно любил общество молоденьких девиц и постоянно находился в невинной романтической связи с какой-нибудь из них. Особенно он был привязан к Рози Латуш, одной из своих бывших учениц, и после долгих прогулок по аллеям сада даже сделал ей предложение. Ему было пятьдесят три года, ей двадцать четыре. Возраст как раз препятствием не являлся, но девушка была глубоко религиозна, а Рёскин уже перестал верить. Веру своего детства он утратил по одной забавной и совершенно «рёскиновской» причине: он открыл для себя Веронезе. Поскольку, как он говорил, искусство Веронезе, искусство чувственное, лишенное моральной подоплеки, превосходит искусство Фра Анджелико, я не могу более верить. Рози Латуш не желала ни выходить замуж за неверующего, ни даже видеть его, она отвернулась от Рёскина, посулив встречу на том свете.
«Что толку? – с грустью размышлял Рёскин. – Я желал ее именно на этом свете. Оказавшись на небесах, я хотел бы беседовать с Пифагором, Сократом, с Валерием Публиколой, там о Рози я даже и не вспомню! Пусть она об этом и не думает. Так какое мне будет дело до ее серых глаз и розовых щек!»
* * *
Стремясь иметь что-нибудь, что привязывало бы его к этой жизни, он решил основать так называемую Гильдию святого Георгия, то есть объединить всех англичан, которые ради прекрасной Англии, свободной от влияния современной «машинной» цивилизации, готовы были бы пожертвовать на это десятую часть своего состояния. На территории гильдии не должно было быть ни машин, ни железной дороги; никакой праздности, как, впрочем, и всякого рода свободы; никакого равенства – напротив, уважение к превосходству.
К тому времени Рёскин уже потратил половину отцовских денег на своих протеже. У него оставалось семьдесят тысяч фунтов. Десятую часть, то есть семь тысяч фунтов, он отдал Гильдии святого Георгия и принялся ждать денег от потенциальных акционеров. Увы! За три года он получил от своих соотечественников всего лишь двести тридцать восемь фунтов десять шиллингов. Он предпринял тем не менее попытку создать мастерскую, где применялся бы только творческий ручной труд. Все потерпело неудачу. Тогда Рёскин решил реконструировать несколько самых убогих зданий в Лондоне, затем купил лавку в Паддингтоне, чтобы продавать чай по себестоимости, потом нанял дворников, чтобы те подметали улицы бедных кварталов. Но эти подвиги Геракла оказались не по силам ни самому Рёскину, ни его друзьям, ни даже его садовнику. Никакой, даже самый гениальный человек не в силах воссоздать мир с нуля, как будто ничего не существовало прежде. Вынужденный признать это, Рёскин страдал, и со временем обманутые надежды стали причиной помутнения его рассудка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?