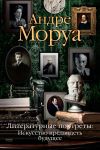Текст книги "Литературные портреты: Волшебники и маги"
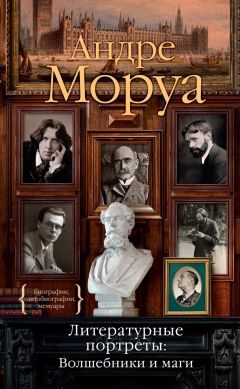
Автор книги: Андре Моруа
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
1812 Диккенс родился
1814 «Уэверлийские романы»
1819 Родилась Джордж Элиот
1832 Смерть Вальтера Скотта
1833 «Евгения Гранде»
1836 Женитьба
«Очерки Боза»
1837 «Пиквик»
1838 «Оливер Твист»
1839 «Николас Никльби»
1839 «Пармская обитель»
1840 «Лавка древностей»
1841 «Барнеби Радж»
1842 Америка
«Американские заметки»
1843 «Рождественские повести»
1844 «Мартин Чезлвит»
«Колокола»
1845 «Сверчок за очагом»
1847 «Кузина Бетта»
1847 «Ярмарка тщеславия»
1847–1850 «Пенденнис»
1848 «Домби и сын»
1850 «Дэвид Копперфилд»
1853 «Холодный дом»
1854 «Тяжелые времена»
1857 «Крошка Доррит»
1857 «Госпожа Бовари»
1859 «Повесть о двух городах»
1859 Мередит публикует
«Испытание Ричарда Феверела»
1860 «Мельница на Флоссе»
1861 «Большие надежды»
1865 «Наш общий друг»
1864–1869 «Война и мир»
1870 «Тайна Эдвина Друда»
1870 Смерть Диккенса
Мадам Дюдеффан и Хорас Уолпол[65]65
Перевод А. Смирновой.
[Закрыть]
Было бы любопытно понять, почему вокруг одних женщин собиралось мужское общество, именуемое салоном, а вокруг других – нет. Почему обычный салон с лентами огненного цвета, салон мадам Дюдеффан, вошел в историю Франции? Почему все самые примечательные люди того времени собирались в доме пожилой незрячей женщины? Или мадам Жофрен?[66]66
Мария Тереза Жофрен (1699–1777) – хозяйка знаменитого литературного салона, где в течение двадцати пяти лет собирались все лучшие представители интеллигенции Парижа. – Примеч. переводчика.
[Закрыть] Или, несколько позднее, мадам Рекамье?[67]67
Жанна Франсуаза Жюли Аделаида Рекамье (1777–1849) – французская писательница, хозяйка салона, который был литературным центром Парижа, объединявшим многих политиков, литераторов и художников. Ее имя стало символом эпохи. – Примеч. переводчика.
[Закрыть] Я прекрасно понимаю, какую роль играют красота и ум хозяйки салона, но есть еще одно – не столь очевидное – свойство, которое, сколь бы ни показалось это странным, более всего способствует подобному успеху, – умение справляться со скукой. Мужчины (да и женщины) никогда не прощают одного – своей ненужности. Как только в сердце некоего человека водворяется скука, безмерная, всеобъемлющая скука, жаждущая разговоров, развлечений, новостей, анекдотов, – она словно притягивает прочих скучающих. Всякая женщина, имеющая смелость произнести: «Каждый вечер я буду дома», в конце концов, приложив определенные усилия, соберет вокруг себя сторонников. Вместе с ежедневными гостями она создает своего рода тайный альянс против скуки, а зловещее присутствие этого невидимого врага обязывает соблюдать военную дисциплину. В конце концов, в каждой хозяйке дома может быть нечто от мадам Рекамье, но почти всегда в ней есть что-то от мадам Вердюрен[68]68
Госпожа Вердюрен – один из центральных персонажей цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». – Примеч. переводчика.
[Закрыть]. И маркиза Дюдеффан являет, возможно, самое убедительное тому доказательство.
* * *
Если для того, чтобы объединить группу светских людей, необходим эдакий основательный коллективный эгоизм, своего рода защита против скуки, то, без сомнения, никогда еще свет не знал большей скуки, чем та, что обуревала стариков в 1750-е годы. Именно у представителей этого поколения отвращение к жизни достигло апогея. Между ними и бездонной пропастью, именуемой скукой, не оставалось никакого барьера. Может, религия? Но почти все эти люди перестали верить еще на исходе отрочества. Мадам Дюдеффан, живя в монастыре, произносила безбожные речи перед подругами. Дабы наставить ее на путь истинный, семейство отправило к ней самого Масийона[69]69
Жан-Батист Масийон (1664–1742) – французский проповедник. – Примеч. переводчика.
[Закрыть]. Прелат выслушал малышку, излагающую свои взгляды, и искренне сказал: «Она очаровательна», но поскольку аббатиса настойчиво вопрошала, какие книги следует давать послушнице, Масийон добавил: «Дайте ей катехизис за пять су», и больше из него ничего было вытянуть нельзя. Девочка так и не обрела веру. Подруги были ей под стать. Как-то маршал Люксембург, открыв наугад Библию, сказал: «Какой стиль! Фи, какой ужасный стиль!», и шутка имела большой успех. В самом деле, в истинной религии есть такой пыл и такая серьезность, что эти дамы были шокированы.
Если бы еще они тяготели к иному пылу и иной серьезности, свойственным, к примеру, салону-конкуренту, хозяйкой которого была мадемуазель де Леспинас[70]70
Жанна Жюли Элеонора де Леспинас (1732–1776) – племянница мадам Дюдеффан; хозяйка парижского салона, писательница. – Примеч. перевод-чика.
[Закрыть], то, возможно, обрели бы вкус к тому, что именуется ныне «философией». Но философы вызывали у них ужас. О Руссо, как и о Библии, они с удовольствием сказали бы: «Какой стиль! Фи, какой ужасный стиль!» Когда Вольтер набрасывается на религию, мадам Дюдеффан укоряет его: это дурно. Когда Д’Аламбер[71]71
Жан Лерон Д’Аламбер (1717–1783) – французский ученый-энциклопедист, философ, математик и механик. – Ред.
[Закрыть] увлекается политикой, она отталкивает его: «Некоторые статьи грешили тенденциозностью, и сдается мне, что здравый смысл ему в этих случаях отказывал». Нет, она не принадлежит ни к поколению энциклопедистов, ни к поколению мадам де Ментенон[72]72
Франсуаза д’Обинье, маркиза де Ментенон (1635–1719) – фаворитка Людовика XIV. – Ред.
[Закрыть], она из переходного, промежуточного поколения, лишенного ритуалов и этикета времен Людовика XIV, которые могли бы занять и заполнить жизнь, и в то же время еще не открывшего для себя того, чем станут жить Руссо и позднее романтики, – радости живых чувств; она из поколения, знавшего одну лишь страсть – отвращение ко всякой страсти.
Любовь в браке представляется им нелепостью – впрочем, не большей, чем любовь как таковая. Молодость этих женщин пришлась на времена Регентства, когда любая связь длилась не более двух недель. Ровно столько длилась связь мадам Дюдеффан с регентом, и когда она еще вспоминает о ней, что бывает не часто, то удивляется ее длительности. В двадцать лет она вышла замуж за господина Дюдеффана, капитана драгун, блестящего офицера; они были бы прекрасной парой, «если бы не характеры», как писала она. Муж наскучил ей уже в первые недели брака, она находила, что он «предупредителен с ней до отвращения», и довольно скоро она стала изменять ему. Когда она приняла от регента содержание в шесть тысяч ливров, муж решил, что это переходит всякие границы, и расстался с ней навсегда. Она перепробовала множество любовников, но никем не осталась довольна. Все мужчины, по ее мнению, были фальшивыми, им недоставало естественности и все они (позволим себе грубое слово) зануды. В конце концов, за неимением лучшего, она согласилась заключить своего рода удобный союз с президентом парижского парламента Эно[73]73
Шарль Жан Франсуа Эно (1685–1770) – французский судья, президент парижского парламента, историк и писатель. – Ред.
[Закрыть], бывшим записным красавцем, чуть поувядшим, но хорошо образованным и приятным в общении. Он был умен, но не слишком учтив, она никогда его не любила; он ее, впрочем, тоже. Главная любовь в жизни Эно – мадемуазель де Кастельморон, особа кроткая и неприметная. Мадемуазель де Кастельморон наполняет его нежностью, мадам Дюдеффан развлекает, и он нуждается в обеих. Как забавно читать письма, которыми обмениваются эти нелюбящие любовники во время поездки мадам Дюдеффан на воды в Форж-Лез-О. Как-то вечером, после обильной трапезы президента охватила нежность, несвойственная этой паре, и он ей написал:
«Должен признаться, если бы мне было известно, где Вы находитесь, я немедля отправился бы к Вам. Погода стояла самая прекрасная, какую только можно себе вообразить, луна была великолепна, и казалось, даже мой сад вопрошал о Вас, но, как писал Полиевкт, зачем говорить о подобных вещах сердцам, коих не коснулся Бог? Я сожалел о Вас еще более, поскольку приписывал Вам чувства, которые одно Ваше присутствие могло бы разрушить».
Несчастный президент! Отчего он не писал таких красивых слов мадемуазель де Кастельморон? Мадам Дюдеффан, которой нежности были несвойственны, насмехается над его романтическим стилем, над этой луной, этим садом и с гордостью заявляет: «У меня нет ни чувств, ни чувственности», и президента это весьма удручает.
«У Вас нет ни чувств, ни чувственности? Мне Вас искренне жаль. Вы не хуже других знаете цену этой утраты, ибо, полагаю, Вам доводилось слышать о том и о другом. То, что Вы именуете чувственностью, воспоминания, лунный свет, все места, где посчастливилось увидеться с любимым существом, то состояние души, когда все, о чем думаешь, преисполнено нежности, празднество, ясный день – в общем, все, о чем говорили поэты, как мне представляется, отнюдь не смешно. Но возможно, для меня лучше, что Вы равнодушны к этим глупостям, столь дорогим моему сердцу. Пускай! Прошу у Вас прощения за все прошлые, нынешние и будущие ручейки, за птиц – это их сестры, за деревья – это их кузены, за чувства – это их далекие предки. Вот я и исправился, отныне письма мои станут лишь приятнее Вашему сердцу, я буду собирать для Вас городские новости, которые, как я полагаю, смогут Вас позабавить!»
В 1750 году, получив от королевы бывшие апартаменты мадам де Монтеспан[74]74
Франсуаза-Атенаис де Рошешуар де Мортемар, маркиза де Монтеспан (1640–1707) – фаворитка Людовика XIV, мать его семерых детей. – Ред.
[Закрыть] в обители Дочерей святого Иосифа и устраивая там свой салон, она сказала:
– Я, вне всякого сомнения, изменилась к лучшему, я отказалась от развлечений, я хожу на мессу в своем приходе. Но румянам и президенту я не окажу честь и не покину их.
Она права: подобная связь скорее епитимья, чем грех.
* * *
Итак, ни религиозной веры, ни веры в какую-либо философскую доктрину, ни веры в любовь. Возможно, она, всегда окруженная друзьями, верила в дружбу? О нет! Слишком много было в жизни разочарований. Мадемуазель де Леспинас, которую она привечала у себя, предала ее и увела половину завсегдатаев салона; за Леспинас последовал и Д’Аламбер; старуха сделалась ужасно недоверчивой и ревнивой, теперь она не прощает ни малейшей обиды. Она оберегает свое общество, она выслеживает каждого чужестранца, стоит тому лишь появиться в Париже, и не столько для того, чтобы заполучить его в свой салон, сколько для того, чтобы тот не появился у мадам Жофрен или не отправился к мадемуазель де Леспинас. Мы не ошиблись, вспомнив о мадам Вердюрен.
В 1753 году она ослепла, и, возможно, после этого несчастья к ней стали проявлять немного больше нежности, но она не верит в добрые чувства, она вообще никому и ничему не верит. Ее лучший друг, кто приходит каждый день на протяжении пятидесяти лет, – это Пон-де-Вейль[75]75
Антуан де Ферриволь де Пон-де-Вейль (1697–1774) – французский драматург, поэт, генерал-интендант флота. – Примеч. переводчика.
[Закрыть].
«У него трезвый ум, – говорит она о нем, – он здраво судит о людях, он живет только для себя, и, возможно, именно это и делает его более общительным».
Известен их диалог, записанный Гриммом[76]76
Фридрих Мельхиор Гримм (1723–1807) – немецкий публицист, критик и дипломат. – Ред.
[Закрыть].
«– Пон-де-Вейль?
– Да, мадам.
– Вы где сейчас?
– Возле камина.
– Лежите, задрав ноги на подставку для дров, как это принято в доме у близких друзей?
– Да, мадам.
– Надо признать, не часто встречаются столь длительные дружеские связи, как наша.
– Святая правда, мадам.
– Пятьдесят лет…
– Да. Прошло уже пятьдесят лет.
– И за это долгое время ни облачка, ни даже тени размолвки.
– Меня тоже это всегда восхищало.
– Но послушайте, Пон-де-Вейль, не означает ли это, что в глубине души мы безразличны друг другу?
– Очень может быть, мадам».
Позже, на следующий день после его кончины, она скажет: «Он не был ни нежным, ни ласковым, скорее верным и преданным». Из ее уст это была самая большая похвала, которой кто-либо мог удостоиться. К прочим она безжалостна. К ней, как ни к кому другому, подходят слова Лабрюйера[77]77
Жан де Лабрюйер (1645–1696) – французский писатель, сатирик-моралист. – Ред.
[Закрыть]: «Как трудно быть вполне довольным кем-то!» Дни напролет она исследует и анализирует всякого рода глупости, которые ее окружают: «Вокруг одни глупцы и мошенники». Когда она находит их не совсем глупыми, все равно есть некая вероятность, что они таковыми являются.
«– В самом деле, мадам, вы же не станете утверждать, что Матиньон лишен ума?
– Пожалуй, не стану, но его отец был глупцом, а он – сын своего отца.
– А Некер?
– Да, но… рядом с ним чувствуешь себя дурой».
Даже мадам де Шуазель, любимой бабуле, не помешало бы измениться. «Я любила бы ее сильнее, имей она наряду со всеми своими добродетелями хоть какие-нибудь слабости».
Можно понять, почему Вольтер писал ей:
«Есть ли в парижском обществе что-то еще, кроме злословия, сплетен и насмешек? Разве в своей праздности они не подвергают поношению всех, о ком говорят? Есть ли иное средство против скуки, коей удручен ваш ни к чему не пригодный высший свет?»
Вольтер прав. Чрезмерная праздность и распутство вкупе со скукой неизбежно ведут к злословию. Мадам Дюдеффан судит всех по собственному окружению: небольшой группе старых бездельников. Вероятно, в ее время, как и во все времена, были прекрасные верные друзья, но лишь доверие порождает доверие. Она не может выносить притворства, излишней чувствительности, и это прекрасно, но ее отвращение ко всему этому зачастую заходит слишком далеко, и за притворство она принимает любые чувства, которых не испытывает сама, все мнения, которые ей не близки. Всю жизнь она, по ее собственному утверждению, «срывает маски», это так, но порой вместе с маской она срывает и лицо.
* * *
Представьте теперь, каким могло быть утро нашей героини в 1765 году, когда начинается удивительная история, которую мы собираемся рассказать. В салоне, обитом муаром с золотыми бутонами и огненного цвета бантами, еще пусто и тихо, так будет до шести вечера. К этому времени мадам Дюдеффан, вставшая с постели в пять часов пополудни, появляется под руку со своим верным секретарем Виаром, садится возле прекрасного камина – пламя освещает рельеф герба Монтеспан. Мадам удобно устраивается в широком кресле, которое называет «бочкой», потому что считает себя циничной, как Диоген. Начинают прибывать завсегдатаи. Здесь президент Пон-де-Вейль, дряхлеющий, ворчливый, супруги Бово, Бройль, Шуазель, вдова маршала Люксембурга, которая после более чем легкомысленной молодости сделалась поборницей благочестия. Иногда появляется какой-нибудь англичанин, вот, например, этот странный Джордж Селвин[78]78
Джордж Огастес Селвин (1719–1791) – английский политик, член парламента. – Примеч. переводчика.
[Закрыть], очень умный человек и большой оригинал: его интересуют только трупы и казни; Селвин специально приехал из Лондона, чтобы присутствовать на казни Дамьена[79]79
Робер-Франсуа Дамьен 5 января 1757 г. совершил неудачное покушение на Людовика XV. После многочисленных публичных пыток был четвертован на Гревской площади 28 марта 1757 г. – Примеч. переводчика.
[Закрыть], и палач лично проводил его в первый ряд, расталкивая людей со словами:
– Пропустите месье! Он англичанин и большой любитель.
Друзьям хорошо была известна эта странность, и один из них, заболев и зная, что находится при смерти, велел своему слуге:
– Когда придет господин Селвин, впустите его. Если я к тому времени еще не умру, то буду рад его видеть, а если умру, то он будет рад видеть меня.
За стол садятся около девяти, ужинают, и мадам Дюдеффан блещет остроумием. Некоторые ее остроты становятся широко известны. О книге ее друга Монтескье: «Это не о духе законов, а о законе духов». О реформах господина Тюрго[80]80
Анн Робер Жак Тюрго (1727–1781) – французский экономист, философ и государственный деятель. – Ред.
[Закрыть]: «В добрые старые времена отступали, чтобы разбежаться и лучше прыгнуть, а господин Тюрго прыгает, чтобы лучше отступить». А ее слова, сказанные кардиналу Полиньяку, который поведал о мученичестве святого Дионисия: «Самое удивительное, – сказал кардинал, – это то, что он, держа свою отрубленную голову, дошел от Монмартра до Сен-Дени!» – «О! В таких обстоятельствах труден лишь первый шаг. Как говорится, лиха беда начало!» Они беседуют до полуночи, до часу ночи, около двух последние гости расходятся. Мадам Дюдеффан в отчаянии: «Еще так рано!» Может, Пон-де-Вейль и госпожа де Шуазель составят ей компанию? Иногда ей удается задержать их у себя до четырех утра. После их ухода она велит подать карету; потом прогулка по Парижу, и она наконец ложится спать.
«Я не могу заснуть всю ночь напролет, в голове моей такая путаница мыслей, не знаю, на какой остановиться. Их много, они сталкиваются, ссорятся, перемешиваются. Мне хотелось бы умереть и в то же время наслаждаться удовольствием оттого, что меня больше нет. Я перебираю в памяти людей, которых знаю, и тех, которых знала когда-то и кого уже нет в живых. Я понимаю, что нет никого без изъяна, и тут же осознаю, что я хуже их».
Наконец занимается день; впрочем, день или ночь – какая для слепой разница, но наступление дня означает, что придет чтец. Это старый солдат, которого она выписала себе из Дома инвалидов, но что он станет ей читать? Книги она перебирает так же привередливо, как и людей, угодить ей непросто. «Элоиза» Руссо? Там есть красивые куски, но все тонет в напыщенных разглагольствованиях. Нет, она предпочитает Монтеня, Расинову «Гафалию», некоторые стихи Вольтера, «Жиля Бласа», и то исключительно из-за стиля. Ах, угодить ей все труднее. Наконец, ближе к полудню, она засыпает, через несколько часов опять соберутся друзья – те самые, которым она бы с удовольствием сказала: «Друзья мои, друзей нет!» Бедная мадам Дюдеффан! Сейчас 1765 год, она еще не знает, что совсем скоро ее печальный жизненный путь пересечется – и почти полностью соединится – с другой человеческой судьбой, до сих пор ей неведомой.
* * *
Вы ведь представляете внешность сэра Роберта Уолпола, английского премьер-министра начала XVIII века, человека энергичного, склонного к скептицизму, большого любителя псовой охоты, который письма от своего конюшего вскрывал прежде писем от послов; он первый раскатисто смеялся, рассказывая сальные истории, и в набитой людьми церкви позволял себе хлопать по плечу ее величество королеву Англии.
А рядом с этим написанным яркими красками портретом (цвет лица ярко-красный, почти с фиолетовым отливом) трогательная пастель: грациозный, миниатюрный, женственный мальчик, абсолютно не похожий на своего знаменитого отца. Воспитанный женщинами, юный Хорас Уолпол манерен, скептичен, умен, деликатен. Отец-министр обеспечил ему синекуру, должность в казначействе, при этом неплохо оплачиваемую; в чем состоят его обязанности, Хорас не знает, зато это приносит ему от четырех до пяти тысяч фунтов стерлингов и избавляет от заботы о хлебе насущном. Благовоспитанный бездельник с прекрасными манерами. Английское общество той поры – общество закрытое и в высшей степени высокомерное. Разумеется, как всякий светский человек, он богат, получил классическое образование, а семейство обеспечило ему место в парламенте. У него отменные манеры, он остроумен и все же не похож на представителя французского светского общества того времени. У Хораса Уолпола и салона мадам Дюдеффан различные тональности, и любое чуткое ухо сразу распознает диссонанс. Изрекать в течение всего вечера остроты, даже если они и впрямь удачные, по мнению Уолпола, несколько вульгарно. Позднее некто Браммелл[81]81
Джордж Браммелл (1778–1840) – английский денди, законодатель моды в эпоху Регентства. – Примеч. переводчика.
[Закрыть] скажет, что быть хорошо одетым означает не привлекать к себе внимание, а Хорас Уолпол считает, что незаметен должен быть ум. Браммелл заставит слуг надевать свои новые платья; полагаю, Хорас Уолпол охотно заставил бы собственного лакея «изнашивать» свои остроты. Он полагал вещь красивой, если видел в ней естественную небрежность. У него, разумеется, прекрасный слог, но он не спешит обнародовать свои записки. Признак хорошего тона – быть дилетантом. Единственные дилетанты, которых он признает, – это мадам де Севинье[82]82
Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (1626–1696) – писательница, автор «Писем» – самого знаменитого в истории французской литературы эпистолярия. – Ред.
[Закрыть] и Гамильтон[83]83
Антуан (Энтони) Гамильтон (ок. 1645–1719) – французский писатель, шотландец по происхождению; был солдатом и литератором. – Ред.
[Закрыть] – автор «Мемуаров графа де Грамона». К мадам де Севинье он питает особую слабость, называет ее Нотр-Дам-де-Ливри и более всего признателен ей за то, что весь свой талант она, как и он, вложила в письма. Итак, Уолпол сам создал образ Уолпола и сам счел его очаровательным – это образ человека с прекрасным вкусом, эгоистичного, остроумного, оригинального, но не слишком (в оригинальности он тоже предпочел остаться дилетантом), совершенно пустого и преисполненного высокомерия. На свет и на жизнь он смотрит с веселым презрением. Определив, к большому собственному удовлетворению, стиль своего персонажа, он старается по возможности более не касаться этого эскиза, дабы невольно не разрушить очарования.
У Хораса Уолпола много друзей среди женщин, по преимуществу немолодых, с которыми он обменивается знаками внимания, стихотворными приветствиями, и никогда ни тени чувственности не потревожило его покоя. Дабы убить время, он занимался садом – довольно легкомысленное занятие, вполне приличествующее его образу. В Англии – эпоха ландшафтных садов, в моде причудливые аллеи и искусственные холмы, бросающие вызов четкости и правильности регулярных французских парков. Уолпол – истинный арбитр вкуса в этом искусстве, о котором даже написал небольшую книгу, ибо это сюжет, достойный пера истинного джентльмена. Затем неподалеку от Ричмонда он приобрел Строберри-Хилл и не торопясь принялся возводить там дом, который искренне считал образцом идеального вкуса. Впрочем, на этот счет Уолпол, похоже, питает беспочвенные иллюзии. Строберри-Хилл, в том виде, в каком он в итоге получился, – маленький готический замок из гипсового камня кремового оттенка, полукрепость-полуцерковь. Внутри римские алтари, колонны, как в монастырской галерее, итальянские декоративные орнаменты, присланные из самой Флоренции, камины, расписанные современными художниками, эдакая мешанина шедевров и экспонатов музея ужасов. Право же, для человека с хорошим вкусом безопаснее было бы ничего не делать вообще. Впрочем, сам хозяин находит Строберри-Хилл очаровательным и поистине счастлив. Около девяти утра он в белом, вышитом серебром жилете входит в свое самое любимое помещение – голубую комнату, что над Темзой, где его ждет завтрак, сервированный на тонком фарфоре. Он ступает легкой пружинящей походкой, с чуть напускной небрежностью; он элегантен и знает это, он элегантен в самую меру. Ах, как же приятно осознавать себя Хорасом Уолполом!
* * *
Таков этот человек, который в 1765 году, то есть в возрасте сорока восьми лет, решает приехать во Францию на довольно длительный срок, поскольку в собственной стране его постигли разочарования, ударившие по самолюбию. Он прибывает в дурном расположении духа, снабженный рекомендательными письмами леди Херви[84]84
Мэри Херви (1700–1768) – фрейлина королевы Каролины. – Примеч. переводчика.
[Закрыть] к мадам Жофрен и Джорджа Селвина к мадам Дюдеффан. Он категорически не желает, чтобы это путешествие стало ознакомительной поездкой, потому как его ужасает все серьезное.
«Забавные безделки – вот единственное, что мне сейчас хоть сколько-нибудь нужно. Я видел тщету всего именуемого серьезным и лицемерие всего, что имеет притязание быть таковым. Я желаю познакомиться с французским театром и накупить французского фарфора, а не изучать способы правления и не размышлять об интересах наций».
О первом путешествии во Францию, которое Хорас Уолпол совершил в 1739 году, у него сохранились самые приятные воспоминания. Это была пора его юности, и Франция, еще пропитанная духом Регентства, ему очень понравилась. Вернувшись во Францию 1765 года, Францию энциклопедистов и философов, он был поражен. Как! И это французы, которые запомнились ему такими веселыми и беззаботными? Увы! Они сделались англоманами. А что же позаимствовали они в Англии? То, что есть в ней самого ужасного: вист, «Клариссу Гарлоу» и этого несносного философа Дэвида Юма, которого презирает лондонское окружение Уолпола и который здесь, в Париже, – кумир салонов, несмотря на его французский, столь же невразумительный, как и его английский. А о чем же беседуют эти несчастные?
«После виста все собираются в тесном кругу и пускаются в разговоры о литературе или о безбожии, пока не настанет время ложиться спать, вернее, время, когда следовало бы просыпаться».
«Смех так же вышел из моды, как и марионетки или бильбоке. Несчастные! У них нет времени посмеяться: прежде следует поразмышлять о том, как свергнуть Бога и короля; и мужчины, и женщины, все до единого, обдумывают, как это сделать. Меня считают здесь профаном, потому как во мне остались еще крупицы веры».
«Французы очень любят философию, литературу и вольнодумство: первая никогда не была и никогда не будет предметом моих интересов, что же до двух других, я давно от этого устал. Вольнодумство необходимо самому человеку, а не обществу, более того, каждый уже определился со своим образом мыслей или признал, что ему лучше не мыслить вообще; что же касается прочих, я не вижу, почему затевать разговоры в защиту религии – это ханжество, а против религии – нет. Сегодня мне довелось ужинать в компании десятка ученых, и хотя вокруг постоянно толклись слуги, разговор был куда менее сдержанным – даже когда речь заходила о Ветхом Завете, – чем у меня за столом в Англии в присутствии одного-единственного лакея. Что же до литературы, это превосходное развлечение, когда не находится занятия получше, но в обществе разговоры о ней отдают педантизмом, а когда ею занимаются публично – то и откровенной скукой».
Поначалу, окутанный густым облаком виста и литературы, Хорас Уолпол чувствует себя очень несчастным. К тому же если лондонские приятели считали его важной персоной, здесь он был никем. У мадам де Жофрен он не преуспел, у мадемуазель де Леспинас это оказалось тоже совершенно невозможно: он не попадал в тональность молодого поколения; тогда, вооружившись рекомендацией Селвина, Уолпол отправился к мадам Дюдеффан. И тут приятный сюрприз: никаких философов, старики – но старики остроумные, циничные, язвительные, именно то, что нужно.
У нее в салоне Уолпол позволяет себе выходки, над которыми все смеются, просит рассказывать истории времен Регентства и не скрывает, как счастлив; ему за это признательны, – словом, клан его принял.
Что же до самой мадам Дюдеффан, она не просто была покорена – она буквально влюбилась в этого англичанина, как не влюблялась в юности ни в одного из своих поклонников. Ее победили на ее собственной территории, где она считала себя неуязвимой. Других людей она всегда находила слишком искусственными и манерными, а себе ставила в заслугу естественность, и тут появляется человек, который ее саму считает почти манерной, притом что она-то как раз находит его непосредственным и искренним; человек, который презирает больше литераторов, чем она, для которого Монтень недостаточно прост и который не скрывает, что госпожу де Севинье предпочитает госпоже Дюдеффан. Он намеревается совершить паломничество в Ливри, чтобы своими глазами увидеть мостик, где Несравненная прогуливалась в ожидании писем мадам де Гриньян[85]85
Имеется в виду дочь мадам де Севинье – Франсуаза-Маргарита, графиня де Гриньян (1646–1705). – Ред.
[Закрыть]. Госпожа Дюдеффан впервые чувствует уколы ревности. Она просит описать внешность англичанина; ей говорят, что он высок, строен, хрупок и у него самые красивые на свете глаза. Она осторожно проводит рукой по его лицу, пытаясь представить себе его черты. Она, которая царит в этом обществе, где так боятся ее колких эпиграмм, робеет перед ним, спрашивает его совета обо всем, вновь становится маленькой девочкой и хочет, чтобы ее называли «моя крошка», а его самого начинает называть «мой наставник». Она, которая вот уже двадцать лет живет в броне цинизма, кичится тем, что презирает мужчин и не верит в чувства, теперь предлагает свою дружбу, умоляет, чтобы ее приняли, и признает, что встретила человека более холодного, более искушенного, чем она сама, который отвергает ее, не верит в дружбу, – скифа, существо из снега и льда, словом, англичанина. Повинуясь инстинкту, что являет собой извечную пружину человеческих трагедий, она преследует того, кто от нее ускользает, осыпает его комплиментами.
«Боже мой! Как же отличается Ваша страна от моей. То, что ныне именуется красноречием, мне так ненавистно, что я предпочла бы язык базара. Вы же, англичане, не подчиняетесь никаким правилам, никаким предписаниям, вы позволяете гению формироваться без принуждения».
Или вот еще:
«Что меня притягивает в Вас и, похоже, отталкивает от Вас многих других, так это Ваша невероятная искренность. Порой Вы позволяете себе непристойности, но меня это нисколько не раздражает».
Где то время, когда президент Эно извинялся перед ней за упоминание лунного света или давно увядших чувств? Теперь она сама говорит о чувствах, прежде ей неведомых, и когда Уолпол упрекает мадам за излишнюю сентиментальность и неподобающие страсти, она отвечает ему, что лучше умереть, чем не познать любви.
Уолполу, человеку тщеславному (и даже очень), льстит то, что он нравится женщине, которая, как утверждают, весьма умна, к тому же, не будучи злым от природы, он даже немного жалеет старую слепую даму. Вот только он несколько обеспокоен слишком пылким проявлением любви. Уолполу претят сильные чувства, и от подобных выражений привязанности он бежит как от чумы. Одному молодому человеку, предлагавшему дружбу, он ответил так:
«Дабы удержать дружбу в определенных границах, постарайтесь понять, что мое сердце не похоже на Ваше – юное, доброе, горячее, искреннее и щедрое; мое же сердце устало от низости, предательства, разврата, коих было достаточно в моей жизни, оно недоверчиво, подозрительно и холодно. Все происходящее вокруг воспринимается мною как развлечение, ибо если я начну относиться к этому всерьез, то ужаснусь; я смеюсь, чтобы не заплакать. Умоляю Вас, не любите меня, нет, не любите! Я еще мог бы Вам верить и вовсе не разделяю мнения мадам Дюдеффан, утверждающей, будто лучше умереть, чем не познать любви. Я предлагаю нам компромисс: Вы будете ее любить, коль скоро она желает быть любимой, а я стану Вашим наперсником, мы с Вами приложим все усилия, дабы ей понравиться, но я не желаю идти дальше; считайте же, будто я постригся в монахи и ничто на свете не заставит меня нарушить сей обет. Побеседовать с Вами через решетку в Строберри – вот самое мое горячее желание, но ни слова о дружбе: я ее более не чувствую и открыто в этом признаюсь. Считайте это послание аккредитивом, и, как все документы подобного рода, его следует обменять на наличные деньги; Вам известно, что Вы не получите от меня прибыли, но как Вам знать и как узнаю я сам, буду ли я столь же щепетилен?»
Воистину трудно представить себе человека более трезвомыслящего и лишенного иллюзий, и мадам Дюдеффан досталась весьма сложная роль.
* * *
В какой-то момент Уолполу пришлось вернуться в Англию. Он пообещал приехать вновь и взял со своей престарелой подруги слово вести себя благоразумно, не писать ему слишком нежных писем и не говорить о нем слишком много. Ибо более всего на свете Уолпол опасается быть смешным. Он представляет себе, какие куплеты могут слагать парижане о любовной страсти прекрасного англичанина и семидесятилетней старухи. И еще ему хорошо известно, что письма вскрываются в секретном отделе полиции. Так что же, неужели столь совершенный образ, над которым он с такой любовью и тщанием работает вот уже тридцать лет, окажется искажен из-за любовного старческого помешательства подруги? Он уже знает, что она слишком много болтает, ему передавали ее слова – до того пылкие, что звучали они комично. Итак, он принял все меры предосторожности и дал всевозможные рекомендации.
Вот выдержки из ее первого полученного им письма:
«Для начала примите уверения в моей осмотрительности, никто не узнает о нашей с Вами переписке, и я намерена строго следовать Вашим предписаниям. Я делаю все, чтобы утаить свою печаль, и, за исключением президента и госпожи де Жонзак, с которыми мне пришлось говорить о Вас, я никому не произносила Вашего имени. В этом смысле можете быть спокойны, и коль скоро никто нас не слышит, я могу чувствовать себя свободно и сказать Вам, что невозможно любить сильнее, чем я люблю Вас».
Любить! Вот слово, которого так боится Уолпол. Прежде чем покинуть Францию, он в письме из Амьена вновь умоляет ее избегать «нескромностей и романтического безрассудства». Мадам Дюдеффан приходит в ярость:
«Будь Вы французом, я сочла бы, что Вы дерзкий остроумец, но Вы англичанин, следовательно, всего лишь дерзкий безумец. Скажите, где Вы отыскали „нескромности и романтическое безрассудство“? „Нескромности“ – еще ладно, пусть будет так, но „романтическое безрассудство“? Я возмущена до глубины души, я готова вырвать Ваши глаза, которые все считают такими прекрасными; как Вы смеете предполагать, будто вскружили мне голову! Я тщетно пытаюсь отыскать оскорбление, которое могла бы бросить Вам в лицо… запомните хорошенько: я люблю Вас не более, чем следует, не более, чем заслуживают того Ваши достоинства. Вернитесь же в Париж, и сами увидите, как я буду себя вести».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?