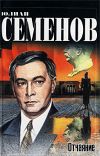Текст книги "Любовь – полиция 3:0"

Автор книги: Андрей Чернышков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Галинословие I
– Предметом изучения сей науки являешься ты. Ты – это та, к которой обращаешься и которая в силу разных обстоятельств меня не слышит, не видит, не хочет знать, отрицает. – Ну какое ещё галинословие? Для чего? Сколько уже наштамповано логий и софий? Не надо захламлять мир! – возмутишься ты.
– Вот столкнёшься с подобным опытом – с опытом отрицания своего присутствия в жизни самой этой жизнью, самым главным воплощением этой жизни, то обязательно поймёшь, что познание любимого человека, зазнобы с глазами Бога (а кто ещё может смотреть любимыми глазами?) становится экзистенциально важным – вопросом жизни и смерти. Хотя кому я это рассказываю!
– Мне?
– Это потом, когда человека отпустит, когда связь с любимым уйдёт на второй план, и человек падёт до роли муравья в муравейнике, тогда галинословие покажется блажью, прихотью распоясавшегося галинослова. А спроси ты влюблённого в тебя прямо сейчас…
– Почему тогда «галинословие», а не «тебясофия»? Речь же не конкретно обо мне?
– Конкретно, Галя.
– Не в имени же дело!
– Согласен, ты гораздо просторнее и величественней, чем имя, и, чтобы даже только приблизиться к тайне твоего явления, имени недостаточно.
– Меняем название новой науки?
– Нет! Прости. Я вполне допускаю, что можно любить Марию, Александру, Катю, и тебе сносней универсальная и абстрактная тебясофия. Но…
– Мария, Александра, Катя?
– В галинословии, в отличие от других наук, нет обобщений, анализа, синтеза, критики, логики! Всё это малопригодно в приближении к тебе. Ты, во-первых, единственна, во-вторых, непредсказуема и перманентно нова. И ты не потерпишь обобщений и экспериментов над собой. Ты настолько индивидуальна и неповторима, что любая систематизация становится препятствием и лишь отдалит меня от тебя.
– Мария, Александра, Катя?
– Галя! Всё галинословие – обращение к тебе. Тебясофия не личностна и не требует конкретного имени. Тебясофия как теософия – насмешка над Богом. Разве не так? Я знаю лишь, что не галинословие – ответвление от тебясофии, а тебясофия – одно из направлений галинословия.
– А мне зачем галинословие? Зачем мне приближаться к самой себе?
– А ты кого безответно любишь?
– Да так, дурака одного! Надеюсь, ты не конкретизируешь свою псевдонауку до отчества и фамилии?
– Отчество, фамилию, звезду, под которой ты родилась, я не трону. Наука сия не может зависеть от внешних факторов. Она лишь учитывает их, но в основе познания тебя лежит исключительно радость жизни. Она как индикатор, как стрелка компаса будет указывать на именно те двери, направления и стези, которые приведут к тебе. А всё, что мрачно, туманно и сложно, уводит от тебя, как Иван Сусанин, в трясину.
– А Сусанин-то в галинословии с какого боку?
– Да не в нём дело: жадность, ложь, гордыня собьют с пути любого. И даже если этот любой каким-то ушлым способом приблизится к тебе, приблизится не до конца искренне и честно, то он не сможет ни коснуться тебя, ни удержать тебя рядом – близость окажется самообманом. Вместо любимых глаз нечестивый всегда увидит прощальную улыбку Сусанина.
– Кто у тебя ещё из доверенных лиц?
– Путь к тебе я бы сравнил с суворовским восторгом, если бы великий полководец под конец карьеры не пленил Емельяна Пугачёва по повелению иноземки. Путь к тебе – восторг, но не совсем суворовский. И на пути к тебе не поможет ни русскость, ни какие-либо авторитеты, ни попы, ни цыганки, ни коты, ни рыбки. Хотя они и будут попадаться по дороге к твоему доверию. Доверие твоё – это двери, вводящие в Царство Небесное, в жизнь вечную, в град Китеж, Иерусалим. Доверие твоё сакрально. И всё галинословие – поиск этих невидимых ворот, над которыми надёжней любого стражника сияют твои глаза.
* * *
Повествование Шишликова о Гале оборвалось второго июня, когда в фойе провинциального концертного зала она надменно поворачивалась к нему спиной, пряча лицо и глаза после концерта. Весь месяц с того дня он правил рукопись и подыскивал в сети подходящее для лирики издательство.
Иногда работа над книгой истощала его до безудержной потребности поговорить с кем-то. Он выбегал из дому, мчался то к Дому Чайковского, то к Варваре, живущей в старинном квартале города, и проводил с ними время.
Если Александр радовался почти любому собеседнику, с которым можно скоротать часы монотонного дежурства, то с Варварой было сложнее: Шишликов смотрел на неё без подобающего внимания. Ему требовалось её внимание, но без взаимности. Отсутствие внимания к ней он прятал под приглашениями в кафе и лёгкими ухаживаниями. С Кристиной и Лалибелой складывалась такая же история: Шишликов был истощён изложением исторического эпоса и ничего, кроме прогулок и бесед за столиком в обмен на их внимание, не мог предложить. Они и не претендовали на большее, но совсем без внимания девушкам тоже нельзя. Ему было важно, что они говорят, и он прислушивался к их словам, но совсем не интересовался их делами. Например, он не мог допустить, что они героини своих собственных повестей и романов, и определял им вторые роли в своём. В общем-то, люди всегда только этим и занимаются: распределяют вторые роли. А первые занимаются помимо их воли – сами собой.
Разослав рукопись в четыре издательства, он стал готовиться к поездке домой. За неделю до самолёта обнаружил анонс нового Галиного концерта в местной столице и перенёс запланированный полёт в столичный аэропорт. Последние три месяца в его городе шла подготовка к крупному саммиту, и полдороги к храму патрулировала полиция. Основные политические мероприятия организовывались в выставочных залах буквально в пятистах шагах от церкви. Ежедневно пересекая ограждения, Шишликов размышлял, влияет близость подобных событий на судьбу его отношений или нет. На случай, если президенты и канцлеры решат прогуляться по площади Чайковского, он баллончиком белой краски начертил возле храма три формулы «Г+А=Л Я».
Прогулку сильных мира сего Шишликов представлял себе как Ялтинскую конференцию: смотрящий по кличке «Козырь», следуя своему задиристому характеру, решит потешиться над смотрящим по прозвищу «Кормчий». Он вскользь напомнит сопернику, чьи стрельцы здесь базируются. На что Кормчий ответит:
– Это же прошлый век – шестой уровень управления!
– Какой уровень?
– Шестой, Дональд, шестой! Самый примитивный и ненадёжный!
Затем поднимет указательный палец в сторону золотых православных крестов:
– А у нас тут храмы! Второй уровень! Сечёшь?
Козырь, не зная, чем крыть и что сечь, вместе с переводчиком потупит взгляд долу. Но Кормчий не пожалеет загнанного зверя – он обратит внимание белобрысого Козыря на очень кстати подвернувшееся граффити и выразительно прочтёт по слогам:
– Г + А = ЛЯ.
– G + A = LYA?
– Имя такое! Как Катюша!
– Kak Katyusha? A plus?
– А плюс – высший уровень управления!
Козырь стушуется и поникнет. Переводчик будет уволен. Шпионы получат задание найти новейшее загадочное оружие. Кормчий победоносно вернётся в Москву с идеей: «А не наградить ли тамошнего настоятеля за заслуги перед отечеством?» И оба смотрящих на разных полушариях планеты будут гадать: «Кто же такая Галя?»
«Царевна моя!» – вздохнул Шишликов, оценивая свою работу и пакуя аэрозольный баллончик с краской в бумажный пакет.
Молебен о путешествующих
Помимо отдельных молитв на все случаи жизни, у христиан в ходу ещё и целые молебны – краткие просительные или благодарственные богослужения. Они составляются из общих молитв, чтения Евангелия и обращений к определённым святым. О даровании дождя во время засухи обращаются к Илье Пророку, при падеже скота – к священномученику Власию, при жатве молятся перед иконой «Спорительница хлебов». Молебны можно совершать и без священника, но с ним всё обретает особое торжество. Особенно это ощущается на водосвятных молебнах, когда сквозь душный июньский воздух в лицо летят брызги живительной влаги.
Не было ничего желаннее и вкуснее воды – это он помнил с самого детства. Приходя с соседнего стадиона домой, он первым делом закрывался в ванной, включал кран и, едва дождавшись, когда потечёт самая холодная, жадно припадал губами к ледяной струе. За стеной на кухне отец обсуждает с матерью путёвку в Анапу, в большой комнате голос Капицы из «Очевидного-невероятного», а в белую раковину стекает по щекам живительная влага. Разбитые колени, пропитанные пылью гетры и кеды ждут своей порции воды. А зимой мокрые шерстяные носки и обледеневшие ритузы, которые при желании можно сломать, – всё нуждалось в самой простой на свете субстанции.
Так же и в деревне после похода с тяпками на колхозное поле или за кукурузой в знойный полдень мчишься с братом наперегонки в прохладные сени к стальным вёдрам с колодезной водой. Черпаешь одну, вторую, третью кружку яркого сверкающего вещества и ничего – абсолютно ничего – больше не хочешь.
Утоление жажды – самое большое наслаждение в жизни. А утолять её можно до бесконечности – вон её сколько – воды! Колодцы, колонки, родники.
Молебен о путешествующих самый распространённый после благодарственного и молебна о здравии. Для Шишликова он давно стал непременным началом любой дальней поездки. В приходе блаженного Прокопия его можно было заказать заранее, а в общине Иоанна Кронштадтского принято было указывать имя путешественника в записке на еженедельном акафисте. Записанные имена читались перед образом Святителя Николая, и это придавало уверенности в богоугодности затеянного дела и в благополучии путешествия.
Услышав несколько раз своё и Галино имя, произносимые попом в прошении небесного покровительства, Шишликов удовлетворенно остался на беседу, а после неё подошёл к настоятелю. В руках он держал окончательную версию своих воспоминаний о Гале в виде ёмкой рукописи с портретом на титульном листе.
– Я это читать не буду! – твёрдо произнёс отец Иоанн в ответ на протянутую ему увесистую кипу бумаги.
– Я не для этого, я только показать, что она готова, что обложка красивая.
– Если тебе нечем заняться, то подожди минутку! – священник тихим шагом направился к северным вратам алтаря.
Шишликов стоял посреди храма, оглядывался на покидающих его прихожан и испытывал чувство дежавю. Что-то подобное с ним уже происходило.
Тогда ему было столько же, сколько Гале, и он был влюблён в одну местную художницу. Её звали Эллен, и она совершенно не говорила по-русски.
В первые дни знакомства, когда всё очень хрупко и зыбко, он нарисовал девушке открытку: сидящего чёрного человечка. Человечек выглядел поникшим: что-то довлело над ним, и к образу прилагался текст на почти неизвестном языке – языке кирибати.
Имелся у Шишликова один приятель, побывавший на всех континентах и взявший себе в жёны островитянку. Приятель резко выделялся среди однокурсников прямотой и грубоватостью, что не прибавляло ему симпатий. Он часто и со всеми ссорился, и доверие к его россказням было почти нулевым. И тем не менее Шишликов слушал его с большим интересом. Приятель рассказывал, что ему на свадьбу подарили остров в Тихом океане. Таких маленьких с пальмами островов в архипелаге Южного полушария была уйма, жить на них невозможно, но в качестве свадебного подарка это было грандиозно. Шишликов долго приятелю не верил – уж слишком неправдоподобно звучали его рассказы про три метра над уровнем моря, про государство с единственным консульством в мире, находящимся именно в их городе, про одиночные заплывы на лодке в такие дали, где кругом только синева воды и неба. Про молодую жену, оставшуюся там. Про невыносимую тоску вдали от земли. И вот однажды, к глубокому восхищению Шишликова, приятель накопил денег и привёз-таки с далёких островов свою супругу. Милая и совершенно дикая девушка словно сошла с полотен Гогена. У смуглой улыбчивой микронезийки было два имени, две формы одежды и два языка. Имя латинизированное и родное: Моника и Такауэ. Одежда цивилизованная и национальная. Язык интернациональный и островной.
Моника упрямо не понимала, что от неё хотят. Приятель Шишликова долго объяснял жене, что и как нужно написать, а Шишликову, что на кирибати нет времён, кроме настоящего. После жаркой дискуссии Такауэ накарябала Шишликову на открытке три загадочные фразы на своём языке.
Эллен целый вечер расспрашивала, что обозначает открытка, он отшучивался, что это древняя островная легенда про одну пару, а на следующий день и вовсе изложил её на бумаге. Как подобает романтической истории, легенда вышла грустной.
С этой легендой, умещавшейся на одной странице печатного листа, он носился по переводчикам и друзьям. И, когда однажды художник Рома позвал его на помощь в рытье канавы на территории зарубежного прихода, в грудном кармане у Шишликова пылала и жгла ткань первая проба пера, рвущаяся наружу. Когда они с Романом и ещё двумя мужиками заканчивали работу и стояли по пояс в земле, к краю ямы подошёл маленький кругловатого лица священнослужитель.
Шишликов впервые видел вблизи человека в рясе, и ему захотелось как-то заявить о себе. Из ещё неглубокой могилки он протянул священнику своё бессмертное творение.
Остров тонул в зелени некошеных лугов и синеве бездонного тропического неба. К западу обрывался, дозволяя лазурным волнам океана рыдать у подножия Белой Скалы. Каждый вечер на обрыве сидели двое: Он и Она. Он держал в своей ладони руку Оны и говорил. Говорил Он о разном: о звёздах, о море, о том, куда уходит солнце, когда облака становятся розовыми. Она смотрела вдаль и слушала. Дни проходили за днями, луна худела и поправлялась, сезонные ветры меняли своё направление, но каждый раз на закате на вершине скалы вырисовывались две фигурки: мужчины и женщины.
В одно утро на той стороне, где солнце начинало своей ежедневный путь, Он разглядел странное облако, перепутавшее небо с отражением в волнах и плывущее по воде. По мере приближения облако становилось ещё странней, и когда поравнялось с островом, остановилось. От облака отделилась лодка, в которой гребли несколько полосатых людей, а посреди стоял один в белом одеянии. «Ко мне в гости пожаловал сам Господь», – мелькнуло в голове у Она. «Она, Она, посмотри, Бог спустился к нам с неба», – поспешил Он обрадовать Ону.
Полдень. Он принимал в своей хижине Господа и полосатых ангелов-слуг. Она подавала к столу сочные плоды агаисовых деревьев на широких и плотных листьях кои, и слушала, что пришёл сказать Господь.
Господь сказал имя: «Я».
Ещё сказал, что плывёт туда, куда уходит на закате солнце, и что там хорошо. Ангелы смеялись. Я достал прозрачный сосуд с красной водой и налил оттуда в глиняную чашу Ону. «Пей». Он испил из чаши до дна. Внутри Она всё заиграло, и Он почувствовал прилив доселе незнакомых волн. И Я сказал: «Пей». И Он выпил вторую чашу божественного напитка. Мир поплыл. Взгляд Она задержался на мгновение на Оне, растерянной и недоумённо-улыбающейся, и полетел дальше – в неведомые дали.
– Она, пойдём туда, куда уходит солнце! – сказал Я.
– Да будет воля твоя, Я! – Она поцеловала засыпающего Она: – Жди Ону, Она посмотрит, куда уходит солнце, и будет говорить, а Он будет смотреть вдаль и слушать.
Вечером у Она болела голова. А потом, когда, оббегав весь остров в поисках Оны, Он никого не нашёл: ни Бога, ни любимой, – Он поднялся на белую скалу и увидел в лучах заходящего солнца уходящее за край странное облако.
Это был первый вечер без Оны.
Через несколько дней Он нацарапал три строчки на куске белой мягкой коры агаисовго дерева и нарисовал сидящего человечка. Он скрутил это в тоненькую трубку и просунул в горлышко прозрачного сосуда, где когда-то хранился божественный напиток. Отверстие сосуда Он закупорил густой смолой агаисового дерева. Вечером, провожая солнце, Он бросил сосуд в волны.
Дни проходили за днями, луна худела и поправлялась, сезонные ветры меняли своё направление, но каждый раз на закате на вершине белой скалы вырисовывалась одинокая фигурка человека.
А где-то в безбрежном океане плывёт послание к Оне.

– Тебе больше заняться нечем? Времени свободного много? – спросил поп.
Улыбка на его лице немного скрасила отповедь.
– Хватает.
Времени у Шишликова всегда было в избытке. Хоть и меньше, чем у островитянки и её земляков, заходящих изредка в порт на больших контейнеровозах, – те уж совсем никогда никуда не торопились и разрушали все накопленные Шишликовым представления о времени. Зато в сравнении с коллегами, приятелями и второй женой, у которой недели были расписаны по часам, он успевал всё без спешки, и времени при этом оставалось с запасом. О дефиците времени он даже никогда не думал.
– Время нужно на спасение тратить! – нарушил священник затянувшееся молчание и скрылся в приходском доме.
Смущённые землекопы один за другим похлопали Шишликова по плечу:
– Тут он не прав! Не обращай внимания. Пиши!
Шишликов не помнил, задела ли его тогда поповская колкость, но теперь при повторной критике напрашивался логический вывод, что начинающие писатели совсем не в милости у хранителей Святого Писания. Иметь у себя в общине непредсказуемого летописца – для любого настоятеля прихода лишняя головная боль. И если в первом случае опасения священника полностью оправдались, то и в отношениях Шишликова с отцом Иоанном возникла трещина недоверия.
Вскоре из северных врат алтаря явился отец Иоанн со вскрытым почтовым конвертом:
– Раз ты так любишь писать, вот тебе задание: будешь переписываться с заключённым.
Шишликов растерянно принял письмо из оренбургской колонии:
– Хорошо!
Отец Иоанн объяснил:
– У меня нет времени отвечать – вот ты и займись полезным делом, если готов к послушанию. А повести не надо.
Два дня Шишликов не прикасался к письму – как бросил на угол стола, так и обходил стороной. Что в нём могло быть, кроме тоски, и зачем оно вообще кому-нибудь нужно? Письмо из тюрьмы – мира, совсем не соприкасающегося с миром Гали. Противоположное от счастья направление. Наконец, Шишликов заставил себя прочесть грусть чужого и незнакомого ему Александра, осуждённого восемнадцать лет назад на пожизненное заключение. Упование на Господа, осознание вины и желание узника общаться вызывали негодование и ропот. «Я-то тут при чём? Мне-то это зачем?» – ответ Шишликов выжимал из себя, как воду из сухой рубахи. Выдавливал растерянно, давая глупые советы и ободрения. Под конец, уже охваченный злобой на противную природе человека несвободу, он писал грубо, жёстко, не жалея арестанта.
Гауптвахта
Ему вспомнились сутки, проведённые самим в камере гарнизонной гауптвахты. Шишликов был влюблён тогда в шестнадцатилетнюю местную девушку, хорошо говорившую по-русски. Будучи сержантом-сверхсрочником, он заступал в суточный наряд по парку и шёл вдоль шоссе в расположение воинской части. В полном обмундировании с портупеей через плечо, кобурой и начищенными до блеска хромовыми сапогами – ничем, кроме погон, он не отличался от офицера. Только две скромные жёлтые лычки на плечах сдерживали его браваду, но и они не мешали ему держать осанку, подчёркивать выправку и задирать подбородок перед городскими девушками, а если выпадало счастливое поручение забрать солдат из гарнизонного госпиталя, то и перед русскими медсёстрами. Дурак был Чацкий и либерал, а мундир во всех отношениях человека красит и благородит.
Шишликов служил в отдельном батальоне связи, расположенном на территории танкового полка. Гарнизон был огромный, и идти из дома до казармы было прилично – версты две. До части было два пути: по территории полка, где то и дело нужно отдавать честь старшим офицерам, и по шоссе на самую окраину провинциального города.
Нужно было успеть на инструктаж, получить оружие, двух дневальных и сменить на посту прапорщика из второй роты. Когда до контрольно-пропускного пункта оставалась сотня шагов, Шишликова резко одёрнул возмущённый голос:
– Стоять. Кругом. Почему не отдали честь, товарищ младший сержант?
– Что? – не понял, для кого нужно было прикладывать правую ладонь к козырьку фуражки, рассерженный Шишликов.
Перед ним стояли взрослая блондинка в гражданке, работающая в штабе стенографисткой, и зелёный уазик с номерами комендатуры. В открытую дверь из уазика неслось гневное:
– Сержант, честь не положено отдавать старшим?
– Так вы же в машине. Я и звания вашего не заметил! – оправдался Шишликов.
– Ты ещё пререкаться вздумал? Почему с сумкой?
– Что? – туго соображал Шишликов: – В наряд заступаю по КТП.
– Почему с сумкой, спрашиваю, военный?
Сумка была дерматиновая, защитного бурого цвета, которая подходила под характеристику ручной клади, буквально на днях одобренной командованием для ношения офицерским, прапорщицким и сержантским составами.
– А с чем мне ходить?
– Военному положено ходить с дипломатом! – рычал комендант.
Женщина из строевой части неожиданно попыталась заступиться за рассеянного сержанта:
– Это Шишликов из нашей части. Он всегда такой. Отпустили бы его, а?
Сержанту польстило такое благорасположение, но женское заступничество ни к чему не привело и даже раззадорило лысого полковника. После заявления сверхсрочника, что у него нет лишних средств на дипломат, тот заревел:
– На губу тебя на сутки за пререкание. Быстро в машину!
– А наряд? – спрашивал Шишликов, садясь в уазик.
– Молчать!
Так младший сержант Шишликов впервые оказался в одиночной камере. Утверждать, что он об этом даже немного мечтал, было бы глупо, но недалеко от правды. На КПП дежурили связисты, и он успел крикнуть знакомым солдатам, чтобы сообщили в батальон о его участи.
«Хорошо хоть не с солдатами!» – удовлетворённо подумал Шишликов, осматривая каменную полуподвальную комнату с решетчатой дверью. В маленькое окошко проникал свет и густым пыльным лучом падал на прикованные к стене деревянные нары. Серое унылое место. Двоякое чувство переполняло грудь. Одно – удовлетворение от исполненной мечты: за два года срочной службы Шишликову при всех его залётах так и не довелось загреметь на гауптвахту. Может, оно и к лучшему – «губа» располагалась в том же корпусе, что и батальон, и солдатом через колючую проволоку он часто видел издевательскую муштру заключённых. Но тюрьма не только издевательство – тюрьма в первую очередь воспетая в песнях и стихах романтика. Второе чувство – тоска. Щемящая тоска по девушке, с которой он так ещё и не увиделся после отпуска. И месяца не прошло с тех пор, как белокурая девушка с непривычным именем Даниэла провожала его на железнодорожном вокзале. Он стоял в тамбуре, она на перроне. Поезд дальнего следования издал прощальный гудок, и она, неожиданно расплакавшись, пообещала ждать его.
Это было второе прощание с девушкой младшего сержанта за полгода сверхсрочной службы, а до службы его никто из девушек никогда не провожал. Уходя в армию, он был безнадёжно влюблён в учительницу младших классов. Звали её Елена Алексеевна, и, конечно, ни при каких обстоятельствах грациозная и величавая женщина не могла осчастливить призывника своим появлением на его проводах.
Первое же его армейское прощание оказалось непредсказуемо трогательным. Переезжала на место новой службы семья прапорщика Салимова. Дочь прапорщика, бойкая и насмешливая восьмиклассница Катя на протяжении месяцев, открывая дверь сержанту, громко уведомляла отца: «Пап, к тебе пионеры пришли!» Это очень задевало Шишликова, гордящегося серой шинелью и фуражкой, так что он собирался поквитаться с дерзкой малолеткой при удобном случае. В вечер же отъезда стало не до того, и обоим эти насмешки предстали вдруг в совсем ином свете. Они целый вечер не отходили друг от друга, перетаскивая коробки и чемоданы, случайно касались пальцами рук и молчали. Катя отказалась от места в кабине грузовика и под удивлённые улыбки родителей села рядом с ним в кузове машины. Полупустой вечерний вокзал обострил чувство расставания. Короткое знакомство на грани своего завершения переросло во что-то близкое, и в тамбуре, когда Шишликов со словами «Ну, до свидания, пионерка!» потянулся к её щеке, Катя отчаянно подставила ему приоткрытые губы. Прикосновение обожгло, к лицу прилила кровь. Катя тоже покрылась краской. Зрачки её расширились, заблестели, и «пионерка» убежала в купе. Салимов протянул растерянному сержанту руку.
Странное место – перрон.
Закончилась осень, пробежала зима, и все помыслы Шишликова заняла местная девушка Даниэла. В первый же вечер по приезде из отпуска сержант прибежал к её отдельно стоящему дому, спрятанному за соснами в паре сотен метров от ГДО – городского дома офицеров. Он привычно кидал камушки в окно второго этажа, боясь разбудить родителей, но окна её комнаты на протяжении следующих дней оставались темны. Только потом он узнал, что первая в его жизни настоящая подруга вместе с классом улетела на берега Адриатического моря.
Шишликов часами ходил по камере от серой стены до серой стены и выл как волк. Переполнявшие его силы некуда было выплеснуть. В мрачном каменном мешке было тесно. Только он садился на прикованную к стене деревянную панель, как тут же вскакивал от избытка энергии. Казалось, что камера куда меньше, чем он сам, что он застрял, как Винни-Пух в кроличьей норе, что его завернули в ковёр, как «Доцента». А ему нужно теперь нестись, мчаться к Адриатическому морю. Лишать человека свободы в момент, когда у него есть девушка, – верх преступления. Неудивительно, что у свободолюбивых индейцев смертельная аллергия на тюрьмы – им, как казакам, нужны лошадь и степь.
К ночи в коридоре появился охранник в сопровождении вольнонаёмного хача по кличке «Красавчик». Ходили разговоры, что место начальника гауптвахты было закреплено за одним кавказским кланом. Шишликов такой ерунде не верил, но теперь убеждался в верности слухов – горец без воинского звания расхаживал по тюрьме, как у себя дома. Ещё более странным был сам визит его к Шишликову и просьба, с которой он пришёл. Горец мягким глухим голосом просил ключи от комнаты и квартиры, которую Шишликов делил на троих со старлеем и прапором из соседнего разведывательного батальона. Комната досталась Шишликову в знак дружбы от уволившегося в запас прапорщика Шагумова. Если кого и можно было назвать красавцем среди гарнизонных кавказцев, то именно обаятельного и весёлого Сергея Шагумова, а не его смазливого земляка. Сергей был обрусевшим настолько, что Шишликов за два года срочной службы даже не догадывался, что прапорщик первого взвода родом с Северного Кавказа.
Променяв дембель на сверхсрочку и окунувшись в быт военных городков – в первую настоящую самостоятельную взрослую жизнь, которая тоже оказалась несерьёзной, – Шишликов обзавёлся бесчисленными друзьями и знакомыми, среди которых благодаря Шагумову оказались и кавказцы. Держались они особняком, и особого желания общаться с полукриминальной группировкой у него не было.
Одна группа кавказцев часто кучковалась возле жёлтой двухэтажки, паркуя на обочине дороги свои подержанные авто. Кто-то из них жил там, они собирались у подъезда, и однажды до проходящего мимо Шишликова докопался один из джигитов в лейтенантских погонах:
– Эй, а честь старшему отдавать не надо?
По уставу хач был прав, но отдавать себе честь ни один нормальный летёха от сверхсрочника не требовал. Капитан или майор могли сделать замечание, но никак не лейтенант, только вышедший из учебки. Сержант остановился и, не найдя, что ответить, молча уставился на хамоватого самозванца. За сценой из окна наблюдала красивая молодая женщина – жена одного полкового офицера. Проходя мимо жёлтого дома, Шишликов всегда оглядывался на её окна.
– Что уставился? Язык проглотил? – красовался перед земляками наглый лейтенант.
Шишликов был не из тех, кто легко превращает конфликт в шутку. И за словом в карман он лез довольно часто. Сглаживать и разводить словами ситуации он ещё не умел, и ему оставалось лишь смотреть в глаза дерзкому дикарю. Молчание затягивалось, и атмосфера накалялась. Закончилось всё тем, что старший из кавказцев вступился за него:
– Это друг Шагумова. Я помню его. Тебя Шиш зовут, да?
Фраза разрядила обстановку, но Шишликов от злости продолжал молчать. Старший хач похлопал его по плечу и приветливо сказал:
– Ступай домой. Иди.
Красавчик тогда тоже был в той компании. Теперь же он просил ключи от жилья, но не для себя, а для вольнонаёмной Аллы, которую в пылу разборок кто-то выкинул из окна второго этажа. Алла пролежала неделю в госпитале, утром должна была выписаться, и её зачем-то требовалось спрятать до полного выздоровления. Соседи Шишликова по коммуналке – казак из Крымска и бульбаш Авдеич – по заверению Красавчика были согласны на проживание Аллы в общей квартире.
– Дай ключи на день, помоги.
– Только для Аллы! – протянул через решётку два снятых со связки ключа сверхсрочник.
Алла была очень и очень яркой полудевушкой-полуженщиной. Уступить ей на пару дней своё холостяцкое жильё было приятно. Ей непременно понравится просторная, светлая комната и огромный, нарисованный на стене парусник. Да и комната соседа ей понравится: у Авдеича на стене жирным шрифтом было размашисто выведено «Дзе мая любоў?». Правда, их общий друг Паша Амелин, обаятельный и невероятно ленивый прапорщик, на одном из кутежей приписал ниже «Дзе моё пиво?».
– Над романтиками всегда шутят! – успокаивал Шишликов наивного белоруса.
– Где ты был, когда Бог мозги раздавал? – пытался язвить в ответ Авдеич.
– За тобой ходил! – язвил в ответ Шишликов под хохот двадцатилетних батальонных холостяков.
Впоследствии именно у них обоих – у Шишликова и Авдеича – и появились красивейшие девушки.
Впервые Шишликов столкнулся с Аллой за полгода до гауптвахты. Она стояла в закутке кафе «Дружба», примыкающем к ГДО, и обнималась с Красавчиком. На том была такая же, как на Шишликове, чёрная куртка из мелких кожаных обрезков – полгарнизона ходило в таких. «Что она в нём нашла?» – злился Шишликов. Варёные джинсы, спортивные костюмы, «Депеш мод», «Яблоки на снегу», «На заре голоса зовут меня». Шишликов носил широкие клетчатые брюки и свитер на голое тело – дань «люберецкой» моде. «Что нашла очаровательная кучерявая блондинка в небритом абреке?» – злился он.
Буфетчица Шура подозвала Шишликова к себе и с назидательным прибалтийским акцентом сказала: «Не связывайся с этой женщиной, мальчик!» Так же она говорила ему про всякую женщину, на которую он обращал внимание. Забота Шуры была трогательной, он дорожил знакомой буфетчицей, но никогда не следовал её советам.
Во второй раз, пройдя мимо целующейся в углу Аллы, Шишликов сердито вышел в зал. Играла музыка предпоследнего советского лета. Тогда никто, кроме Чубайса, ещё не догадывался об этом, и с двумя подвыпившими офицерами в гражданке танцевала одна громкая блондинка. Она была навеселе и со смехом схватила двадцатилетнего Шишликова за руку, когда тот проходил мимо. Ему пришлось танцевать в кругу Клавдии и её тучных неповоротливых кавалеров.