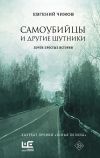Читать книгу "Исповедь лунатика"

Автор книги: Андрей Иванов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Андрей Вячеславович Иванов
Исповедь лунатика
© Иванов А.В.
© ООО «Издательство АСТ»
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Я взглянул на жизнь и засмеялся.
Сёрен Киркегор
1
Всё, к чему бы я ни прикоснулся, холодное. Меня давно ничто не беспокоит. К сорока годам я развил такую скорость, что разваливаюсь на ходу. Но продолжаю подбрасывать уголь. Вы себя убьете. Я сам знаю. Разве мне можно это запретить? Вы – сумасшедший. Не я один. Безумие разлито вокруг. Оно в людях. Приходят и рассказывают… Что мне остается? Сижу, слушаю. Их истории отполировали мое сердце до гладкости древнего зеркала: помните, были каменные зеркала? Нельзя забывать такие вещи. С ними стоит жить. Иначе скоро въедем в хирургический рай. Оставьте ваши записки, уберите карандаш. Не трогайте меня! Перестаньте выть в уголке. Все плачут, я знаю. Плач стеной поднимается и затмевает небо. Я тоже там был. Увы, мне предписано возвращаться. Когда-нибудь в последний раз ты смахнешь с меня пыль и, потрепав по плечу, поведешь на убой, а за нами – война, и кто-то попробует петь, а потом скажет, что не было ни одного музыканта, который не проехался бы по вене с утюгом. Я тебе подчиняюсь не потому что устал чувствовать, а потому что устал воевать. Открой свой несессер, там должно быть лекарство. С пустыми руками ты не приходишь, я знаю. Вечером был стол, за которым сидели трое. А месяцем ранее шагала молодая листва, отнимая у людей улицы. Город закрыт на обед, и что мне с собой делать? Стучаться в эти двери нет смысла, разве что подглядывать в людей сквозь замочные скважины. Загляни в меня! Видишь? Слова мои взлетают, как напуганные чайки, всё небо в пепле. Вчера был вечер. Шел снег, спешили машины. Потусторонняя мерцающая тишь. Кто-то продавал валенки и смеялся. Пьяная молодежь вчерашней листвы. Несколько дней после этого бушевал свет. Я был весь стеклянный. Пепел, в моей голове белый пепел сгорающего гашиша. Я усыпал весь стол. Его звали Жозеф, я помню, я рассказывал о нем, и все смеялись. Даже кошка на книжной полке – улыбалась, топорща усы, негодная. Некоторые люди как шкафы: чего в них только нет! а всё чужое да поношенное. В каждом человеке есть угроза для моей сущности. Ты – параноик. Да, я – параноик, ты абсолютно права. Свет обкатал меня. Гладкая пластинка, ни бороздки. Звук украли и распродали за гроши. Белые хлопья падали. Вишневый вкус улицы. Весна. Нас было трое. В каждом по семь бесов. Мы могли этот город. Этот город сам сдался. Елена пила с нами за троих и танцевала, как проститутка. Не надо царапать меня карандашом, я сам знаю. В этом блеске есть что-то предательское. Этот блеск инобытиен и колюч. К черту поэзию! Давай, сядь, говори. Где был, что видел? Они хотели знать всё. Сажусь за стол, предчувствуя, как из меня выйдет с ветром. Зашторились снегом и пьем. День кончился гораздо раньше. Несколько месяцев назад вошел в кабак на углу и встретил его. Друг детства. Он показал мне свою руку: фалангу мизинца откусил в приступе горячки. Знакомо. Сам боюсь. Но даже это не было началом. Он куда-то пошел. Развязался. Не набивался в спутники, не садился на хвост. Сам должен, сам. Попутчики в этом деле не нужны. Есть самоубийцы тихие, закроются и режут. А есть те, что всё выставляют напоказ. Не знаю, как сказать про него. Все всё видят. Но он отгородился. Он – внутри, замурованный в суицидальном пьянстве. Улыбался, показывая руку. Откусил себе палец, представляешь? Меня, говорит, потихоньку сплавляют туда, и головой – к звездам. Они мерцали, холодные. Теперь их нет. Снег. И не будет. Снег чертит… пунктир, пунктир, прочерк… не летит совсем – повис и кружит на месте. Ход замедляется, а потом станет, как будильник, и ночь никогда не кончится. Нас никто не разбудит. Мы будем там, с его пальцем. Все до одного. Когда-нибудь так и случится. Ведь это уже произошло с литературой и музыкой. Разве музыка не распродана? До последней ноты! Каждое слово на лотке. Всё взвешено, всё отмерено. Идите сюда, встаньте рядом. Слышите? Я тоже не слышу. Листва отшумела. Снег накрыл с головой. Я учусь ходить по воде. Теперь это просто. Там – Финляндия, а там – Россия. Вода. Всё просто, когда мыслишь формулами. Гораздо сложней, когда приходят образы. Они режут, кромсают тебя, требуя плоти, и я даю им плоть. Нате! Только оставьте меня в покое! Сел на камень и вытянул ноги. В карманах мелочь, сенты, еще сенты. Тогда были кроны. Дни летели быстрей. Веселей. Ну, признайся, было веселей? Не знаю – каменное выражение. Ну, признайся! Пожимает плечами. Nobody cares, John.[1]1
Никого не колышет, Джон (англ.).
[Закрыть] Всем наплевать. Если б я умел каркать, накаркал бы себе неприятности. Но ничего не произойдет, потому что всё кончилось. Посижу тут. Волна, еще волна… Пересыпая из ладони в ладонь песок, песок… Поразмыслить над бездной. Гашиш держит прочнее гвоздя. Я рассказывал ей про цыгана Жозефа, она смеялась. Он был смешным и жалким. Возможно, потом она расскажет кому-то обо мне, и тоже добавит: он был смешным и жалким. Как Жозеф. Он продавал в Праге мороженое. Жена словачка. Трое детей. Их забросили черт знает куда. На север. Там был эфиоп. Единственный черный на весь Skagen. Мне нравился Krohg[2]2
Кристиан Крог (1852–1925) – норвежский художник, некоторое время жил и работал в Скагене (Дания).
[Закрыть]. «Крыши Копенгагена» (репродукция в палате Фурубаккена[3]3
Психиатрическая клиника города Ларвик (Норвегия).
[Закрыть]). «Больная девочка» (в национальной галерее Осло). Шел беспечно. Глянул в сторону и окаменел. Она остановила меня взглядом. Syk pike[4]4
«Больная девочка» – картина Кристиана Крога, находится в национальной галерее Осло.
[Закрыть] (чем-то напоминает Дангуоле[5]5
Героиня романа «Бизар», встреченная героем в Хускего, поселении хиппи.
[Закрыть]). Не умрет никогда. Блудливый холодок, предвестник горячки. Осока, песок, осока. Даже волосы – холодные. Всё, к чему бы я ни прикоснулся, заперто. Можжевельник, сосны, камыш, шиповник. Стена. Вокруг одна сплошная стена. И белая-белая улица. С призраками. Один из них ты, поменяв род на мужской, шагаешь босая по снегу.
* * *
Он орал так, что я хотела звонить в полицию. Это была истерика. Настоящий экспресс. Его бы закрыли в психушке. На годик. Не помешало бы. Чего я там не видел? Чего вообще я еще не видел? Да о чем с ним говорить! Он же в прострации! Посмотрите в его глаза! Разговаривать с ветром нет смысла. Он невменяем. Замурован безумием. Это стена. А за ней плач. Вой. Вопли. Черный мат. Я собиралась звонить в полицию. Они бы никого не нашли. До меня было не достучаться. Это был другой. Доппельгангер[6]6
Двойник (нем.).
[Закрыть]. Утром отмылся от этого приступа. Но. Сбрить чужое лицо так и не удалось. Сквозь глаза поблескивал вчерашний незнакомец. Эта новизна пленяет. И вещи все стали холодными. Скоро буду ходить и писать на стенах, как Митасов[7]7
Митасов, Олег Евгеньевич (1953–1999) – харьковский художник-аутсайдер, поэт.
[Закрыть]. Век. Вак. И весь разговор. Из себя и только из себя. Пуповиной пишу. Гляньте, есть возле вас зеркало? Посмотритесь на всякий случай и возвращайтесь. Тут нет отражений. Не ищите. Глухо. Немая тишина. Слепая темень. Дай руку, друг! Пойдем со мной. Расскажу. Или тебя тешат надежды? На что ты еще надеешься в этом Содоме? Бедлам есть бедлам. С волками жить и так далее. Так она мне написала. Dear John… Вот с этим живу. С волками из ее письма. Простить не могу. Слышишь, Дангуоле!!! Не смогу. Так и буду. До конца жизни с этим снегом. Она была такой лучистой, и язык ее мягкий, слегка зернистый. Приятный акцент. Говорила чуть громче других, будто глуховата. Пела в хоре. Падала в обмороки. Ванька-встанька. Поднимали, ставили, пела дальше. В голове вертолеты. Я ей верил. Каждому слову. Пил, как вино. Вчера наливали – не мог остановиться. И никто не остановил. Всех нас куда-то несло. Как поземку. Сошел с рельсов. Экспресс. Сбился с пути. Обнаружил в карте дырку. В нее и ушел. Я уже собиралась звонить в полицию. Ну, это просто безобразие какое-то. Сумасшедший дом. Внутри меня буйка, битком набитая психами. Ааааааааааааааааааааааааааааааа! Вот так это было. Еще громче. Нет. Не получается. Звук украден, продан, весь вышел. И свет за ним втихомолку.
Вот-вот, сумеркам и кошкам в черных комнатах. Что-то там есть. Что-то скребется.
Снег. Хлопья висят, как на ниточках. Тихонько подрагивают.
Everything is forbidden,[9]9
Всё запрещено (англ.).
[Закрыть] – вот к чему я пришел.
Спорить со мной бесполезно, да и некому.
Никак не прийти в себя. Помят припадком. Надтреснут.
С волками выть.
À qui tou raconter?
Кто бы выслушал до конца! Всё: от Крокенского лагеря до кирки, – от Батарейной тюрьмы до принудки в Ямияла[10]10
Ямияла – имеется в виду закрытая пенитенциарная психиатрическая клиника.
[Закрыть]… – До последнего слова.
Никого.
Со мной только слова, а значит, всё со мной. Ничто никуда не делось. И кто еще нужен? Луна в небе. Сигареты, чай. Бесшумный вопль надкушенного яблока. Глазок внутри. Так просто и ясно. Номер на двери. Номер статьи. Параграф такой-то. Это всё, что ты должен помнить. Шум прибоя. Лед по эту сторону воды. Голоса в коридоре скребутся, как ленточки. Свет дробится, но не попадает в глаза; тьма крадется по водостоку, проскальзывает в брешь, как монетка в прорезь, исчезает, не коснувшись ресниц; полутона отступают, но не уходят, они молчат где-то рядом.
Бесконечный мертвый час. Голодовка.
(Я – спичка, которой дают догореть, выслушивают до конца. Каждое слово – скрюченное тело. В каждой спичке своя история.)
Нифеля[11]11
Остатки вываренного чая.
[Закрыть] на бумаге сохнут. Ловец стоит. Голуби поглядывают с крыш. Мы притихли.
Фашист сказал, чтоб не мелькали у решетки. Обещает, что рано или поздно прилетят… Они любопытные… Ты хоть мыло настругай, прилетят, а нифеля – за милую душу! К ночи попадется…
Голодовка делает стены двойными. Время становится плотней, оно тянется медленней, но в нем появляется смысл: счет дней подстегивает.
На третьи сутки сокамерники стали смеяться над моими историями, яростно сжимая зубы, в глазах появился блеск, который теперь роднит нас всех. Это блеск остервенения. Так блестят глаза у садистов. Мы все ощущаем себя в центре мироздания. Мы все готовы кого-нибудь истязать, голодаем, истязаем себя; соседние камеры голодают; третий этаж голодает. Баландеры опасливо заглядывают и убираются, громыхая бидонами. Фашист довольный ходит по камере. Он всех заставил страдать. Я смотрю на него, как на Наполеона, который за три дня на уши поставил нашу Бастилию. Он требует, чтоб я непрестанно рассказывал новые и новые истории. Сам пишет малявы. Ловит «коней»[12]12
Нити, лески, веревки, которые протягивают между окошками камер как способ сообщения.
[Закрыть].
Я рассказываю с большим воодушевлением. Болтаю, как радио. Неутомимо. Ничего, пустяки, язык без костей – к радио в тюрьмах отношение бережное. Меня подхлестывает хохот. Все смеются. Секунды сгорают.
Рассказывай!..
В воздухе запах селитры. Молодые нарвитяне давятся от смеха, лупят картами по столу наотмашь. Фашист отправляет малявы, садится, помалкивает, затаенно улыбаясь; мне кажется, что он меня почти и не слушает; может, слушает, но думает о своем. В его голове что-то назревает.
…
Голодовка на тюрьме сродни запою или кокаиновой сессии: на пятый день не чувствуешь себя; мысли, кажется, не в голове возникают, а плывут где-то рядом, живут в сокамерниках, и, соответственно, их мысли входят в тебя с той же легкостью. Ко второй неделе все пропитаны друг другом, всех породнила одна болезнь.
…
Чифирим без конца, с каждым днем наращиваем обороты. Рвем на полоски простыни. Факела[13]13
Лоскуты простыней, которые жгут, чтобы разогреть чай.
[Закрыть], давай факела… Кипятим. Зубы стучат; холодок в позвоночнике. Отовсюду тянутся нити «коней». Чего только Фашист не затягивает в нашу камеру по ночам!
(Я – спичка, которая обожжет твои пальцы.)
Когда он пришел, все насторожились; я напрягся, точно в камеру запустили тигра; он принялся нервно ходить. По коридору понеслось: «Фашиста привезли!», «Фашист!», «В какой ты камере, Фашист?», «Ой-ой, Фашист!». Фашист не откликался на стоны, он играл желваками, размеренно расхаживал по камере, пружиня и не обращая ни на кого внимания, только поправлял свои квадратные очки и волосы приглаживал ладонью. Он был в ярости. Он нам так и сказал, что он в ярости, собирается голодать и все мы тоже должны голодать. Кое-кто ухмыльнулся, но тотчас притих. Фашист продолжал нагнетать негодование, посматривал на нас холодными глазами и говорил сквозь зубы, что страшная несправедливость по отношению к великому воровскому авторитету была допущена выродками в черной форме, все должны непременно голодать с ним вместе, потому что хватать ни за что ни про что вора с зоны без всяких на то причин и швырять в больничную камеру без его, осужденного, жалоб и просьб никто не имеет права, – Фашист объявляет голодовку!
Нарвские на это откликнулись не очень оптимистично, но авторитет взял свое: он сказал, что надо голодать, дабы не допустить дальнейшего беспредела, сук надо учить, потому что всё в мире держится на законах, в отношении арестанта тоже действуют законы, есть правила, которыми менты по отношению к заключенному не имеют права пренебрегать, так было, так должно быть, и если сейчас спустить с рук, то завтра каждый ощутит на своей шкуре такой пресс, что жить станет невмоготу, наступит бесконечная зима, ни передач, ни подгонов, ни ног, ни коней, ничего, и меж собой зэки будут только разборки вести, и будет одно тявканье, а не тюрьма, понятно!
Он сказал, что во имя порядка в нашей маленькой системе, все мы будем голодать, вся наша камера, и соседние камеры, весь корпус, вся тюрьма будет голодать и требовать соблюдения правил и неписаных законов. Сел писать малявы. Изловил несколько коней. Отправляя свои послания, Фашист проговаривал, что если он голодает, это значит, что вся 35-я камера голодает, и вы там, наверху, тоже начинайте и киньте маляву дальше, чтоб поддержали, потому что ментовской беспредел и так далее, с арестантским уважением, Фашист. То же самое он кричал в ходы и вентиляционные отверстия. Ему отвечало уважительное уханье. Многие были согласны его поддержать.
Началась голодовка, которая распространялась по Батарее, как заразное заболевание.
Не знаю, какие причины для голодовки находили заключенные в других камерах, – может, авторитет Фашиста на них так действовал и был им известен он больше, чем нам, в 35-й, – у нас особых причин голодать ни у кого не было. Один нарвитянин сидел за какие-то будки, из которых выламывал ценный металл; другой, домушник, хвалился тем, что нашел в чьей-то хате аж девять тысяч крон наличными, купил «жопик», выкрасил его под пачку «Мальборо» и возил девиц по дискотекам Нарвы и Силламяэ, пока не повязали; он всё время приговаривал: «Вот скоро выйду. Снова возьмусь. Девять штук в квартире! Надо бомбить! Пока люди в квартирах такие деньги держат, надо бомбить». Был один тихий мужичок, который перевозил курдов через границу, стонал, что ему до хера светит, и без отмазов, со здоровьем не очень, голодать нельзя, язва, то да се, но что делать, если так надо, то буду голодать. Фашист перед ним стоял, крутил четки, слушал, кивал, выражая понимание: язва, почки, потому и на больничке, да, да… Для тебя голубя зажарим на факелах, – сделал ловец и высыпал нифеля у решетки, как приманку.
Рядом с шофером поскрипывал кожанкой дебошир, он просто махнул рукой: голодать так голодать, без разницы.
Мне тоже было всё равно. Я даже обрадовался. В этом был какой-то смысл. Голодовка – как путешествие: каждый новый день добавляет новых ощущений. Дни не просто уходят, они уносят с собой частички меня, что-то, чего иначе не вытравить, голодные дни жалят, как оводы, клещами въедаются в мое паскудное сало, они сушат, глодают меня, как пламя чурку. Я чувствовал себя святым. И с каждым часом святости прибывало. Я готов был голодать до смерти. Страдал и радовался, надеясь, что так из меня выйдет и страх, и рассудок, и последние сгустки совести… Вся цепь, что держала меня, вся цепь целиком! Каждый день по звену, и в конце – свобода. Истязать себя – других причин голодать у меня не было, – оставаться вменяемым я хотел еще меньше (в этом не вижу смысла вообще!).
Остальные – фуфло: эстончик лет восемнадцати – петух и нюхарик – впадал в глюки каждые полчаса, его просто не подпускали к кормушке; бородатый бомж, который спалил чей-то дом в отместку за то, что его оттуда выгнали; еще какие-то бездомные ханурики, слипшиеся в один ком сплошного раболепия, – этих и спрашивать не стали.
Дабы время летело быстрее, Фашист потребовал от каждого что-нибудь рассказать, и все мы – кроме петуха и прочих нелюдей – рассказали по истории. Очень скоро Фашист решил, чтоб рассказывал только я, а других не беспокоил. Наметилась рутина: мы пили чифирь, курили, а затем он укладывался на шконку и, повернув ко мне свое напряженное лицо, с жадным любопытством слушал о моих похождениях в Скандинавии. Причмокивал и ерзал ногами под одеялом. Молодые тоже слушали, мотали на ус.
Мои истории никого не веселили; в них ничего веселого и не было; зато они помогали забыть о голоде, табаке и всемирной несправедливости, допущенной по отношению к воровскому авторитету.
Потихоньку сгорала осень. Пошел первый снег. Мы перестали принимать лекарство. Так как пенитенциарная администрация не шла навстречу арестантам, мы объявили сухую голодовку, но всё так же попивали чифирь под столом, просто отказывались пить тюремный чай. У нас делали шмон каждый день. Приходили с собакой, которая нашла голубиный скелет. Грозились раскидать по камерам. Меня вызвали на допрос, спросили, в чем причина моей голодовки, я ответил, что не понимаю: «Голодовка?.. Какая голодовка?»
Чифирь, табак, байки. Когда хуже некуда, ничего не остается, как травить истории о Гнуструпе и Сундхольме. Больничка в Вестре – мечта! Телевизор, киоск, шлюхи…
А холодильника там в камерах нет? Ха-ха-ха!
Рассказывай!.. Рассказывай!..
Я рассказывал… Впереди целая Норвегия, горы, серпантин, воздух, горный воздух Норвегии – natur er dramatisk!.. det er fantastisk!..[14]14
Природа драматична! Это фантастично! (норв.)
[Закрыть]
* * *
Река ревет. Пенясь, падает с каскада на каскад. Дангуоле сидит на скале у самого обрыва. Гладит поток и смеется. В волосах тысячи, тысячи капель, и все они светятся в ярком солнце. Над ней радуга. Я тоже смеюсь. Мы мокрые. Пьяные. Ради одного этого стоило ехать.
В Крокен мы угодили, как только медсестры в Тануме[15]15
Трансферный лагерь, приемный пункт для тех, кто просит убежище в Норвегии.
[Закрыть] поняли, что со мной шутки плохи, – и адвокат надавил. За адвоката я взялся сразу, едва мы получили бумаги, где были обозначены права беженца; в самом конце – мелко-мелко – были приписаны номера телефонов адвокатских контор, я тут же принялся их обзванивать… Зацепился за одного – голос понравился: во-первых, в его баритоне было нечто, что вселяло надежду (слышалась какая-то основательность); во-вторых, он с таким участием дышал в трубку, что казалось: не мог врать, не мог предать, – это был голос порядочного человека (в самом затертом смысле). Когда я с ним разговаривал, возникала иллюзия, будто вокруг меня пуленепробиваемая стена. Я слушал его и оказывался у Папы Римского в его стеклянной колбе. Стремительно рассказал суть моего дела, сделал ему комплимент, пожаловался: «Несколько дней без лекарств, к которым так привык за время моего пребывания в датских дурках… мне плохо!.. слышите?.. с каждым днем хуже и хуже!.. Меня тошнит… Меня грызет страх… У меня приступы паники… лихорадка…» Громко, по-датски, чтоб в офисе Танума менты тоже слышали и понимали: “…jeg er bange… jeg har panikanfald… jeg er i krise… jeg tanker om selvmord… jeg har det dårligt… osv[16]16
Я боюсь; у меня панические атаки; у меня кризис; я думаю о самоубийстве; мне плохо и т. д. (дат.).
[Закрыть]”.
Чуть тише, чтобы прозвучало более доверительно, я сообщил адвокату, что у меня есть бумаги из датской психушки.
– Прекрасно! – воскликнул он и потребовал, чтоб я сделал копии и выслал все бумаги, что были у меня на руках; добавил, чтоб я успокоился; пообещал, что сам позвонит в лагерь, попросит за меня, скажет, чтоб меня вне очереди направили к врачу.
– Идите к медсестре, она вам выпишет лекарство, – сказал он, – я позвоню куда следует, попрошу за вас, идите!
Пошел. Врач увидела мои руки и побелела.
– Ikke mer!.. Ikke mer!..[17]17
Больше не надо! (норв.)
[Закрыть]
– Det kan jeg ikke love,[18]18
Этого я обещать не могу (дат.).
[Закрыть] – ответил я.
Она успокаивала меня, гладила мои плечи, говорила, что направит сразу в самый лучший лагерь.
– Крокен, – сказала она, – такой лагерь особый, тихий, спокойный. На природе. В горах. Санаторий. И много людей с подобными проблемами. Там о вас позаботятся, – уверяла она. – Там есть люди, которые занимаются такими проблемами. Специалисты!
– То, что нужно! – обрадовался я. – Специалисты – они-то мне и нужны! Санаторий в горах – красота! Мы устали в этом транзите.
Но нас не могли сразу же направить в Крокен: как всегда – бюрократическая возня. Записали в очередь. В Крокене получили сообщение обо мне и стали готовиться к приему. Перевели в другой транзитный лагерь. Он был похож на зону. Шлагбаум, колючка, паек, очередь туда, очередь сюда, на интервью, на перекличку, заполнить бумаги, получить одежонку. Столовая, очереди, люди чуть ли не вываливаются под музыку из окон общаг. Мартышками повисают и облизываются. Шарят по карманам голодными глазами. Бритые, дикие… У каждого хош в штанах или шанкр.[19]19
Хош – сильное половое влечение, возбуждение; шанкр – сифилитическое раздражение на половом органе.
[Закрыть] Румыны, цыгане, африканцы, сербы, арабы… Все чего-то требуют, пихаются, спорят, напевают, хлопают в ладоши. Разгоряченные сутолокой, пьяные, обдолбанные, наглые, как торговцы на рынке. Мы там застряли на неделю. В одной из комнатушек общаги. В каждом коридоре к нам липли с вопросами. Ухмылки, заплеванные лестничные площадки… Шлагбаум, менты, колючка и этот базар внутри… Гвалт, музыка со всех сторон в уши лезет, как разноцветные ленты… нет, это уже не музыка, это территориальные знаки, границы: там арабское завывание, тут сербские напевы, оттуда доносятся африканские тамтамы, индийские таблы и кукольные голоса… и всё это в блочных пятиэтажных домиках, так похожих на хрущевки. Сюр, натуральный сюр. «У нас в Вильнюсе есть похожий район, – сказала Дангуоле, – называется “Шанхай”. Кого там только нет! Там патрулирует втрое больше ментов, чем во всем остальном городе. Туда лучше одной не соваться. Бандиты на остановках заходят в автобус и обирают пассажиров со словами: спокойно, это всего лишь ограбление, очередное ограбление. В “Шанхае” полно таких пятиэтажных домов. Не думала, что и в Норвегии они есть».
Дангуоле, я не хотел, чтоб ты всё это видела…
Она посмеивалась…
Лагерь и все его процедуры она воспринимала как большое приключение: «Неделю выдержать можно», – ободряюще улыбалась, но меня грызла совесть за то, что она слышит скрип постелей из семейных комнат, за те взгляды, которые прилипают к ее ягодицам. «На самом деле, – говорила она, – чего тут такого я не видела? Всё как в польских и румынских фильмах!»
Ужасно, когда твоя жизнь превращается в кино, да еще такое…
Я снова позвонил адвокату, он пообещал нажать… и за нами приехал черный мерседес, отвез в Крокен.
Да, если б не адвокат и мои шрамы на руках, нас бы никуда не направили, нас так и оставили бы в обезьяннике, под наблюдением ментов, – всем было насрать, что мы получили красивое письмо из Norsk Røde Kors[20]20
Норвежский Красный Крест (норв.).
[Закрыть], в котором пелось: «… не гарантируем… но готовы рассматривать… готовы принять…».
Менты говорили, что наше дело пройдет по ускоренной программе:
– Ребята из Прибалтики, хо-хо! Две недели, не больше. Домой, и как можно скорей, – потирали руки. – Да еще в Дании просил убежища?! Засветился. Так поезжай обратно в Данию! В Дании пиво и табак дешевле. Что к нам приехал? Думаешь, если там не дали, тут дадут? Та же система: Красный Крест везде одинаковый – красного цвета, шённер ду[21]21
Понимаешь? (норв.)
[Закрыть]? Или еще лучше: прямиком в Швецию! Чего ждать? Поезжайте сразу в Швецию! На паром и в Швецию! А оттуда – домой! Ха-ха-ха!!!
Они готовы были меня упаковать и отправить. Чтоб не платить, не кормить, не мыть, никаких затрат. Нам даже отказали в декларации. Какая декларация, если в Прибалтике демократия! Нас не принимали в расчет. Магическое слово – Прибалтика. В Прибалтике нет и не может быть проблем. Из Прибалтики нет и не может быть беженцев. В Прибалтике даже лучше, чем в Скандинавии! Все норги мечтают уехать в Прибалтику, прижиться у какой-нибудь работящей русской или литовской бабы: у нее под титькой как у Христа за пазухой! Если б не адвокат, который всё расставил по местам, нас бы тут же списали.
Но, так или иначе, всё это было бессмысленно…
С самого начала меня подтачивало ощущение безнадежности этого предприятия (я даже отказался брать зимнюю одежду: зачем, если нас скоро спишут?). Дурацкая затея. Тем более что она исходила от дяди. Он отравил Дангуоле надеждой. Он ее хорошо обработал. Она ему верила и мне говорила: он – умный. Было слишком мало времени на то, чтобы ее разубедить. И потом: куда бежать? Куда?
– Он знает, что делает, – говорила Дангуоле. – Он не жил бы сейчас с датским паспортом, если б был каким-нибудь дурачком! Так что надо прислушиваться к его словам…
Он произвел на нее впечатление. Со всех сторон респектабельный, приличный человек с усиками. Одежда, манеры, лексикон, дикция – всё продумано и отточено. Срабатывало еще в восьмидесятые, когда – за небольшие деньги (какой-нибудь четвертак) – он давал «консультации» желающим умотать за кордон; раскрыв рты, дураки слушали его, слушали, рассматривали на нем одежду, впитывая каждое слово, и через пять минут начинали верить, потому что у него – такой голос и он так чисто одевается. Так говорит моя мать:
– У него просто такой голос. Он может говорить что угодно – и все верят! К тому же он с детства любит аккуратно одеваться. Никто не замечает, что он сильно увлекается… – Иными словами: фантазирует, выдает желаемое за действительное и преувеличивает не только свои возможности, но – самое ужасное – возможности других. – Потому что он так безупречно одет! Он с детства такой…
Да, я помнил эту историю: в пять лет он съездил ей молотком по голове за то, что она пыталась обуть его в галоши.
– Дело в том, что я ненавижу галоши с раннего детства, – объяснил он мне, уже в Дании. Он любил белые рубашки и стрелочки на брюках. Просто обожал парить брюки. Ненавидел спортивную форму и галоши, а также тапки, тапки он просто терпеть не мог! Но чтобы молотком родную сестру… Это он отказывался припомнить.
Скрытое оружие подействовало: мягкое покашливание и аккуратная одежда привели план в действие. Интерсити летел в направлении Фредериксхавна. Намерения, ею двигали намерения…
– Euge, woman is a lot more than you can imagine![22]22
Юдж, женщина – это гораздо больше, чем ты себе можешь представить! (англ.)
[Закрыть] – говорил Хануман во время нашей последней встречи в Хускего[23]23
Хускего – поселение хиппи в Дании возле замка, владельцем которого является мистер Винтерскоу (см. романы «Путешествие Ханумана на Лолланд» и «Бизар»).
[Закрыть]. – Это больше, чем твоя рассудочная деятельность. Больше, чем ratio в целом! Это локомотив и куча вагонов, это целый стратегический штаб, бюро с агентами и секретарями. Женщина – это мафия. Победить ее невозможно. – Хануман расхаживал по нашему вагончику. Я старался не слушать. Он это видел, но продолжал, надеясь сломить плотину: – Либо ты ей принадлежишь целиком и действуешь согласно ею разработанной схеме, либо идешь к черту!.. и остаешься сам по себе: без женщины, вне мира! Потому что с миром тебя связывает женщина; и наоборот: через женщину осуществляется связь с миром. – Он склонился надо мной: я сидел в моем кресле, с пледом на плечах, он стоял с бутылкой вина и бокалом, спрашивая: – А нужна ли тебе эта связь с миром? Ты себе задавал этот вопрос? – Я молчал, глядя ему твердо в глаза. Взял бутылку, пополнил бокал. Хануман пустился ходить по вагончику, вздыхая, разглядывал наше с Дангуоле барахло: в трюмо она расставила сделанные ею сувениры из стекла. Хануман взял большую оранжевую рыбу с красными плавниками и серебряными крапинками, усмехнулся, поставил на место. – Юдж, ты, наверное, почувствовал себя белым человеком? Ты решил стать Джеком? В лучшем случае ты – Jackass[24]24
Дурак (англ.).
[Закрыть]. Ты всегда им будешь. Твой дом – это шутка, нелепица, он же курам на смех! Твоя жизнь в Хускего – это помрачение рассудка! Расскажи – не поверят! Хэх, Юдж, пойми, всё это может плохо кончиться. Если ты связываешь с ней свою судьбу, значит, ты становишься частью общества, а ты в бегах. Надеюсь, ты не забыл об этом? – Я вздохнул, выпил, закрыл глаза, откинулся, вытянул ноги. Я не хотел этого слышать. Он продолжал: – Мир принадлежит женщине. Матриархат давно наступил. Пора это признать. Смириться, потому что понять это невозможно: мозг женщины работает совсем не так, как у мужчины, тут всё иначе, тут нечего понимать. Женщина – это паутина, тысячи и тысячи невидимых нитей, прозрачный чертеж, blueprint[25]25
Здесь: детально продуманный план (англ.).
[Закрыть], карта, вектор, расписание в будущее летящего поезда, женщина всегда устремлена в будущее, которое она вынашивает в своей утробе!
…даже если принципиально не хочет иметь детей!
Как Дангуоле…
Каштановые волосы, тяжелые солнечные капли падают с млеющих лип, марево, горный воздух, скалы таинственно поблескивают, отражая солнечный луч, плотный терпкий гашиш, который мы купили на Акерсельве[26]26
Река в Осло.
[Закрыть]: «Сюттене май! – кричал курдский дилер, хлопая меня по шее (сопляк лет семнадцати, прокурен напрочь). – Ду фо’ рабат – де’р Сюттене май! Шённер ду?»[27]27
Семнадцатое мая! Ты получаешь скидку в семнадцатое мая. Понимаешь ты? (норв.)
17 мая – День независимости Норвегии.
[Закрыть]. Вода в канале была ни черная, ни зеленая – она была глянцевая, мертвая, с химическими оттенками. Ветви деревьев, птицы, бумажные самолетики – всё, что бы ни промелькнуло над каналом, – превращалось в готический сон. «Шиттене май де ар»[28]28
Грязное мая (норв.). Игра слов: skittene (грязное) – syttende (семнадцатое).
[Закрыть], – сказала Дангуоле, и все вокруг захихикали. Мы сели под мостом, курили и смеялись, повторяя: шиттене май, шиттене май…
Дангуоле, ее смех – радуга над горной речушкой.
Эта хрупкая девушка была устремлена в будущее, она хотела замуж, она хотела ясности. Неопределенность ее больше не устраивала. Она была очень практична. Чертовски практична! Сочетание практичности и романтизма – ядреная смесь, с этим шутить нельзя: всё, что мечтается, тут же воплощается. Некогда в бирюльки играть! В конце концов, ей уже двадцать пять. Серьезная взрослая женщина, пора твердо встать на ноги; глаза по-рысьи высматривали добычу, она больше не хотела нелегалом шастать по Европе неизвестно с кем… каким-то беглым русским из Эстонии… Быть девочкой в хиппанском прикиде с гашишем в кисете больше не прикалывало. Она выросла из этого образа, как когда-то из простого стеклодува превратилась в мастера цеха (она командовала людьми – мне стоило помнить об этом). Ей хотелось утверждаться. Возможно, это в крови, а может быть, однажды вкусив повышение, человек будет инстинктивно задирать колено, шарить ступней в поисках опоры, чтобы сделать новый шаг вверх. В любом случае, помимо любви, я для нее был топливом. Иметь меня в качестве мужа было и романтично, и практично: она считала меня гением, который прославит и ее тоже. Поэтому ей не нравилось, что я сижу в Хускего, пописывая бесконечный роман, прячусь чуть ли не сам от себя, как кот в мешке. Ей хотелось новых знакомств, хотелось водить меня по богемным кафе, представлять меня людям, всем вокруг рассказывать обо мне. Она искала адреса издателей и рассылала им фрагменты из моей рукописи, вступала с ними в переписку. И вот мы всплыли! Она считала, что это не было случайностью, это – судьба. Теперь я должен был не только спасти свою жизнь, но и доказать всем, что чего-то стою. Новый этап! Обозначился новый этап…