Текст книги "Руководство по системной поведенченской психотерапии"
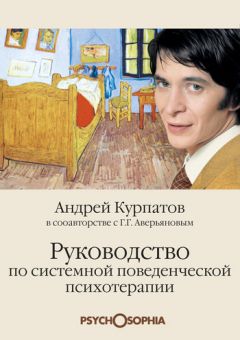
Автор книги: Андрей Курпатов
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Второйэтап («Верификация субъекта поведения»).
1) Психотерапевт разъясняет пациенту, что субъект поведения может использовать любые стереотипы поведения, находящиеся в его распоряжении, а также расширять или сужать их репертуар, однако он остается самим собой вне зависимости от того, как он себя ведет. Если имеющиеся в его репертуаре стереотипы поведения вызывают у пациента неприятные переживания, то ему не следует ими пользоваться, а создать другие и использовать их.
2) Далее психотерапевт рассматривает конкретную «проблему» пациента и означает все элементы динамического стереотипа, которые ее обеспечивают. Далее он выясняет, так ли «на самом деле» хочет вести себя пациент, удовлетворен ли он таким положением дел, не кажется ли ему, что такое поведение не вполне отвечает его истинным устремлениям и ценностям. Для данной процедуры всегда можно найти необходимые аберрации в «картине» пациента.
3) После того как прежний динамический стереотип признан пациентом неадекватным, не отвечающим его истинным намерениям, психотерапевтом совместно с пациентом определяются элементы нового, должного быть адекватным динамического стереотипа. Важно провести означение этого нового планируемого стереотипа поведения как «игры», как «нового способа», который «сам по себе не лучше и не хуже прежнего, но имеет другие, необходимые пациенту последствия».
4) После этого психотерапевт совместно с пациентом отрабатывают новый стереотип поведения. При этом пациент должен выступать в роли «экспериментатора», он «примеряет» новый «способ» думать, оценивать, чувствовать, действовать. Пациент выступает здесь как активный деятель, создатель своего поведения, он и его поведение – не одно и то же, но от того, каково его поведение, зависит и то, как он будет себя ощущать.
Третий этап (самостоятельная работа).
В самостоятельную работу пациента входит изменение означающих: то, что казалось незыблемым, означается как «возможное, но не обязательное»; то, что «было им», означается как «то, что было его поведением»; то, как он ведет себя теперь, означается как «то, что выбрано им в качестве возможного “способа”».
Для облегчения этой части самостоятельной работы пациенту предписывается заполнять следующую таблицу.

В первых двух столбцах таблицы указывается, о чем пациент думал, как он оценивал обстоятельства, какую позицию он занял, чего он пытался добиться и что из этого вышло. Во вторую часть таблицы заносятся характеристики нового стереотипа поведения, если в ситуации пациент использовал прежний, дезадаптивный; или же прежний, если в представляемой ситуации использовался новый, адаптивный стереотип поведения.
Данные таблицы, представленные пациентом, обсуждаются с психотерапевтом на занятии. Если возникли трудности с новым стереотипом поведения, то или обсуждаются допущенные неточности, или рассматриваются другие возможности.
Дополнение
1) «Прямое переименование» – техника, хорошо дополняющая стандартную процедуру переозначивания. Используяэту технику, психотерапевт в ходе беседы настойчиво и аргументированно предлагает пациенту прекратить использовать устоявшиеся и ставшие частью динамического стереотипа наименования проблемных элементов психотравмирующей ситуации (например, в случае развода – «мой муж», «эта дрянь – его любовница», «крах семьи», «развод»). Вместо этих конкретных выражений пациенту предлагается использовать во внешней и внутренней речи другие, придуманные психотерапевтом нейтральные наименования (в данном примере – «бывший супруг», «гражданка», «изменение семейного положения», «новый жизненный этап»). Как только пациент начинает осваиваться с этим новым словоупотреблением, ему предлагается самому придумать такие названия для отдельных людей, участвующих в конфликте, которые были бы смешными или хотя бы полушутливыми и нейтральными или даже позитивными для ситуации в целом. В дальнейшем пациенту предлагается следить за собственной внешней и внутренней речью и употреблять только новые означающие.
В краткосрочной позитивной психотерапии используются техники, связанные с данным психическим механизмом, и прежде всего это техника «Проблема как друг (как учитель)». Осуществляя эту технику, психотерапевт обращает внимание пациента на то, что эта проблема, не только принесла ему немалые страдания, но и в чем-то помогла, а так же на то, что проблемы могут быть полезны, уча нас чему-то ценному или облегчая решение других задач. Обычно техника завершается придумыванием «хороших наименований» для проблемы.
Позитивная психотерапия по Н. Пезешкиану на первом этапе терапевтической интервенции предлагает обязательный шаг – «позитивное толкование болезни». Автор этого направления даже предлагает набор готовых позитивных трактовок для различных невротических и психосоматических состояний638.
2) «Перефокусировка» – еще одна психотерапевтическая техника с механизмом переозначивания. Применяется эта вариация прежде всего к процессу восприятия пациентом собственных невротических симптомов и особенностей психотравмирующих ситуаций.
На первом этапе психотерапевт собирает информацию о том, какие именно аспекты ситуации или собственного самочувствия пациент апперцепциирует как «проблему» и психические репрезентации которых являются частью сложившегося дезадаптивного стереотипа, влияющего и на другие психические процессы.
На втором этапе психотерапевт аргументированно и эмоционально дезавуирует такое «проблемное» восприятие пациентом данных ситуаций и симптомов, создавая соответствующие «модули» в «картине» и «базисы» «схемы». При этом то, что воспринималось пациентом как «проблема», означивается как «неопасное», «неглавное», «даже второстепенное обстоятельство», являющееся «только следствием истинных причин дискомфорта». Также постоянно озвучивается факт непродуктивности фиксации внимания и усилий на борьбе с тем, что было означено пациентом как «проблема».
На третьем этапе психотерапевт неожиданно для пациента должен перевести его фокус внимания на восприятие того, что является «настоящей проблемой» и «главной причиной переживаний». В качестве «настоящей проблемы» психотерапевт представляет пациенту один или несколько дезадаптивных динамических стереотипов, но относящихся к другому аспекту поведения или проявляющихся в другой жизненной сфере.
При этом желательно, чтобы это были, во-первых, действительно значимые «первичные сбои», то есть дезадаптивные стереотипы, формирование которых и повлекло за собой всю дальнейшую последовательность внутрипсихических нарушений. Во-вторых, это должны быть стереотипы, редукция которых может быть осуществлена самим пациентом вне зависимости от социальных обстоятельств. Наконец, часто действительной «проблемой» пациента является его фиксация на «проблеме», которую он считал прежде первостепенной: «Беда не в том, что ваш муж ушел, беда в том, что вы внутренне не хотите его отпустить и изводите себя. В этом проблема! Сейчас надо помогать себе, а не пытаться вернуть мужа в несуществующие отношения».
Означив «проблемные» динамические стереотипы, психотерапевт аргументированно объясняет пациенту, через какую последовательность психических процессов они приводят к общей дезадаптации и субъективному страданию.
Такой подход является вполне оправданным, так как фиксация пациента на отдельных невротических симптомах обычно приводит только к нарастанию внутреннего напряжения и образованию «порочных кругов», поддерживающих тревогу. Восприятие же внешней психотравмирующей ситуации (которая обычно находится вне сферы контроля пациента) как основной проблемы человека приводит к формированию у него длительно существующей непродуктивной доминанты, направленной на прямую борьбу с неизменными в этом случае условиями существования.
Грамотное проведение этой техники позволяет добиться того, что вся «энергия» существующей доминанты переключается на редукцию ключевых дезадаптивных стереотипов, для чего в «картине» пациента психотерапевт и формирует соответствующие процессуальные «модули», включающие в себя план конкретных лечебных мероприятий, что и является четвертым, завершающим этапом проведения этой техники. При этом важно понимать, что «Перефокусировка» в СПП является только способом снизить интенсивность существующей патологической доминанты и изменить апперцептивный процесс таким образом, чтобы перенаправить активность пациента в конструктивное русло. Но собственно для редукции дезадаптивных стереотипов должны применяться другие специфические техники.
Этот психологический механизм вольно или невольно используют почти все психотерапевтические направления. Так, психотерапевты, работающие в психоаналитической парадигме, пытаются любую невротическую симптоматику дезавуировать, формируя у пациента доминанту, связанную с реальными или мнимыми ранними переживаниями сексуального характера и отношениями пациентов с родителями в детском возрасте.
Менее ортодоксальные психодинамические психотерапевты могут переозначивать происходящее с пациентом как «невротический конфликт» в какой-то жизненной сфере (например, профессиональной или семейной) и настаивать на том, что только полное осознание и преодоление этого «конфликта», то есть изменение, казалось бы, не связанных напрямую с «проблемой» динамических стереотипов поведения, может привести к исчезновению невротической симптоматики.
Когнитивные психотерапевты перефокусируют внимание пациента с эмоционального и событийного аспекта на «мыслительные механизмы», постепенно подводя его к тому, что все дело в «иррациональных установках», «автоматических мыслях», «мыслительных ошибках», что, по сути, является предпосылкой для модификации рече-мыслительного аспекта поведения.
Гуманистическое направление для перефокусировки использует такие абстрактные концепты, как «самоактуализация», «самореализация», «смысл жизни», «страх смерти», «одиночество», «абсурдность существования» и др.
2. Дискурсивное поведениеПонятие «дискурс» – одно из самых загадочных в современной философии, поскольку всякий толкует его согласно собственным усмотрениям, не утруждаясь, впрочем, эти усмотрения пояснять[270]270
Наиболее общее и ни к чему не обязывающее определение дискурса выглядит следующим образом: «Дискурс – понятие, выдвинутое структуралистами для анализа социальной обусловленности речевых высказываний». Данное указание, по всей видимости, можно понимать следующим образом: дискурс – есть отношение динамических стереотипов и речевого поведения.
[Закрыть]639. Наиболее системную разработку понятие «дискурс» получило в работах М. Фуко и Р. Барта, хотя даже ими оно не было сформулировано как концепт. Анализ этих работ показывает, что, во-первых, язык и дискурс – не тождественны друг другу[271]271
«Язык, – пишет Р. Барт, – перетекает в дискурс, дискурс – обратно в язык, они как бы держатся друг под другом, словно ладони при игре в жгуты».
[Закрыть]640, а во-вторых, дискурсы не только не являются непосредственными высказываниями, но по форме своей есть стереотипы, обслуживаемые высказываниями (наличной речью)[272]272
«Задача, – пишет М. Фуко, – состоит не в том – уже не в том, – чтобы рассматривать дискурсы как совокупности знаков (то есть означающих элементов, которые отсылают к содержаниям или к представлениям), но в том, чтобы рассматривать их как практики, которые систематически образуют объекты, о которых они говорят». Р. Барт формулирует это в другом контексте, но соблюдая тот же принцип: «Дело, в сущности, шло о том, чтобы понять (или описать), каким образом общество производит стереотипы (эту вершину искусственности), которые затем оно потребляет, принимая их за прирожденные человеку смыслы (эту вершину естественности)».
[Закрыть]641.
Когда У. Джеймс рассуждает о «потоке сознания»[273]273
«Традиционные психологи, – пишет У. Джеймс, – рассуждают подобно тому, кто стал бы утверждать, что река состоит из бочек, ведер, кварт, ложек и других определенных мерок воды. Если бы бочки и ведра действительно запрудили реку, то между ними все-таки протекала бы масса свободной воды. […] Всякий определенный образ в нашем сознании погружен в массу свободно текущей вокруг него “воды” и замирает в ней. […] Значение, ценность образа всецело заключается в этом дополнении, в этой полутени окружающих и сопровождающих его элементов мысли, или, лучше сказать, эта полутень составляет с данным образом одно целое – она плоть от плоти его и кость от кости его; оставляя, правда, самый образ тем же, что он был прежде, она сообщает ему новое назначение и свежую окраску».
[Закрыть]642, он имеет в виду именно то, что получило в современной философии название «дискурса», правда Р. Барт и М. Фуко придают последнему большее значение, нежели У. Джеймс. «Бочки» и «ведра», о которых пишет У. Джеймс, – это элементы «картины», тогда как «вода» – это элементы «схемы», которые текут («рекой») в определенном направлении, это направление и есть дискурс.[274]274
Последний тезис имеет смысл пояснить на доступном примере. Одни и те же события апперцепциировались гражданами СССР одним образом, а гражданами постсоветсткой России – совершенно противоположным. При этом ни сами эти события не претерпели никаких существенных изменений, ни люди не переродились, а контекст (политический, экономический, культурный и т. п.) и вовсе остался тем же, но изменилось направление дискурса. И с тем же рвением, с каким прежде все эти события относились к «минусу», теперь с той же убежденностью относятся этим же лицом к «плюсу».
[Закрыть] Иными словами, то, каким образом элемент «схемы» ориентируется в континууме психического, зависит от направленности дискурса, а поясняется аберрациями «картины». То есть апперцепционное поведение определяется не частными элементами «схемы» или аберрациями «картины», но главенствующим дискурсом, который функционирует по принципу доминанты, можно даже сказать, что он ею и является[275]275
Данное утверждение не является ни парадоксальным, ни случайным совпадением фактов. Доминанту следует понимать именно как дискурс, а дискурс – как доминанту, о чем с очевидностью свидетельствует настоятельное напоминание А.А. Ухтомского: «Было бы крайней неосторожностью говорить, что доминанта есть “центр сильнейшего возбуждения” в смысле какого-то стационарного состояния. Чтобы быть точным, надо сказать лишь, что доминанта есть центр, наиболее легко отзывающийся на дальние волны и очень легко суммирующий в себе возбуждения по этому поводу!»
[Закрыть]643. В этом смысле принципиальным оказывается вопрос о «природе» дискурса.
Самая наглядная и систематичная иллюстрация дискурсивного поведения представлена в книге Р. Барта «Фрагменты речи влюбленного» на примере, соответственно, «любовного дискурса»644. Роль «ведер» выполняют здесь «фигуры»[276]276
Под «фигурой» Р. Барт понимает «приступы речи», называя их «обломками дискурса». «Слово это, – пишет Р. Барт, – должно пониматься не в риторическом, но скорее в смысле гимнастическом или хореографическом». Эти «фигуры» образуют «любовную Топику», они «места», точки, между которыми любовный дискурс совершает свои челночные движения.
[Закрыть]645, эти «приступы речи», как называет их Р. Барт, то есть рече-мыслительные процессы и рождающиеся в них переживания, образующие внутренние течения дискурса, но подчиненные его генеральной линии. И сентиментальность, и страсть, и ревность, и сомнение, и восхищение, и негодование, и тихая радость, и еще тысячи других чувств, переживаемых влюбленным, есть обертоны одного и того же «любовного дискурса», этого «главенствующего очага возбуждения», вне которого эти переживания (в таком их виде) были бы невозможны. То же, что эти чувства так разнятся, ничего не меняет, они проявление этого дискурса, этой доминанты, реагирующей на всевозможные «дальние волны» и «суммирующей в себе возбуждения по их поводу».
Весь этот дискурс Р. Барт представляет «сотканным из желания, воображаемого и деклараций»646. Однако собственно дискурсом следовало бы считать первое – «желания» («ветер» в аллегории Л.С. Выготского, то есть аффекты и волю), работа «схемы» представлена здесь «воображаемым», а «картины» – «декларациями». Иными словами, хотя и достаточно упрощенно, основанием дискурса следует считать «желание» (некая ассоциация элементов «схемы», не без участия «картины», конечно), оно получает свое предметное оформление в «картине», ею же стимулируется и подкрепляется. «Желание» же возникает благодаря апперцепции аффекторно опосредованной психической активности,[277]277
Сюда входят как собственно внешние воздействия, так и работа гуморальных и прочих факторов.
[Закрыть] то есть «добавлением» к ней содержания психического[278]278
При иной апперцепции (продиктованной главенством иного дискурса) та же аффекторно опосредованная психическая активность «играет на руку» иному дискурсу. Так, например, если бы дискурсом было желание добиться высокого социального статуса («иерархический инстинкт»), то и апперцепция тех или иных внешних воздействий была бы иной, подкрепляясь иным содержанием «картины». В ход бы пошел механизм, описанный в психоанализе как «сублимация», где, как указывал З. Фрейд, «исключительно сильным возбуждениям, исходящим из отдельных источников сексуальности, открывается выход и применение в других областях, так что получается значительное повышение психической работоспособности из опасного самого по себе предрасположения».
[Закрыть]647. В результате с участием всех структур формируются динамические стереотипы, которые и обеспечивают стабильность дискурса, то есть образуют, можно сказать, его костяк.
Интересно, что сам А.А. Ухтомский рассматривает принцип доминанты «в высших этажах и в коре полушарий» именно на примере формирования «любовного дискурса», анализируя сюжетную линию из «Войны и мира» Л.Н. Толстого – отношения Наташи Ростовой и князя Андрея Болконского648.
«Первая фаза», по А.А. Ухтомскому, это неспецифическое возбуждение, вызванное как «рефлекторными влияниями», так и «влиянием внутренней секреции». Здесь эта «наметившаяся доминанта» «привлекает к себе в качестве поводов к возбуждению самые разнообразные рецепции» – Наташа на балу. Дискурс еще не обрел своего «предмета», он только создал возможность для соответствующей апперцепции. Возникло то, что И.М. Сеченов называет «системным чувством», которое создает «фон» восприятия[279]279
«Системное чувство» развивается, по словам И.М. Сеченова, «постепенно и столь незаметно, что уловить его начало невозможно. Но раз родившись до известной степени, оно всегда доходит до сознания и влияет, подобно основной смутной форме, очень резко даже на психику. Возрастая же еще в больших размерах, чувство приобретает, наконец, столь резко выраженный импульсивный характер, что становится через посредство психики источником для многообразных сложных деятельностей, направленных к удовлетворению позыва».
[Закрыть]649, по принципу доминанты этот «фон» ориентирует все элементы «схемы» и «картины» в одном русле – русле дискурса.
Однако уже во «второй фазе» «из множества рецепций доминанта вылавливает группу рецепций, которая для нее в особенности биологически интересна» (князя Андрея). «Это – стадия выработки адекватного раздражителя для данной доминанты и вместе стадия предметного выделения данного комплекса раздражителей из среды». Значительную роль в этом процессе у человека играет «творческое начало» «картины»: возникают самые разнообразные ее аберрации, которые усиливают формирующийся «образ», создают его, проецируют на него, по принципу доминанты, все «дальние волны» (аберрации «картины»), некогда возникавшие, а теперь оживленные растущим переживанием650. Однако все оживляемое в воспоминании приобретает качество и содержание соответственно состоянию психического в момент воспроизведения651, то есть ориентируется согласно требованию дискурса.
«Третья фаза», по А.А. Ухтомскому, наступает тогда, когда «между доминантой (внутренним состоянием) и данным рецептивным содержанием (комплексом раздражителей) устанавливается прочная (адекватная) связь, так что каждый из контрагентов (внутреннее состояние и внешний образ) будут вызывать и подкреплять друг друга, тогда как прочая душевная жизнь перейдет к новым текущим задачам и новообразованиям».[280]280
«Так, – продолжает А.А. Ухтомский, переходя фактически к вопросам апперцепции, – определенное состояние центральной нервной системы вызывает для человека индивидуальный образ, а этот образ потом вызывает прежнее состояние центральной нервной системы. Среда поделилась целиком на “предметы”», каждому из которых отвечает определенная, однажды пережитая доминанта в организме, определенный биологический интерес прошлого. Я узнаю вновь прежние предметы, насколько воспроизвожу в себе прежние доминанты, и воспроизвожу мои доминанты, насколько узнаю соответствующие предметы». Наконец, А.А. Ухтомский переносит эти данные на психопатологию: «В высшей психической жизни инертность господствующего возбуждения, то есть доминанта переживаемого момента, может служить источником “предубеждения”, “навязчивых образов”, “галлюцинаций”».
[Закрыть] Постепенно дискурс приобретает качество «руководящей идеи», «основной гипотезы», «которые избавляют мысль от толчков и пестроты и содействуют сцеплению фактов в единый опыт»652. По сути дела, он обретает форму динамического стереотипа, то есть такого поведения, которое и есть этот дискурс.
Таким образом, если рассматривать понятие дискурса в терминологической сети КМ СПП, то дискурс – это функционирующий по принципу доминанты динамический стереотип, образованный означаемыми (элементы «схемы») и находящий свое выражение в аберрациях «картины» (означающие), которые, конечно, оказывают на означаемые (их отношения между собой) некий обратный эффект, но сами не определяют направленности дискурса. При этом необходимо учитывать своего рода безразмерность речи,[281]281
Под этим тезисом следует понимать не только положение Л.С. Выготского о том, что одна и та же мысль может быть высказана разными словами, а одна и та же фраза может выражать разные мысли, но также и то, что внутри самого этого высказывания заложены возможности, которые могут быть реализованы в свое время (это, например, обеспечивает в ряде случаев возможность переозначивания). Наконец, что наиболее существенно для данного пункта, фраза может быть «надета» на дискурс вне всякого прямого соответствия, что, разумеется, затрудняет работу по идентификации направленности дискурса.
[Закрыть] на что косвенно указывает Л. Витгенштейн653, а также комментарии, данные его трактату Г. Кюнгом654 и В. Рудневым655.
Проблемы, возникающие в этом отношении дискурса и речи, в упрощенной форме могут быть сведены к проблеме отношений «схемы» и «картины». Как уже неоднократно говорилось, «картина» обслуживает «схему», и хотя первая гордо именуется «сознанием», на самом деле тон поведению задает именно «схема». На упрощенном примере это выглядит следующим образом: если актуализирован «драйв страха», то все мысли пациента (рече-мыслительные процессы или аберрации «картины») будут двигаться в этом направлении, то есть человек будет искать себе оправдания, продумывать способы избегания, строить катастрофические прогнозы и т. п.[282]282
Как показали исследования Ф. Зимбардо и М. Ляйппе, «независимо от присутствия стимула, размышление о нем, по-видимому, имеет тенденцию способствовать 1) порождению когниций, согласующихся с оценкой, присутствующей в уже имеющейся установке, и 2) дальнейшему оценочному согласованию между собой выработанных таким образом когниций». Это и есть работа дискурса, точнее говоря, работа «картины» по «обслуживанию» доминанты «схемы». Указанные авторы кроме прочего ссылаются на исследования А. Тессера, который показал, что «размышления об определенном объекте в основном направляются по уже имеющейся схеме. Они порождают мыслительный процесс, вовлекающий в себя обращение к поддерживающим установку воспоминаниям и ассоциациям, уложенным в эту общую схему. Чем больше мы размышляем или свободно ассоциируем, тем больше последовательных суждений у нас накапливается и тем большую категоричность приобретает наша установка». Речь идет о формировании динамического стереотипа «картины» на базе доминанты «схемы», который, как следует из данных экспериментов, не ослабляет, но, напротив, только усиливает эту доминанту. Эта работа «картины» над «материалом», предоставленным ей «схемой», и есть – дискурс, разворачивающийся в речи.
[Закрыть]656 Тут, что называется, двух мнений («схема» поражена доминантой страха, а «картина» беззаботна) быть не может, даже если человек в этом случае «сердится», «хорохорится», «стоически» переживает страх и сдерживает внешние проявления эмоции, полагаясь на какие-то аберрации «картины», все это происходит под действием страха (то есть обслуживает «схему»). Да, «картина» зачастую вносит определенные коррективы в результирующую реакцию (наличное поведение), однако даже такое «бесстрашие» – есть следствие страха, подчинено ему и в конечном счете «обслуживает» его.
Наконец, полную определенность в этот вопрос вносит М.М. Бахтин, который показывает, что не только внешняя, но и внутренняя речь не является действительным «родителем» дискурса, что основание его лежит значительно «глубже». Тот факт, что аналитическими процедурами можно выявить некий «бессознательный» мотив, благодаря которому и с подачи которого якобы формируется дискурс, ничего не меняет[283]283
«С объективной точки зрения, – пишет М.М. Бахтин, – мотивы как официального, так и неофициального сознания даны совершенно одинаково во внутренней и во внешней речи и одинаково являются не причиной поведения, а компонентом, составною частью его. Для объективной психологии всякий мотив человека есть составная часть его поступка, а вовсе не причина его. Можно сказать, что поведение человека распадается на двигательные реакции (“действия” в узком смысле слова) и на сопровождающую эти реакции внутреннюю и внешнюю речь (словесные реакции). Оба эти компонента цельного поведения человека объективны и материальны и требуют для своего объяснения объективно-материальных же факторов как в самом организме человека, так и в окружающей его природной и социальной среде (курсив наш, – А.К., Г.А.)».
[Закрыть]657. Иными словами, вербализировать причину дискурса невозможно, поскольку всякая вербализация будет принадлежать «картине» и ею искажаться, тогда как корни, основания дискурса лежат в пласте «схемы», в доминантах, рожденных потребностями, динамическими стереотипами «схемы», ее «драйвами» и эмоциями (в том числе и «элементарными»).
При этом существенно следующее обстоятельство: если «картина» является относительно полной вотчиной индивида, то «схема», формирующаяся в наличном, а не только речевом поведении, куда более «социальна». Динамические стереотипы наличного поведения формируются в непосредственной деятельности, например человек зачастую «знает», как ему следует себя вести в той или иной ситуации, но не «осознает» этого «знания», ведет себя как бы автоматически, при том что специально его этому не учили, но лишь поместили в обстоятельства, где иное поведение было невозможно, или же он обучался наблюдением, также вне специального «осознавания» и «продумывания»658. Соответственно, его рече-мыслительные процессы движутся в том направлении, в котором движется его наличное поведение.
Для М. Фуко этот тезис стал основанием для формулировки «сексуального дискурса», выстроенного по механизму «техник» (или «практик»)659. Автор полагал, что если существует некая общая «идеология», пусть и не сформулированная, но выраженная в поведении значимой для индивида группы людей, то и мыслить этот индивид будет соответственно этой «идеологии», однозначно подкрепленной всей структурой наличного поведения в обществе. Именно эту идею озвучивает М.М. Бахтин, называя указанный феномен «житейской идеологией».[284]284
Под «житейской идеологией» М.М. Бахтин понимал «внутреннюю и внешнюю речь, проникающую насквозь все наше поведение».
[Закрыть] Анализируя психоаналитический подход, М.М. Бахтин приходит к выводу, что «душевные конфликты» лежат не в плоскости «борьбы сознания с бессознательным», а «разыгрываются в стихии внутренней и внешней речи, то есть в стихии житейской идеологии»[285]285
Что позволяет ему заявить: «Это не “душевные”, а идеологические конфликты, поэтому они и не могут быть поняты в узких пределах индивидуального организма и индивидуальной психики. Они выходят не только за предел сознания, как это думает Фрейд, но и за пределы индивида в целом».
[Закрыть]660, это «разыгрывание» и есть работа дискурса. Таким образом, справиться с дискурсом посредством внешней речи совершенно невозможно, поскольку она сама включена в дискурс, более того, совершенно интактными к таким воздействиям остаются основания, побуждающие внутреннюю речь.
Изменения в «картине», производимые по механизму «переозначивания», относительно виртуальны и без изменения дискурса не могут дать существенного результата. Там, где на слово приходится факт (пусть и искаженный апперцепцией), слово остается за фактом. Сам же дискурс – есть отображение фактической действительности («факт»), оно может быть искаженным, неадекватным, приводить к дезадаптации, но это отображение (динамические стереотипы, «драйвы», «системные чувства» и т. п.) фактической действительности. В этой части и пролегает основная работа психотерапевта, однако на деле он не задействует дискурс, он встречается с «картиной» пациента (то есть представительством этого дискурса), поскольку получает большей частью вербальную информацию, вступает с пациентом в беседу, апеллирует к сознанию и т. п., то есть функционирует в поле внешней речи. Повлиять же непосредственно на «мысль» (внутреннюю речь) пациента психотерапевт не способен, если им не будут задействованы структуры «схемы».[286]286
Именно этим обстоятельством объясняется необходимость формировать «к технике» не только «модуль» «картины», но и «базис» «схемы», то есть создать доминанту, пробудить потребность пациента.
[Закрыть]
Содержание речи способно претерпевать самые различные трансформации, подчас даже взаимоисключающие (например: любовь – ненависть), при этом дискурс, основанный на определенной ориентации элементов «схемы», остается неизменным (собственно «любовный дискурс»). Если же дискурс не изменен, то апперцепция будет прежней, а при прежней апперцепции добиться существенного изменения наличного поведения пациента невозможно. Таким образом, одной из самых существенных задач для психотерапевта оказывается редукция дезадаптивного дискурса и формирование адаптивного. Частично эта задача решается переозначиванием, однако, как уже было сказано выше, возможности влияния «картины» на «схему» (а дискурс – это прежде всего работа «схемы») весьма и весьма ограниченны.
Кроме того, необходимо учесть существенную трудность: поскольку дискурс обладает высоким коэффициентом стабильности (чего нельзя сказать, например, о целенаправленном мышлении, претерпевающем постоянные трансформации), степень его осознанности невелика, а то он и вовсе не осознается[287]287
Эта закономерность соотношения осознаваемого и изменяющегося (или не изменяющегося) материала подробно рассмотрена В.М. Аллахвердовым и сводится к следующему постулату: то, что не изменяется, не осознается.
[Закрыть]661. Как человек, совершающий обычный для себя маршрут от дома до работы, не осознает непосредственно того, что он делает662, так и захваченный дискурсом человек не осознает своей погруженности в дискурс. В таком положении человек может осознавать свою работу, производимую под давлением этого дискурса, однако же, поскольку дискурс присутствует в этой ситуации incognito, он не может усомниться в целесообразности этой работы или произвольно ее прекратить, он в полном смысле этого слова не критичен к собственному поведению и зависим от него. Роль направляющего начала выполняет здесь «маховое колесо» дискурса, а потому смехотворны всякие попытки подействовать на него убеждением или рекомендацией. Потому в данном подразделе рассматривается возможность «непосредственной работы» с дискурсом «обходными маневрами».
А. Психический механизм
В своих работах Л.С. Выготский не только показал «диалектические отношения внешней и внутренней речи»[288]288
Л.С. Выготский подверг критике исследования представителей вюрцбургской школы и А. Бергсона, утверждавших полную независимость мысли от слова и указывавших на искажение, которое слово с неизбежностью вносит в мысль. Однако в этой полемике Л.С. Выготский отнюдь не встает на сторону ассоционистов, он не разделяет убеждения, что внешняя речь есть внутренняя речь минус звук, но, напротив, ему удается жестко противопоставить внешнюю и внутреннюю речь, показать, что внешняя и внутренняя речь противоположны по функции, протекают в совершенно различных условиях и отличаются как по структуре, так и по семантике.
[Закрыть]663, но и очертил контуры фундаментального противоречия, которое отличает внутреннюю речь от внешней и даже делает их своего рода антагонистами. Впрочем, сам Л.С. Выготский говорит об этом лишь мимоходом: «мы всегда знаем, о чем идет речь в нашей внутренней речи»; «тема внутреннего диалога всегда известна нам»; «мы знаем, о чем мы думаем»; «себе самим мы легко верим на слово»; «самих себя мы особенно легко понимаем с полуслова, с намека», «мы всегда находимся в курсе наших ожиданий и намерений»664. Однако зачем нам «понимать себя с полуслова», если мы понимаем себя a priori, прежде всяких слов?[289]289
Трудно представить себе человека, который, не обладая бы способностью к речи, не был бы с собой согласен; следовательно, речь не только не способствует налаживанию контакта с самим собой, но, напротив, скорее затрудняет идентификацию своей неизбежной полемичностью.
[Закрыть] Фактически «слова», «полуслова» и «намеки» служат нам лишь для формализации своего понимания665, и чем меньше мы говорим, тем больше мы себя понимаем. Тогда как то, о чем мы думаем, как правило, не вызывает у нас сомнения.[290]290
Взрослый, нормально развитый человек не отождествлен со своей мыслью, он с ней един, она есть его выражение, его эманация, он не соглашается со своей мыслью, не понимает ее, но он и есть сама эта мысль – всем своим существом, своими действиями, привычками, системами отношений.
[Закрыть]
Таким образом, внешняя речь в противовес внутренней – не только не является мыслью в чистой ее форме, но и не всегда ясна говорящему, который вынужден в буквальном смысле декодировать ее, чтобы понять. Не случайно Л.С. Выготский полагал, что «мысль не совпадает не только со словом, но и со значениями слов, в которых она выражается»666. Таким образом, вербализованная мысль, мысль, облеченная в слово, уже не есть изначальная мысль, но нечто новое, что не вполне соответствует своему внутреннему «аналогу».[291]291
Этот факт хорошо известен всякому, кто пытался высказать свою мысль и разочаровывался в собственных формулировках, не достигая в них той точности, которая свойственна пониманию им определяемой темы. Другим примером может служить ситуация, когда человек говорит что-то, чего, как ему казалось, он не хотел и «не думал» говорить, когда в запале спора он пытается понять: «Что же я такое только что сказал?» – суетливо догоняя свою собственную внешнюю речь катастрофически запаздывающим пониманием, и т. п.
[Закрыть] В поэтической форме это выразил Гёте: «Слово умирает уже на кончике пера».
Этот принцип «несоответствия внешней и внутренней речи» уже используется в психотерапии, хотя и не определяется таким образом. Так, например, он в значительной степени обеспечивает эффективность психотерапевтической техники, А. Бека667 предполагающая фиксацию на бумаге «автоматических мыслей». Пациенты, как правило, с удивлением отмечают, что написанное ими не вполне соответствует их мыслям, что они думают «так и не так одновременно». Аналогичный эффект можно получить и в том случае, если дать задание пациенту максимально полно и честно описать на бумаге его конфликтную ситуацию и чувства, с ней связанные. Если же после прочесть ему его записи, произвольно акцентируя те или иные моменты, то он признается, что «все не совсем так». Этот эффект возникает также, если дать пациенту прослушать пленку, где он рассказывает о своих переживаниях. Эффект можно усилить, если использовать методы провокационной психотерапии668, где обеспечивается конфронтация психотерапевта со своим пациентом, последний «в сердцах» говорит множество вещей, от которых впоследствии – при прослушивании аудиозаписи этой беседы – отказывается, говоря, что он «вовсе так не думает».
Кажется странным, что во всех описанных ситуациях пациент был вполне искренен – и когда делал первое свое заявление (устное или письменное), и когда отказывался от него. Однако дело не в том, что он передумал или осознал ошибочность своих суждений, а в том, что, выражая свои мысли, он представлял свою внутреннюю речь, а оценивая их, он оценивал уже не свои мысли (внутреннюю речь), а то, что стало «словом», свою внешнюю речь. С первой он соглашается, точнее, первую, если так можно выразиться, он «проповедует», а вторую (вынесенную вовне и обращенную назад) – оценивает. Иными словами, внешняя речь человека – эта та речь, которую он подвергает оценке[292]292
А.А. Потебня рассматривал этот феномен как апперцепцию слова: «При создании слова, а равно и в процессе речи и понимания, происходящем по одним законам с созданием, полученное уже впечатление подвергается новым изменениям, как бы вторично воспринимается, то есть, одним словом, апперципируется».
[Закрыть]669. И если мы, что отмечает Л.С. Выготский (равно как и Ж. Пиаже), всегда согласны со своей внутренней речью, то внешняя речь, на которую мы смотрим «со стороны», ставится нами под сомнение, как и все, на что мы смотрим «со стороны». И самое лаконичное определение этой закономерности дал Ж. Лакан: «Чем дальше, тем яснее становится, что субъект, который говорит, находится по ту сторону эго»670.
Упрощая, можно сказать, что человек всегда согласен с самим собой (даже если вступает в продолжительную «внутреннюю дискуссию»), но прежде чем согласиться с чужим утверждением, он, следуя банальной защитной реакции (тенденция выживания), неизбежно подвергает его проверке (равно как и любой объект, с которым ему приходится сталкиваться). В перечисленных случаях внешняя речь человека, представленная ему в виде записи, оказывалась уже своего рода «чужой» ему речью, которую он автоматически оценивал (примерялся) – с чем-то соглашался, а с чем-то не соглашался.
Иными словами, человек находится в согласии с тем, о чем он «думает» (внутренняя речь), но не всегда или всегда не полностью согласен с тем, что он говорит или пишет (внешняя речь), особенно если он анализирует фактический результат этой деятельности. Во втором случае он оказывается дистанцирован от своей внешней речи, между ним и тем, что им было сказано, возникает некая граница. То, что сказано человеком, уже не является «им», но только его «производным». Сказанное утрачивает качество целого, оно стало частным, а потому относительно неверным (не до конца правильным), нужны оговорки, пояснения и т. п., что, впрочем, незначительно улучшит положение дел.[293]293
Указанный факт хорошо известен любому научному работнику, которому приходилось давать определение какому-нибудь феномену, это определение всегда своего рода условность, всегда компромисс.
[Закрыть]
Итак, следует заключить, что, высказывая свою мысль, человек автоматически встает в некую оппозицию к ней (степень этой оппозиционности всегда относительна, но она есть). Он думает, что она не совсем верна, не точна, он не может с ней полностью и безоговорочно согласиться.[294]294
Когда мы говорим, что «уголь черный», мы неизбежно думаем про себя, что блики света, отраженные его гранями, делают его светлым, что «он черен только по идее». Если бы мы не говорили, а только думали об угле, то он действительно представлялся бы нам черным и только черным. Вместе с тем, когда мы говорим, мы начинаем сомневаться, мы продолжаем какое-то время утверждать, что уголь именно черный, хотя теперь и не верим себе в полной мере. Если же кто-то поддержит наше сомнение, то скоро мы и вовсе откажемся от своей категорической оценки, не зная чему и верить.
[Закрыть] Этот феномен оппозиционности «мысли мыслимой» и «мысли высказываемой» получил в КМ СПП название «отречения в речи»671. Он, с одной стороны, обеспечивает непрерывность потока сознания, которое, как показал В.М. Аллахвердов, поддерживается изменением, с другой стороны, является существенным механизмом, обеспечивающим изменение «образа себя», что практикуют представители гуманистического направления (правда, не в полной мере это осознавая)[295]295
Приятным исключением в этом смысле является позиция Д.Ф.Т. Бьюдженталь: «Тот факт, что человек слышит свой первый ответ, изменяет характер второго: это означает, что процесс “открывания” (техника, используемая автором, – А.К., Г.А.) вызывает непрерывные изменения. […] Человеческая жизнь, по крайней мере имплицитно, постоянно обновляется».
[Закрыть]672. КМ СПП целенаправленно использует этот феномен для формирования оппозиционного дискурса.
Основу КМ составляет здесь положение, согласно которому всякая психическая функция, равно как и всякое ее проявление, неизбежно латентно содержит в себе свою оппозицию: удовольствие – неудовольствие, активность – пассивность, горячее – холодное, радость – горе. Само мышление основано на противоположностях: хорошее – плохое, логичное – нелогичное, красивое – некрасивое. При этом существование одного «полюса» обеспечивает возможность другого, и наоборот, а вне одного из них другой невозможен. Эта позиция стала основополагающей в гештальттерапии[296]296
«Взгляд гештальт-подхода, – пишут И. Польстер и М. Польстер, – заключается в том, что каждый индивидуум сам по себе – это бесконечное сочетание полярностей. Какое бы свойство ни обнаружил в себе человек, к нему всегда прилагается антипод или полярное качество. Оно “дремлет” в фоне, определяя интенсивность настоящих переживаний, но может образовывать фигуру, если соберет достаточно сил. Если эту силу поддержать, становится возможной интеграция полярностей, застывших в позиции взаимного отторжения».
[Закрыть]673, у самого Ф. Пёрлза этот тезис касается прежде всего динамики процесса: «И с чего бы ни начали, этому всегда найдется противоположность». Впрочем, уже И.П. Павлов указывал, что «контрастные переживания есть, конечно, явления взаимной индукции»674.
Для решения поставленной задачи и с учетом представленных положений существует несколько вариантов решения проблемы редукции дезадаптивного дискурса и формирования адаптивного.
Первый касается использования собственно механизма «отречения в речи»: если реализовать возможность полной вербализации дискурса, он должен исчезнуть, хотя бы потому, что так осуществляется «эндогенный», по А.А. Ухтомскому, «конец доминанты»675. Это отчасти действительно так, однако возникает трудность полной вербализации, о чем предупреждает Л.С. Выготский[297]297
«Во внутренней речи, – пишет Л.С. Выготский, – мы всегда можем выразить все наши мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием. И разумеется, при этом значение этого единого названия для сложных мыслей, ощущений и рассуждений окажется непереводимым на язык внешней речи, окажется несоизмеримым с обычным значением того же самого слова. Благодаря этому идиоматическому характеру всей семантики внутренней речи она, естественно, оказывается непонятной и труднопереводимой на наш обычный язык».
[Закрыть]676. Дело еще в том, что слово – есть коммуникативный инструмент, что особенно подчеркивал М.М. Бахтин, то есть «продукт взаимодействия говорящих и, шире, – продукт всей той сложной социальной ситуации, в которой высказывание возникло»677. К этому обстоятельству относится и ирония Ж. Лакана, полагавшего, что завершенных анализов не бывает: «Субъект начинает анализ или говоря о себе, но не для вас, или говоря для вас, но не о себе. Когда он заговорит о себе и с вами, считайте, что анализ закончен»678. Таким образом, рассчитывать на кардинальное решение проблемы подобным способом не приходится (хотя Р. Барт, похоже, готов к решению этой задачки, что, впрочем, неудивительно, учитывая его заинтересованность в ее решении[298]298
Во «Фрагментах» сам Р. Барт представляется нам влюбленным, который педантично записывает свои «автоматические мысли», возникающие у него в отношении возлюбленного и своих собственных чувств, но он не только записывает, он начинает анализировать записанные мысли, и тут происходит «отречение в речи». Удивительна психологическая динамика этого текста, который представляет собой настоящую синусоиду: от высших степеней «полета» (восторг, очарование, благоговение) говорящий, словно безумный, вдруг переходит к глубочайшему «падению» (разочарование, негодование, отчаяние). Причем мы без труда найдем подобную динамику и в каждом из представленных фрагментов, и в тексте, взятом целиком. Если Р. Барт начинает фрагмент с восторженных эпитетов в отношении возлюбленного, он практически неизбежно заканчивает его словами осквернения взлелеянного образа. Равно как и наоборот, начиная фрагмент со слов благородного негодования в отношении холодности возлюбленного, он заканчивает его мольбой о прощении и поклоняется возлюбленному как идолу, описывая мириады его достоинств. Аналогичная динамика сопровождает и отношение друг к другу самих фрагментов, причем чем дальше по тексту, тем разительнее амплитуда этих «взлетов» и «падений», для иллюстрации этой закономерности достаточно привести название двух последних глав: «Я гнусен» и «Я люблю тебя». Итак, Р. Барт со всей определенностью показывает (как самим текстом, так и выводами, заключенными в этом тексте), что любовный дискурс верен только до тех пор, пока находится внутри влюбленного, высказывание этого дискурса, перевод его во внешнюю речь, заставляет влюбленного отказываться от собственных чувств. Однако «круговая порука» дискурса не позволяет отойти ему в тень, но все же поскольку Р. Барт пишет не историю, а дискурс, то, соответственно, в конечном итоге («что и требовалось доказать») идентифицирует его как «болезнь» и «выздоравливает».
[Закрыть]). Однако все это не исключает шансов использовать хотя бы что-то от этой возможности (запись внешней речи на любой носитель с последующим прочтением, прослушиванием, просмотром), зачастую эффект бывает весьма и весьма выраженный. В любом случае, как говорил Л. Витгенштейн, «единственная возможность развивать свои идеи – это попытка записать их»679.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































