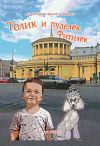Текст книги "Прогулки с Пушкиным"
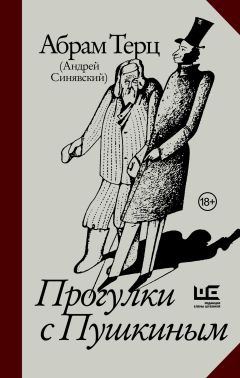
Автор книги: Андрей Синявский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Сначала я играл,
Шутя стихи марал,
А там – переписал,
А там – и напечатал.
И что же? Рад, не рад
Но вот уже я брат
Тому, сему, другому.
Что делать? Виноват!
Тем не менее этот удел, носивший признаки минутной прихоти, детской забавы, был для него дороже всех прочих даров, земных и небесных, взятых вместе. Ему ничего не стоила начатая партия, но играть нужно было по-крупному, на всю катушку. “Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной…Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом”.
Баратынский был шокирован его гибелью.
“…Зачем это так, а не иначе? – вопрошал он со слезами недоумения и обиды. – Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик?” (Письмо к П.А.Вяземскому, 5 февраля 1837 г.).
На это мы ответим: естественно. Пушкин умер в согласии с программой своей жизни и мог бы сказать: мы квиты. Случайный дар был заклан в жертву случаю. Его конец напоминал его начало: мальчишка и погиб по-мальчишески, в ореоле скандала и подвига, наподобие Дон Кихота. Колорит анекдота был выдержан до конца, и ради пущего остроумия, что ли, Пушкина угораздило попасть в пуговицу. У рока есть чувство юмора.
Смерть на дуэли настолько ему соответствовала, что выглядела отрывком из пушкинских сочинений. Отрывок, правда, получился немного пародийный, но это ведь тоже было в его стиле.
В легкомысленной юности, закругляя “Гавриилиаду”, поэт бросал вызов архангелу и шутя предлагал сосчитаться в конце жизненного пути:
Но дни бегут, и время сединою
Мою главу тишком посеребрит,
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
Иосифа прекрасный утешитель!
Молю тебя, колена преклоня,
О рогачей заступник и хранитель,
Молю – тогда благослови меня,
Даруй ты мне беспечность и смиренье,
Даруй ты мне терпенье вновь и вновь,
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь!
Ближним оказался Дантес. Всё вышло почти по писаному. Предложение было, видимо, принято: за судьбой оставался последний выстрел, и она его сделала с небольшою поправкой на собственную фантазию: в довольстве и тишине Пушкину было отказано. Не этот ли заключительный фортель он предчувствовал в “Каменном госте”, в “Выстреле”, в “Пиковой даме”? Или здесь действовало старинное литературное право, по которому судьба таинственно расправляется с автором, пользуясь, как подстрочником, текстами его сочинений, – во славу и в подтверждение их удивительной прозорливости?..
“В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его…
– Старуха! – закричал он в ужасе”.
* * *
Старый лагерник мне рассказывал, что, чуя свою статью, Пушкин всегда имел при себе два нагана. Рискованные натуры довольно предусмотрительны: бесшабашные в жизни, они суеверны в судьбе.
Несмотря на раздоры и меры предосторожности, у Пушкина было чувство локтя с судьбой, освобождающее от страха, страдания и суеты. “Воля” и “доля” рифмуются у него как синонимы. Чем больше мы вверяемся промыслу, тем вольготнее нам живется, и полная покорность беспечальна, как птичка. Из множества русских пословиц ему ближе всего, пожалуй, присказка: “Спи! Утро вечера мудренее”.
За пушкинским подчинением року слышится вздох облегчения – независимо, принесло это успех или ущерб. Так, по милости автора, вещая смерть Олега воспринимается нами с энтузиазмом. Ход конем оправдался: князь получил мат; рок одержал верх: дело сделано – туш!
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
В общении с провидением достигается – присущая Пушкину – высшая точка зрения на предмет, придерживаясь которой, мы почти с удовольствием переживаем несчастья, лишь бы они содействовали судьбе. Приходит состояние свободы и покоя, нашептанное сознанием собственной беспомощности. Мы словно сбросили тяжесть: ныне отпущаеши.
“Разъедемся, пора! – сказали, —
Безвестной вверимся судьбе”.
И каждый конь, не чуя стали,
По воле путь избрал себе.
Вопреки общему мнению, что свобода горда, непокорна, Пушкин ее в “Цыганах” одел в ризы смирения. Смирение и свобода одно, когда судьба нам становится домом и доверие к ней простирается степью в летнюю ночь. Этнография счастливо совпала в данном случае со слабостью автора, как русский и как Пушкин неравнодушного к цыганской стезе. К нищенским кибиткам цыган – “сих смиренных приверженцев первобытной свободы”, “смиренной вольности детей” – Пушкин привязал свою кочующую душу, исполненную лени, беспечности, страстей, праздной мечтательности, широких горизонтов, блуждания, – всё это под попечением рока, не отягченного бунтом и ропотом, под сенью луны, витающей в облаках.
Луна здесь главное лицо. Конечно – романтизм, но не только. Эта поэма ему сопричастна более других. Пушкин плавает в “Цыганах”, как луна в масле, и передает ей бразды правления над своей поэзией.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит,
И вот – уж перешла в другое
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?[9]9
Ср. отрывок “Зачем крутится ветр в овраге”, где похожая ассоциация ветра, девы, луны и т. д. – замыкается на певце.
[Закрыть]
В луне, как и в судьбе, что разгуливает по вселенной, наполняя своим сиянием любые встречные вещи, – залог и природа пушкинского универсализма, пушкинской изменчивости и переимчивости. Смирение перед неисповедимостью Промысла и некое отождествление с ним открывали дорогу к широкому кругозору. Всепонимающее, всепроникающее дарование Пушкина много обязано склонности перекладывать долги на судьбу, полагая, что ей виднее. С ее позиции и впрямь далеко видать.
В “Цыганах” Пушкин взглянул на действительность с высоты бегущей луны и увидел рифмующееся с “волей” и “долей” поле, по которому, подобно луне в небе, странствует табор, колышимый легкой любовью и легчайшей изменой в любви. Эти пересечения смыслов, заложенные в кочевом образе жизни, свойственном и женскому сердцу, и луне, и судьбе, и табору, и автору, – сообщают поэме исключительную органичность. Мнится, всё в ней вращается в одном световом пятне, охватывающем, однако, целое мироздание.
С цыганским табором, как символом Собрания сочинений Пушкина, в силах сравниться разве что шумный бал, занявший в его поэзии столь же почетное место. Образ легко и вольно пересекаемого пространства, наполненного пестрым смешением лиц, одежд, наречий, состояний, по которым скользит, вальсируя, снисходительный взгляд поэта, озаряющий минутным вниманием то ту, то иную картину, – вот его творчество в общих контурах.
Друзья! не все ль одно и то же:
Забыться праздною душой
В блестящем зале, в модной ложе
Или в кибитке кочевой?
Ясно – одно и то же. Светскость Пушкина родственна его страсти к кочевничеству. В Онегине он запечатлел эту идею. “Там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник?” Наш пострел везде поспел – можно смело поручиться за Пушкина. Недаром он смолоду так ударил по географии. После русского Руслана только и слышим: Кавказ, Балканы… “…И финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык”, прежде чем попасть в будущие любители Пушкина, были им в “Братьях разбойниках” собраны в одну шайку. То был мандат на мировую литературу.
Подвижность Пушкина, жизнь на колесах позволяли без проволочек брать труднейшие национальные и исторические барьеры. Легкомыслие становилось средством сообщения с другими народами, путешественник принимал эстафету паркетного шаркуна. Шла война, отправляли в изгнание, посылали в командировки по кровавым следам Паскевича, Ермолова, Пугачева, Петра, а бал всё ширился и множился гостями, нарядами, разбитыми в пыль племенами и крепостями.
Так Муза, легкий друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне…
Пушкин любил рядиться в чужие костюмы и на улице, и в стихах. “Вот уж смотришь – Пушкин серб или молдаван, а одежду ему давали знакомые дамы… В другой раз смотришь – уже Пушкин турок, уже Пушкин жид, так и разговаривает, как жид”. Эти девичьи воспоминания о кишиневских проделках поэта могли бы сойти за литературоведческое исследование. “Переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам” – таков русский язык в определении Пушкина, таков и сам Пушкин, умевший по-свойски войти в любые мысли и речи. Компанейский, на короткой ноге с целым светом, терпимый “даже иногда с излишеством”, он, по свидетельству знакомых, равно оxотно болтал с дураками и умниками, с подлецами и пошляками. Общительность его не знала границ. “У всякого есть ум, – настаивал Пушкин, – мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя”. “Иногда с лакеями беседовал”, – добавляет уважительно старушка А.О.Смирнова-Россет.
…И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
Все темы ему были доступны, как женщины, и, перебегая по ним, он застолбил проезды для русской словесности на столетия вперед. Куда ни сунемся – всюду Пушкин, что объясняется не столько воздействием его гения на другие таланты, сколько отсутствием в мире мотивов, им ранее не затронутых. Просто Пушкин за всех успел обо всем написать.
В результате он стал российским Вергилием и в этой роли гида-учителя сопровождает нас, в какую бы сторону истории, культуры и жизни мы ни направились. Гуляя сегодня с Пушкиным, ты встретишь и себя самого.
…Я, нос себе зажав, отворотил лицо.
Но мудрый вождь тащил меня всё дале, дале —
И, камень приподняв за медное кольцо,
Сошли мы вниз – и я узрел себя в подвале.
Больше всего в людях Пушкин ценил благоволение. Об этом он говорил за несколько дней до смерти – вместе с близкой ему темой судьбы, об этом писал в рецензии на книгу Сильвио Пеллико “Об обязанностях человека” (1836).
“Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах и, получа свободу, издал свои записки. Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью, – прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства”.
В “ненарушимой благосклонности во всем и ко всему” рецензент усматривал “тайну прекрасной души, тайну человека-христианина” и причислял своего автора к тем избранным душам, “которых Ангел Господний приветствовал именем человеков благоволения”.
Был ли Пушкин сим избранным? Наверное, был – на иной манер.
В соприкосновении с пушкинской речью нас охватывает атмосфера благосклонности, как бы по-тихому источаемая словами и заставляющая вещи открыться и воскликнуть: “Я – здесь!” Пушкин чаще всего любит то, о чем пишет, а так как он писал обо всем, не найти в мире более доброжелательного писателя. Его общительность и отзывчивость, его доверие и слияние с промыслом либо вызваны благоволением, либо выводят это чувство из глубин души на волю с той же святой простотой, с какой посылается свет на землю равно для праведных и грешных. Поэтому он и вхож повсюду и пользуется ответной любовью. Он приветлив к изображаемому, и оно к нему льнет.
Возьмем достаточно популярные строчки и посмотрим, в чем соль.
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь…
(Какой триумф по ничтожному поводу!)
Что ты ржешь, мой конь ретивый?..
(Ну как тут коню не откликнуться и не заговорить человеческим голосом?!)
Мой дядя самых честных правил…
(Под влиянием этого дяди, отходная которому читается тоном здравицы, у вечно меланхоличного Лермонтова появилось единственное бодрое стихотворение “Бородино”: “Скажи-ка, дядя, ведь недаром…”)
Тиха украинская ночь…
(А звучит восклицательно – а почему? да потому, что Пушкин это ей вменяет в заслугу и награждает медалью “тиха” с таким же добрым торжеством, как восхищался достатком героя: “Богат и славен Кочубей”, словно все прочие ночи плохи, а вот украинская – тиха, слышите, на весь мир объявляю: “Тиха украинская ночь!”)
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца…
(Под этот припев отплясывали, позабыв об утопленнике. Вообще у Пушкина всё начинается с праздничного колокольного звона, а заканчивается под сурдинку…)
С Богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава Богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.
(Ничего себе – “Похоронная песня”! О самом печальном или ужасном он норовит сказать тост) —
Итак, – хвала тебе, Чума!..
Пушкин не жаловал официальную оду, но, сменив пластинку, какой-то частью души оставался одописцем. Только теперь он писал оды в честь чернильницы, на встречу осени, пусть шутливые, смешливые, а всё ж исполненные похвалы. “Пою приятеля младого и множество его причуд”, – валял он дурака в “Онегине”, давая понять, что не такой он отсталый, а между тем воспел и приятеля, и весь его мелочный туалет. Прочнее многих современников Пушкин сохранял за собою антураж и титул певца, стоящего на страже интересов привилегированного предмета. Однако эти привилегии воспевались им не в форме высокопарного славословия, затмевающего предмет разговора пиитическим красноречием, но в виде нежной восприимчивости к личным свойствам обожаемой вещи, так что она, купаясь в славе, не теряла реальных признаков, а лишь становилась более ясной и, значит, более притягательной. Вещи выглядят у Пушкина, как золотое яблочко на серебряном блюдечке. Будто каждой из них сказано:
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!
И они – являются.
“Нет истины, где нет любви” – это правило в устах Пушкина помимо прочего означало, что истинная объективность достигается нашим сердечным и умственным расположением, что, любя, мы переносимся в дорогое существо и, проникшись им, вернее постигаем его природу. Нравственность, не подозревая о том, играет на руку художнику. Но в итоге ему подчас приходится любить негодяев.
Вслед за Пушкиным мы настолько погружаемся в муки Сальери, что готовы, подобно последнему, усомниться в достоинствах Моцарта, и лишь совершаемое на наших глазах беспримерное злодеяние восстанавливает справедливость и заставляет ужаснуться тому, кто только что своей казуистикой едва нас не вовлек в соучастники. В целях полного равновесия (не слишком беспокоясь за Моцарта, находящегося с ним в родстве) автор с широтою творца дает фору Сальери и, поставив на первое место, в открытую мирволит убийце и демонстрирует его сердце с симпатией и состраданием.
Драматический поэт – требовал Пушкин – должен быть беспристрастным, как судьба. Но это верно в пределах целого, взятого в скобки, произведения, а пока тянется действие, он пристрастен к каждому шагу и печется попеременно то об одной, то о другой стороне, так что нам не всегда известно, кого следует предпочесть: под пушкинское поддакиванье мы успели подружиться с обеими враждующими сторонами. Царь и Евгений в “Медном всаднике”, отец и сын в “Скупом рыцаре”, отец и дочь в “Станционном смотрителе”, граф и Сильвио в “Выстреле” – и мы путаемся и трудимся, доискиваясь, к кому же благоволит покладистый автор. А он благоволит ко всем.
Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.
А откуда смотрит Пушкин? Сразу с обеих сторон, из ихнего и из нашего лагеря? Или, быть может, сверху, сбоку, откуда-то с третьей точки, равно удаленной от “них” и от “нас”? Во всяком случае, он подыгрывает и нашим и вашим с таким аппетитом (“Эй, казак! не рвися к бою”, “Дели-баш! не суйся к лаве”), будто науськивает их поскорее проверить в деле равные силы. Ну и, конечно, удальцы не выдерживают и несутся навстречу друг другу.
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Нет, каков автор! Он словно бы для очистки совести фыркает: я же предупреждал! – и наслаждается потехой и весело потирает руки: есть условия для работы.
Как бы в этих обстоятельствах вел себя Сильвио Пеллико? Должно, молился бы за обоих – не убивайте, а если убили, так за души, обагренные кровью. Пушкин тоже молится – за то, чтоб одолели оба соперника. Осуществись молитва Пеллико – действительность в ее нынешнем образе исчезнет, история остановится, драчуны обнимутся и всему наступит конец. Пушкинская молитва идет на потребу миру – такому, каков он есть, и состоит в пожелании ему долгих лет, доброго здоровья, боевых успехов и личного счастья. Пусть солдат воюет, царь царствует, женщина любит, монах постится, а Пушкин, пусть Пушкин на все это смотрит, обо всем этом пишет, радея за всех и воодушевляя каждого.
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!
Вероятно, никогда столько сочувствия людям не изливалось разом в одном – таком маленьком – стихотворении. Плакать хочется – до того Пушкин хорош. Но давайте на минуту представим в менее иносказательном виде и “мрачные пропасти земли”, и “заботы царской службы”. В пропастях, как всем понятно, мытарствовали тогда декабристы. Ну а в службу царю входило эти пропасти охранять. Получается, Пушкин желает тем и другим скорейшей удачи. Узнику милость, беглому – лес, царский слуга – лови и казни. Так, что ли?! Да (со вздохом) – так.
Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?
Это писалось на другой день после 14 декабря – попутно с ободряющим посланием в Сибирь. Живописуя молодого опричника, Пушкин мимоходом и ему посочувствовал, заодно с его печальными жертвами. Уж очень славный попался опричник – жаль было без рубля отпускать…
“Странное смешение в этом великолепном создании!” – жаловался на Пушкина друг Пущин. Он всегда был слишком широк для своих друзей. Общаясь со всеми, всем угождая, Пушкин каждому казался попеременно родным и чужим. Его переманивали, теребили, учили жить, ловили на слове, записывали в якобинцы, в царедворцы, в масоны, а он, по примеру прекрасных испанок, ухитрялся “с любовью набожность умильно сочетать, из-под мантильи знак условный подавать” и ускользал, как колобок, от дедушки и от бабушки.
Чей бы облик не принял Пушкин? С кем бы не нашел общий язык? “Не дай мне Бог сойти с ума”, – открещивался он для того лишь, чтобы лучше представить себя в положении сумасшедшего. Он, умевший в лице Гринева и воевать и дружить с Пугачевым, сумел войти на цыпочках в годами не мытую совесть ката и удалился восвояси с добрым словом за пазухой.
“Меня притащили под виселицу. “Не бось, не бось”, – повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить”.
Сколько застенчивости, такта, иронии, надежды и грубого здоровья – в этом коротеньком “не бось”! Такое не придумаешь. Такое можно пережить, подслушать в роковую минуту либо схватить, как Пушкин, – помощью вдохновения. Оно, кстати, согласно его взглядам, есть в первую очередь “расположение души к живейшему принятию впечатлений”.
Расположение – к принятию. Приятельство, приятность. Расположенность к первому встречному. Ко всему, что Господь ниспошлет. Ниспошлет расположенность – благосклонность – покой – и гостеприимство всей этой тишины – вдохновение…
Хуже всех отозвался о Пушкине директор лицея Е.А.Энгельгардт. Хуже всех – потому что его отзыв не лишен проницательности, несмотря на обычное в подобных суждениях профессиональное недомыслие. Но если, допустим, фразы о том, что Пушкину главное в жизни “блестеть”, что у него “совершенно поверхностный, французский ум”, отнести за счет педагогической ограниченности, то все же местами характеристика знаменитого выпускника поражает пронзительной грустью и какой-то боязливой растерянностью перед этой уникальной и загадочной аномалией. О Пушкине, о нашем Пушкине сказано:
“Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце” (1816).
Проще всего смеясь отмахнуться от напуганного директора: дескать, старый пень, Сальери, профукавший нового Моцарта, либерал и энгельгардт. Но, быть может, его смятение перед тем, “как никогда еще не бывало”, достойно послужить прологом к огромности Пушкина, который и сам довольно охотно вздыхал над сердечной неполноценностью и пожирал пространства так, как если бы желал насытить свою пустующую утробу, требующую ни много ни мало – целый мир, не имея сил остановиться, не зная причины задерживаться на чем-то одном.
Пустота – содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было, как не бывает огня без воздуха, вдоха без выдоха. Ею прежде всего обеспечивалась восприимчивость поэта, подчинявшаяся обаянию любого каприза и колорита поглощаемой торопливо картины, что поздравительной открыткой влетает в глянце: натурально! точь-в-точь какие видим в жизни! Вспомним Гоголя, беспокойно, кошмарно занятого собою, рисовавшего всё в превратном свете своего кривого носа. Пушкину не было о чем беспокоиться, Пушкин был достаточно пуст, чтобы видеть вещи как есть, не навязывая себя в произвольные фантазеры, но полнясь ими до краев и реагируя почти механически, “ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром, поет ли дева за холмом”, – благосклонно и равнодушно.
Любя всех, он никого не любил, и “никого” давало свободу кивать налево и направо – что ни кивок, то клятва в верности, упоительное свидание. Пружина этих обращений закручена им в Дон Гуане, вкладывающем всего себя (много ль надо, коли нечего вкладывать!) в каждую новую страсть – с готовностью перерождаться по подобию соблазняемого лица, так что в каждый данный момент наш изменник правдив и искренен, в соответствии с происшедшей в нем разительной переменой. Он тем исправнее и правдивее поглощает чужую душу, что ему не хватает своей начинки, что для него уподобления суть образ жизни и пропитания. Вот на наших глазах развратник расцветает тюльпаном невинности – это он высосал кровь добродетельной Доны Анны, напился, пропитался ею и, вдохновившись, говорит:
………………….Так, разврата
Я долго был покорный ученик,
Но с той поры, как вас увидел я,
Мне кажется, я весь переродился.
Вас полюбя, люблю я добродетель
И в первый раз смиренно перед ней
Дрожащие колена преклоняю.
Верьте, верьте – на самом деле страсть обратила Гуана в ангела, Пушкина в пушкинское творение. Но не очень-то увлекайтесь: перед нами вурдалак.
В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое. Потому-то пушкинский образ так лоснится вечной молодостью, свежей кровью, крепким румянцем, потому-то с неслыханной силой явлено в нем настоящее время: вся полнота бытия вместилась в момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару того, кто в сущности никем не является, ничего не помнит, не любит, а лишь, наливаясь, твердит мгновению: “ты прекрасно! (ты полно крови!) остановись!” – пока не отвалится.
На закидоны Доны Анны, сколько птичек в гуановом списке, тот с достоинством возражает: “Ни одной доныне из них я не любил”, – и ничуть не лицемерит: всё исчезло в момент охоты, кроме полноты и правды переживаемого мгновенья, оно одно лишь существует, оно сосет, оно довлеет само себе, воспринимая заветный образ, оно пройдет, и некто скажет, потягиваясь, подводя итоги с пустой зевотой:
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решась на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело…
Скорее в путь, до новой встречи, до новой пищи уму и сердцу, – “мчатся тучи, вьются тучи” (невидимкою луна)…
Не странно ли, что у Пушкина столько места отводится непогребенному телу, неприметно положенному где-то среди строк? Сперва этому случаю не придаешь значения: ну умер и умер, с кем не бывало, какой автор не убивал героя? Но речь не об этом… В “Цыганах”, например, к концу поэмы убили, похоронили двоих, и ничего особенного. Особенное начинается там, где мертвое тело смещается к центру произведения и переламывает сюжет своим ненатуральным вторжением, и вдруг оказывается, что, собственно, всё действие протекает в присутствии трупа, который, как в “Пиковой даме”, шастает по всей повести или лежит на протяжении всего “Бориса Годунова”.
Гляжу: лежит зарезанный царевич…
И хотя его вроде бы похоронят, он будет так вот лежать по ходу пьесы (“Мы видели их мертвые трупы”, – скажут в апофеозе) – в виде частых упоминаний о теле убиенного отрока, бледным эхом которого откликается Лжедимитрий, тем и страшный царю Борису, что пока этот царевич растет, тот царевич лежит, и его образ двоится.
Из страхов Бориса видно, что его терзает сомнение, не уцелел ли законный наследник, давит тяжесть греха, тревожит успех самозванца, но помимо этого, рядом с этим действует главный страх, продирающий до костей в допущении, что ему, царю, – вопреки здравому смыслу радоваться такому безделью – противостоит мертвый царевич, пребывающий в затянувшемся зарезанном состоянии, которое само по себе заключает опасность подтачивающей Борисову династию язвы. Именно в эту точку бьет умный Шуйский, уверяя и ужасая царя, что Димитрий мертв, да так мертв, что от его длительной, выставленной напоказ мертвизны становится нехорошо не одному Борису.
Три дня
Я труп его в соборе посещал,
Всем Угличем туда сопровожденный.
Вокруг его тринадцать тел лежало,
Растерзанных народом, и по ним
Уж тление приметно проступало,
Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих…
Двусмысленное определение “спит” не возвращает умершего к жизни, но тормозит и гальванизирует труп в заданной позиции, наделенной способностью двигать и управлять событиями, выворачивая с корнями пласты исторического бытия. Оно вызвано к развитию алчным, нечистым томлением духа, рыщущего вблизи притягательного кадавра и спроваживающего следом за ним громадное царство – с лица земли в кратер могилы. Мощи царевича не знают успокоения. В них признаки смерти раздражены до жуткой, сверхъестественной свежести незаживляемого годами укуса, сочащегося кровью по капле, пока она наконец не хлынет изо рта и ушей упившегося Бориса и не затопит страну разливом смуты.
От мальчика, кровоточащего в Угличе, тянется след по сочинениям Пушкина – в первую очередь к воротам Марка Якубовича, у сына которого, после кончины незнакомого гостя, появился похожий симптом:
К Якубовичу калуер приходит, —
Посмотрел на ребенка и молвил:
“Сын твой болен опасною болезнью;
Посмотри на белую его шею:
Видишь ты кровавую ранку?
Это зуб вурдалака, поверь мне”.
Вся деревня за старцем калуером
Отправилась тотчас на кладбище;
Там могилу прохожего разрыли,
Видят, – труп румяный и свежий, —
Ногти выросли, как вороньи когти,
А лицо обросло бородою,
Алой кровью вымазаны губы, —
Полна крови глубокая могила.
Бедный Марко колом замахнулся,
Но мертвец завизжал и проворно
Из могилы в лес бегом пустился.
Теперь оглянемся: вон там валяется, и здесь, и тут… Прохожий гость подкладывает подарки то в один дом, то в другой. Но – чудное дело – появление трупа вносит энергию в пушкинский текст, точно в жаркую печь подбросили охапку березовых дров. “Постой… при мертвом!.. что нам делать с ним?” – вопрошает Лаура Гуана, что, едва приехав, закалывает у ее постели соперника и, едва заколов, припадает к несколько ошарашенной такой переменой женщине. Как – что делать?! – пусть лежит, пусть присутствует: при мертвом всё происходит куда веселее, лихорадочнее, интереснее. При мертвом Гуан ласкает Лауру, при мертвом же затевает интригу с неприступной Доной Анной, которая, не будь тут гроба, возможно осталась бы незаинтригованной. Покойник у Пушкина служит если не всегда источником действия, то его катализатором, в соседстве с которым оно стремительно набирает силу и скорость. Так тело Ленского, сраженного другом, стимулирует процесс превращения, в ходе которого Онегин с Татьяной радикально поменялись ролями, да и вся динамика жизни на этой смерти много выигрывает.
Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели, как стрела.
Рассуждая гипотетически, трупы в пушкинском обиходе представляют собой первообраз неистощимого душевного вакуума, толкавшего автора по пути всё новых и новых запечатлений и занявшего при гении место творческого негатива. Поэтому, в частности, его мертвецы совсем не призрачны, не замогильны, но до мерзости телесны, являя форму оболочки того, кто в сущности отсутствует. Жесты их выглядят автоматическими, заводными, словно у роботов.
И мужик окно захлопнул:
Гостя голого узнав,
Так и обмер: “Чтоб ты лопнул!”
Прошептал он, задрожав.
С перепугу можно подумать, это назойливый критик Писарев (безвременно утонувший) приходил стучаться к Пушкину с предложением вместо поэзии заняться чем-нибудь полезным. Но факты говорят обратное. Голый гость, обреченный скитаться “за могилой и крестом”, ближе тому, кто целый век был одержим бесцельным скольжением по раскинувшейся равнине, которую непременно следует всю объехать и описать, чем возбуждал иногда у чутких целомудренных натур необъяснимую гадливость. Писарев, заодно с Энгельгардтом ужаснувшийся вопиющей пушкинской бессодержательности, голизне, пустоутробию, мотивировал свое по-детски непосредственное ощущение с помощью притянутых за уши учебников химии, физиологии и других полезных наук. Но, сдается, основная причина дикой писаревской неприязни коренилась в иррациональном испуге, который порою внушает Пушкин как ни один поэт колеблющийся в читательском восприятии – от гиганта первой марки до полного ничтожества.
В результате на детский вопрос, кто же все-таки периодически стучится “под окном и у ворот”? – правильнее ответить: – Пушкин…
Строя по Пушкину модель мироздания (подобно тому как ее рисовали по Птоломею или по Кеплеру), необходимо в середине земли предусмотреть этот вечный двигатель:
…Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный…
……………………………..
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
Все они – нетленный Димитрий, разбухший утопленник, красногубый вампир, качающаяся, как грузик, царевна – несмотря на разность окраски, представляют вариации одной руководящей идеи – неиссякающего мертвеца, конденсированной смерти. Здесь проскальзывает что-то от собственной философской оглядки Пушкина, хотя она, как всегда, выливается в скромную, прописную мораль. Пушкинский лозунг: “И пусть у гробового входа…” содержит не только по закону контраста всем приятное представление о жизненном круговороте, сулящем массу удовольствий, но и гибельное условие, при котором эта игра в кошки-мышки достигает величайшего артистизма. “Гробовой вход” (или “выход”) принимает характер жерла, откуда (куда) с бешеной силой устремляется вихрь действительности, и чем ближе к нам, чем больше мрачный полюс небытия, тем мы неистовее, полноценнее и художественнее проводим эти часы, получившие титул: “Пир во время чумы”.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?