Текст книги "В тени Гоголя"
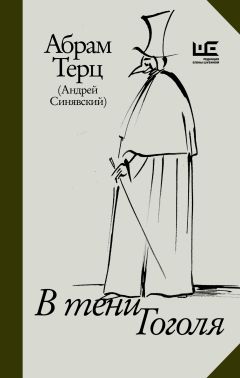
Автор книги: Андрей Синявский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Но Гоголь сложен и темен, запутан и неприятен не за счет посторонних к его писательской личности качеств, не тем, что носил в душе что-то от Хлестакова, от Чичикова или как человек был замешан в чем-то недобром. Подобные раскопки мало что открывают в главном – в его творческой природе, которая сама по себе уже способна поставить в тупик. Корень всех зол со множеством его разветвлений следует, очевидно, разыскивать там, где действительно пролегало русло его жизни и личности, – в писательстве, в натуре художника, чьи несообразность, нелепость, отвратность могли служить выражением подземного плана и замысла, нечеловеческого порядка, вмененного в закон, в абсолют, в главную задачу характера и биографии Гоголя.
Несоответствие его портретов или его психологии его гению – в значительной мере мнимое. Мало кто был настолько целен внешне и внутренне, человечески и творчески, как Гоголь. Притом необходимо учесть, что по натуре своей, по характеру дарования и конкретным заданиям, которые он себе предписал, Гоголь был и неизмеримо обширнее прочих своих современников и влекся к соединению в своем гении всех многосторонних способностей, обязанностей и полномочий. Всё это в нем боролось, спорило, выпирало наружу, но всё это и вязалось узлом, подчиненное мании творчества, носившей редкую в писательской практике форму религиозной аскезы и воинской дисциплины. В этом маленьком, болезненном и несимпатичном на взгляд человечке жил Тарас Бульба, эпический богатырь, средневековый рыцарь, несокрушимый духовно и, быть может, поэтому принявший уродливый образ. Не то чтобы всё ушло в дух, а для тела ничего не осталось; Гоголь и телесно, житейски на одно нацелен – на подвиг, для свершения которого столько, однако, потребовалось ему в себе переделать, разъять, соединить и укрыть, что это не могло не прорезаться в его лице и составе. Гладкий молодой человек с победоносным коком, завитым по моде у столичного куафера, еще только вышел на бой, а уже преуспел и доволен, смотрит добрячком, петушком, франтоватым “ратником света”. Но тот испанский гранд, стареющий конквистадор, что помалкивает загадочно на позднейших портретах, прошедший огонь и воду, изведавший поражение, страх смерти, стыд бессилия, знает, как много нужно обдумать, превзойти, утаить, чтобы из великого подвига вышло что-нибудь путное.
“Подвиги” – этим высокопарным словом Гоголь определял свой образ деятельности на протяжении всего жизненного пути. Едва оперившись, он уже сообщал матери из Петербурга (19 декабря 1830 г.):
…Я, посвятивший себя всего пользе, обрабатывающий себя в тишине для благородных подвигов…
С той поры любое занятие пойдет у него под таким, тайным или явным, девизом: сочинительство, научные изыскания, преподавание в университете, нравственная обработка себя. Даже редактирование старых своих творений для нового издания Гоголь называл не иначе, как подвигами, и обижался, что никто из друзей почему-то их не заметил. Провал “Переписки с друзьями” также внезапно присваивает громкое наименование подвига (“Нелегко было также решиться и на подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние…” – В.Г.Белинскому, 20 июня н. ст. 1847 г. Франкфурт). Подвиг позора, подвиг сожжения неудавшихся рукописей, подвиг скитания по европейским курортам… Это было, конечно, нелепо, комично, но в том-то и суть, что всё, что ни писал и ни делал Гоголь, являлось, согласно его внутреннему голосу, либо подвигом, либо приготовлением к таковому. Как для Пушкина всякая поэтическая работа – безделица, так для Гоголя – подвиг.
По-видимому, сама художническая природа его была к тому расположена, чтобы слово обращать в дело, а дело в подвиг. Словесность уподоблялась геройству, оттого что за нее брался писатель, повседневный труд свой и быт обставлявший как рыцарское служение с вытекавшими отсюда последствиями – прежде всего с необычайно развитым сознанием цели в своем поведении и судьбе. Позднейшее выдвижение на первое место в искусстве нравственных и утилитарных задач довело до конца черту, вообще присущую Гоголю с его целеустремленным характером и подчинением всех слагаемых своей жизни этому единому делу. Не без чувства внутреннего сродства, вероятно, рисовал он в своих лекциях по всеобщей истории, как образовалось “рыцарство, обнявшее всю Европу; как возникли орденские общества, осудившие себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть верными одной цели, и произошел самый сильнорелигиозный христианский век…” (“О преподавании всеобщей истории”, 1833). Гоголь принадлежал к подобному, пускай не существовавшему уже ордену, причем высшим знаком этой принадлежности была целенаправленность, проявленная им с небывалой силой в писательстве. Она-то, ежечасно напоминавшая ему, зачем он живет, и не дававшая отпуска, звавшая непрестанно к перу, а затем, через перо, потребовавшая внесения цели во всеобщее бытие, назначившая уделом Гоголя, его специфическим даром, сражаться с пошлостью, именно потому, что пошлость в его изложении есть в первую очередь бесцельная жизнь, неподвижность существователей, она-то и заставляла рассматривать писательский труд свой как рыцарский долг и подвиг и видеть в собственной личности создание исключительное даже по сравнению с прославленными именами писателей.
Из всех писателей, которых мне ни случалось читать биографии, я еще не встретил ни одного, кто бы так упрямо преследовал раз избранный предмет. Эту твердость мою я чту знаком Божьей милости к себе (П.А.Плетневу, 9 мая н. ст. 1847 г. Неаполь).
Гоголь был прав: все прочие писатели, помимо своих сочинений, худо ли, бедно, но еще и жили вдобавок, Гоголь – только писал. Жизнь имела для него значение и интерес только в той мере, в какой она служила его работе, и только в такой мере была нужна ему жизнь. В своей преданности единственной цели Гоголь разорвал привычные узы, связывающие его с человечеством, и, пожалуй, именно это наложило на него такой страшный, нечеловеческий отпечаток – маниака, обреченного какой-то одной страсти, погруженного в одну, недоступную думу.
Процесс его писательского отъединения и отщепенства обострился с момента возобновления работы над “Мертвыми душами” в 1836 году, когда отъезд за границу даже и физически выделил его из общего круга, из среды живущих, и поставил в крайнюю, отрешенную от мира позицию добровольного изгнанника и скитающегося затворника. Это было как бы вторым посвящением и пострижением себя в монашеский сан и рыцарский орден писательства. Отныне Гоголь живет замурованным в собственном теле, как в крепости, всё глубже и глубже уходя в себя. Отныне понятие цели приобретает для него провиденциальный характер – применительно и к собственной личности, и ко всему человечеству, ко всему безбрежному морю пошлых существователей.
“Мертвые души” посвящены совсем не типам русских помещиков и не премудрым похождениям Чичикова, но подземной и всеобъемлющей мысли Гоголя о цели и бесцельности жизни. Потому они и были написаны, что сам он тогда, в работе над ними, сделался сопричастным этой идее в каком-то очень кровном и личном смысле. Притом она развивалась и решалась им в плане всеобщего бытия, мирового существования в целом, представленная ужасом жизни, жизни как таковой, в ее нормальном, повседневном течении, которое никуда не ведет, не волнуется снедающим автора вопросом “зачем?” и поэтому не имеет цены, тождественное смерти. Из своего удаления, из своей прекрасной Италии, обращенной на время в цитадель поэзии и собственной, Гоголя, столь наполненной смыслом, целеустремленной работы, Гоголь обвел Россию и весь мир взглядом василиска, и всё живое померкло и умерло в его запечатлении. “Мертвые души” – это поэма о том, что сама природа и душа мира мертвы, доколе они, как Гоголь, не проникнуты сознанием высшего назначения. Весь ужас и вся беспросветная мгла его поэмы в том и состоит, что в мертвецы зачисляется всякий человек, какой только ни встретится нам на дороге, любого класса и звания, притом не отягощенный сверх меры какими-либо пороками, но просто заурядный, обыкновенный человек, взятый в разнообразии даже не недостатков, но темпераментов, свойств и портретов рода людского. Единственное уязвимое место, сводящее человека на нет, – пошлость, то есть бесцельность и бессмысленность существования. Гоголь особо подчеркивал, что “Мертвые души” поразили и испугали читателей не уродствами и болезнями России, выставленными на обозрение, но всеобщей, непроходимой пошлостью человеческой, в изображении которой, считал он, заключались преимущественная сила и направление его художественного таланта. Пошлость в “Мертвых душах” принимает устрашающий образ универсальной стихии жизни, которая равнозначна смерти и покрывает собою равномерно и равнодушно всё живущее на земле.
В заметках 1846 г., касающихся первого тома “Мертвых душ”, обдумывая переиздание, Гоголь очертил скрытую символику поэмы, носившую, как мы убеждаемся, глобальное содержание с центральной идеей бессмысленности и бесцельности бытия. Губернский город NN служил прообразом всего человечества, земного существования в целом, представленного разнообразными видами бесцельности (или бездельности), смыкавшими мировую жизнь с процессом омертвения мира.
Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота. Пустословие. Сплетни, перешедшие пределы, как всё это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени. Как люди неглупые доходят до делания совершенных глупостей.
…Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. – Еще сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни.
Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая скрыта в том тайна. Не ужасное ли это явленье? Жизнь бунтующая, праздная – не страшно ли великое она явленье…
…Весь город со всем вихрем сплетней – преобразование (очевидно – прообразование. – А.Т.) бездельности жизни всего человечества в массе…
Как низвести все мира безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?
Для [этого] включить все сходства и внести постепенный ход.
Строки эти яснее прорисовывают контуры поэмы и непосредственно ложатся на текст ее последних глав, посвященных городским сплетням и слухам о Чичикове, городскому безделью разного рода. Всё это увенчивается смертью и похоронами прокурора. Последний, напомним, человек безобидный и тихий, представлен как эталон человеческой жизни вообще, не оставляющей после себя никакого следа, ни к чему не ведущей и ничем не оправданной. Густые брови прокурора, служащие его единственной приметой и как бы призванием в жизни, позволяют автору самый облик покойного обратить в недоуменный вопрос о цели существования всего человеческого рода.
А между тем появленье смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна всё еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал: зачем он умер, или зачем жил, – об этом один Бог ведает.
Авторским размышлениям вторит сентенция Чичикова при виде похоронной процессии:
Вот, прокурор! жил-жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так, на поверку, у тебя всего только и было, что густые брови.
Столь жестокий приговор, вынесенный не одному прокурору, но всему человечеству, прожившему бесцельную жизнь, мог произнести лишь писатель, для которого проблема целесообразного бытия сделалась первостепенной и вполне конкретной задачей повседневного поведения, который и свою писательскую стезю обратил в неуклонное ее исполнение и искал такого же ясного и спасительного исхода для всех. В этом свете виднее становится и почему, например, Гоголь отдал предпочтение Чичикову, проявлявшему, при всей своей нравственной недостаточности, идеальную твердость в преследовании и достижении избранного однажды предмета, и откуда, в нарушение безрадостной картины действительности, взялась целеустремленная тройка-Русь в последних строфах поэмы. Автор безотрадной картины, сотворяя ее, вдохновлялся присутствием означенной цели в собственном творческом опыте, в ходе работы над книгой, всё больше принимавшей черты какой-то универсальной шарады, от решения которой зависела судьба человечества.
“Мертвые души” писались совсем не так, как пишутся обычные книги. Они осуществлялись как подвиг гордого отречения от всех человеческих похотей во имя одной всепопирающей мысли. Автору, “воспитанному суровой внутренней жизнью и живительной трезвостью уединения” (как рекомендовал он себя в заключение первого тома), его книга раскрылась как искус и курс прохождения жизни по истинному пути. По мере написания одной главы за другой Гоголь возрастал в собственном целесообразном сознании и тем беспощаднее преследовал и казнил “пошлость пошлого человека”, вступая с целым светом в жестокое единоборство. Он так уничтожающе трактовал и оценивал эту мертвую бесчувственность жизни, оттого что в каждодневном посте и подвиге создания был живым указателем упорного приближения к цели и с высоты положения смотрел на мировое ничтожество. Всеобщую пошлость в “Мертвых душах” Гоголь не срисовывал с натуры, он проецировал ее из сознания собственного превосходства над жизнью в ее массовой, кругосветной, природной (в том числе и своей низменно-греховной) материи. У действительности он заимствовал лишь рабочий материал, возводя постройку на базе своей, отрясающей прах и рвущейся в грядущее личности. Его поэма в значительной части своей написана о том, как она пишется – в богатырских усилиях, в строгой сосредоточенности, в нацеленном на неуклонное восхождение бдении. Автор самого себя обратил в строительную площадку, чтобы из мрака и падали вознести к небесам новый монумент человека. Лирические возгласы, диссонирующие с объективной картиной мира, здесь же представленного в страшной неприглядности, расходятся с буквой, но отнюдь не с духом поэмы. Дух этот – целеустремленная воля творческой энергии автора, созидающая колоссальное здание и вопиющая о смерти живых, для того чтобы в скором будущем те восстали из праха вместе с завершением книги, с достижением цели…
Но здесь же “Мертвые души” ему подстраивали ловушку. Гоголь слишком много вложил в них, слишком далеко зашел, следуя за ними, чтобы отступиться от цели, когда она отдалилась на неопределенное расстояние вместе с окончанием второго тома, за которым еще простирался нехоженым полем третий том. Более двух третей своей творческой жизни, говоря округленно, Гоголь прошел рука об руку с “Мертвыми душами”. Шесть с лишним лет – больше, чем все прежние его сочинения, взятые вместе, и неизмеримо больше сил – съел у него первый том, чтобы после этого еще десять лет, не подвигаясь ни на шаг, бился он над вторым. Это не было вопросом чести или какой-то художественной идеи, ждущей своего воплощения. Вопрос шел о жизни о смерти писателя, отдавшего себя без остатка этой книге, вдруг покинувшей его посреди дороги, одинокого, истощенного, окруженного “мертвыми душами”, которые он вызвал из мглы, готовя всемирное чудо. Повернуть назад, сойти с трассы Гоголь уже не мог. Ко времени, когда был окончен первый том, от него уже ничего не осталось, кроме голой, единонаправленной воли дописать эту выпившую его душу и жизнь, недостижимую книгу. Он уперся в продолжение поэмы, как в стену. Камень строителя, поставленный во главу угла, стал для него камнем преткновения.
Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу мне не нужно (С.Т.Аксакову, 5 марта ст. ст. 1841 г. Рим).
Процесс истощения творческой личности Гоголя, начавшийся в ходе создания первого тома и отозвавшийся внешне во множестве помех и преград, тормозивших работу, обращавших ее подчас в наказание и насилие над собой, лишь способствовал закалке его целенаправленной воли, на которую теперь, да на Бога, возлагал он все надежды. Гоголь как-то сжимается, утверждается и затвердевает в заскорузлом своем упорстве, в фанатизме, который впоследствии приписали религиозной его настроенности, хотя за несколько лет до появления таковой он стал уже настоящим фанатиком в необычном, обращенном к писательской его миссии, смысле. Повседневный труд его действительно принимает черты подвижнического служения, иссушающего поста, испытания, в котором все человеческие потребности сведены до минимума, всё лишнее, не относящееся непосредственно к его делу, подавлено и отброшено, либо удивительным образом повернуто этому делу в подмогу. Въедливый умелец-всезнайка, готовый всякую дрянь взять на учет и подыскать ей надлежащее, полезное употребление, распоясавшийся позднее в его морализаторской и хозяйственной программе, вырабатывался здесь, в творческой лаборатории Гоголя, в психологии художника, приучавшегося на скудном пайке к строжайшей регламентации. Здесь, изгрызая перо, валясь с ног от усталости, набирался он полезных советов: молодой хозяйке – экономить добро, распределяя всю сумму на равные кучки, больному – использовать с толком свои недуги, приятелю – все неприятности, сыплющиеся на человека. Именно тогда, в работе над “Мертвыми душами”, в школе целесообразного самовоспитания окончательно сформировался и развернулся этот странный характер, ставивший в тупик друзей и исследователей, обнаруживающий разом наклонности деспота и смиреннейшего из смертных, хищного скряги и щедрого благотворителя, скрытного схимника и любителя публичных признаний, характер, озадачивающий попеременно своей изворотливостью, прямотою, змеиной мудростью, детской доверчивостью, криводушием и бесстрашием, – тихий вруша, режущий правду в глаза, мелкий капризник, стоически претерпевающий душевные и телесные пытки, самовлюбленный эгоцентрист, жертвующий непрестанно собою… Друзья кидались из благоговейного трепета в дрожь оторопи и отвращения, какое возбуждал он взрывами своей придирчивой неуживчивости; посмертные оценки его нравственной личности также колеблются между полюсами, на которые равно дает он повод, – то ли праведник и святой, всю жизнь боровшийся с чортом, то ли сам чорт в человеческом образе.
…Гоголь для меня не человек… Я признаю Гоголя святым…
(С.Т.Аксаков)
Никогда более страшного человека… подобия человеческого… не приходило на нашу землю.
(В.В.Розанов)
Не святой он, не человек и не чорт, одно слово – Гоголь (нужно же было имя такое придумать – Гоголь!) – художник, всецело отдавший себя самоубийственному своему назначению, подключающий в роли мотора то одну, то другую усовершенствованную модель поведения, по существу не менявшую природы его – не характера уже, не таланта, но забывшей счет поражениям, сосредоточенной одержимости. Разноречивость оценок, которые вызывает на свою голову Гоголь, объясняется не столько изменчивостью его нрава (достаточно постоянного) или совмещением противоположных свойств в одном лице (сжавшихся в точку напора), сколько гибкостью психологической и житейской его тактики, тщательно разработанной и учитывающей всегда степень полезности, целесообразности в данный момент того или иного поступка. Ему ли заботиться, как отнесутся к очередной его выходке люди, в какую сторону истолкуют огорашивающие слова и обличия, если самый остаток жизни надлежит прожить только затем, чтобы что-то написать, если всё теперь идет у него по самому крупному счету – смерти и книги… Гоголь не разбрасывается, не проявляет широты натуры и не меняется; он целен, сдержан и замкнут в своем внутреннем “я”, он даже однообразен в характере своих ежедневных переживаний. Но разнообразны и виртуозны его выдумки и ухищрения, долженствующие оказать ему услугу и подтолкнуть к перу, донельзя зыбок мир внешних и внутренних обстоятельств, от которых он творчески зависим, которые в любую минуту могут его вознести или погубить. Что-то заранее здесь рассчитать невозможно, вчерашний день просветления сегодня способен разразиться болезнью, болезнь – послужить тоннелем к новому свету. Но, прилагая титанические усилия привести непредсказуемый процесс разрушения в строгую колею созидательного труда, Гоголь всё что-то рассчитывает, мастерит, изобретает; образ его жизни походит на погоню за призраком, принимая наружно безумный и фантастический рисунок. Версия сумасшествия Гоголя, представляется мне, родилась в результате стороннего, извне, наблюдения над действиями его, глубоко осмысленными и мотивированными, направленными, однако, не наружу – что подумают об этом люди, но внутрь, к тому недоступному “я”, как торжественно нарекал его Гоголь – “который есть я во глубине души моей”.
Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы очевидно ему помешали. Он долго, не зря, смотрел на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся… (С.Т.Аксаков. “История моего знакомства с Гоголем”)
Сцена, датированная 1839 годом, – под стать “Запискам сумасшедшего”. Но кто знает – как для вечно коченевших конечностей его служили шерстяные чулки, так, может быть, тот кокошник или подобие короны понадобились для прилива вдохновенной энергии к голове? Такого рода устройствам и техническим приспособлениям, споспешествующим работе, Гоголь тогда придавал исключительное значение. 16 мая 1838 г. он из Рима в Париж пишет своему приятелю Данилевскому соболезнующее письмо по поводу внезапной кончины матери последнего, которую Гоголь нежно любил. Это не помешало ему в том же письме навязываться с очередной рационализацией своего творческого процесса:
Кстати, вещи, о которых я просил тебя, ты теперь можешь прислать через Pavе́, он мне их привезет в самый Рим. Помоги ему, если можешь, выбрать или заказать для меня парик. Хочу сбрить волоса – на этот раз не для того, чтобы росли волоса, но собственно для головы, не поможет ли это испарениям, а вместе с ними вдохновению испаряться сильнее. Тупеет мое вдохновение, голова часто покрыта тяжелым облаком, который я должен беспрестанно стараться рассеивать, а между тем мне так много еще нужно сделать. – Есть парики нового изобретения, которые приходятся на всякую голову, деланные не с железными пружинами, а с гумиластическими.
Подобные причуды и выдумки, не считающиеся с существованием ближнего, повинующиеся странным инстинктам, порою оскорбительным во внешнем своем проявлении, игнорирующим жизнь своим отсутствующим видом, сообщают облику Гоголя сходство с каким-то насекомым, не допускающим нас до контакта с собою и подчиненным заказанной нам, жуткой целесообразности. Словно, прости Господи, какой-нибудь тарантул, Гоголь живет внеположенными нашему разуму и морали соображениями, озабоченный своими личинками, своей глубокой норой, распространяя вокруг атмосферу удушливой отчужденности. Мало кто так умел, подчас не желая того, обижать людей, в отношениях с которыми у него примешивалось неизменно что-то тяжелое, неловкое. Гоголь знал за собою эту черту и, случалось, горько жаловался и осуждал себя, иной раз печатно, как в предисловии к “Переписке с друзьями”:
Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленные. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего.
Растолковать этот казус до конца он так и не смог. Чаще всего, касаясь щекотливой темы причиненных им оскорблений, Гоголь начинал причитать о каком-то роковом неумении ясно выражать свои мысли, отчего происходили натянутость, игра в молчанку и различного рода конфликты взаимного непонимания, широко затрагивающие не только его личные отношения, но и писательскую его репутацию. Объясняться задним числом, доказывая, что он совсем не то имел в виду сказать, как ему приписывают на основании неудачно сказанных слов, вошло у него в обычай и повлекло появление специального, разъяснительного жанра, начиная от “Театрального разъезда” и кончая “Авторской исповедью”. Как будто быть непонятым, криво истолкованным было уделом Гоголя, и никто из писателей не брал столько раз назад свои слова, не запутывал так и не заметал следы. При всем том не раз давал он понять друзьям, что многие недоразумения просто необходимы ему и имеют тот же, что его творения, корень, что странность его составляет удел гения.
Когда-нибудь в обоюдной встрече, может быть, на меня найдет такое расположение, что слова мои потекут, и я с чистой откровенностью ребенка поведаю состояние души моей, причинившей многое вольное и невольное. О! ты должен знать, что тот, кто создан сколько-нибудь творить во глубине души, жить и дышать своими твореньями, тот должен быть странен во многом! Боже! другому человеку, чтобы оправдать себя, достаточно двух слов, а ему нужны целые страницы. Как это тягостно иногда! (М.П.Погодину, 28 декабря н. ст. 1840 г. Рим)
Принимая довод его за рабочую гипотезу, соблазнительно представить, что Гоголь явил собою в крайней форме некое общее свойство, присущее поэту и гению, – невыразимость того, что им владеет, с проистекающими отсюда странными повадками, неумением вести себя и нанесением ближним своим непоправимых обид и увечий. Может быть, именно с этим сопряжены и назойливые попытки его объясниться по всем статьям с предельной откровенностью, что так странно звучало в контексте его замкнутого образа жизни, и сама обидная стилистика этих судорожных объяснений, представлявшая нелепую смесь нарочитой высокопарности, многозначительной темноты и наянливой рассудительности. Нужно же было ему как-то высказать клубившуюся в нем невыразимую силу, о существе которой не умел он дать правдоподобный отчет и всё подыскивал ей разумные основания. Гоголь уверял, что Бог от него хочет то-то и то-то, и получалось настолько плоско или фальшиво, что всем становилось неловко за Гоголя, от которого не мог потребовать Бог ничего похожего. Короче, он сам не знал толком, что ему надо, понимая, что что́-то всё же в нем есть…
Гений вообще многого не знает о себе, подозревая лишь общую сумму распирающего его сознание дара, и не умеет рассказать об этом сколько-нибудь доступно. Чем доступнее и понятнее принимается он себя изъяснять, тем дальше он от правды и тем для других опаснее. Другие видят: – гений! и идут за словами его в огонь, на плаху, на подлость. А он, окажется после, просто не сумел выразиться с точностью, и все его слова нужно понимать совсем не в том смысле… Не здесь ли берет исток демоническая версия гения? Не то чтобы им на самом деле непременно владел какой-то злой демон, но – в обозначение его невыразимости и непричастности к жизни. “А он, мятежный, просит бури…” Не бури он просит – домой. Он ходит по свету и всех задевает и обижает, живя как-то мимо действительности. Всю жизнь он, взятый за горло переполняющей его страстью, готовится к одному – к встрече со смертью. Что ему наши суды, нарекания! У него своя компания, а у нас своя. Не будучи злодеем, негодяем, для чего потребовались бы от него лежащие в общей жизни усилия, он в то же время редко дарит нам образ благонамеренного и добропорядочного человека. В нем явственно проступают черты басурманина, чужака (“демон” Лермонтова, “колдун” Гоголя). Не характер, а какой-то провал, туман, отсебятина. Для начала еще старается вести себя как все. Знакомится по порядку с Пушкиным, с Жуковским (те тоже себе на уме), чинно пьет чай, острит, ищет друзей, женщин, чтобы зажечься об них, прикурить, поразведать. За ним – как на пути полководца – развалины: разбитые очаги, беспризорные дети, испорченные соприкосновением с ним друзья и подруги. Потом они всю жизнь пишут записки о “необъяснимых странностях его духа” (С.Т.Аксаков). Кого он осчастливил? к кому отнесся всерьез? Если собственный жребий, как правило, ему не удается освоить и он весь век добивается собраться с умом и ответить: зачем я здесь? кто я такой?..
Но делая скидку на “гения”, на “творческую натуру”, следует признать, что Гоголь своими странностями превосходил остальных, известных в этом роде поэтов. “Нечеловеческое” в нем проявлялось чуть ли не на всяком шагу, причем в каком-то греховном, омерзительном и темном растворе, как если бы сама сердцевина души была у него “не наша”. Все-таки странно: Пушкин, распутный, скандальный, почти животный, – внутри светел; Гоголь – постный, богомольный, целомудренный, добродетельный – внутри темен – не то что темен – черен, чернее его трудно сыскать человека. Уже в лице его проступает эта идущая снизу, сгущающаяся в глубину, к недрам души, темнота. Пока он еще писал, смеялся, чертыхался, это не было так разительно, но едва он заглох и притих, перейдя на душевную пользу и законное благочестие, нутряная тьма так и поперла из него, словно добро и молитва, творимые им, вменялись ему в грех и шли во вред душе, почерневшей, как иссохший колодец. Измерять тот колодец на всю глубину нет ни средств, ни способностей. Гоголь, я уверен, как пани Катерина в “Страшной мести”, не знал и десятой доли того, что знала его душа. Но это огромное, подспудное знание давило его и подавало весть о себе. Оттуда слышались его вопли, его муки и ужасы. Как будто давным-давно, может быть еще до рождения, он совершил тяжелейший грех на земле и потом уже целую жизнь не мог его замолить. Не об этом ли гласит “Завещание”?
Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!
Мнится при всем том, что если и был он на дне своем каким-то “великим грешником”, то неотделимо от своего же “великого подвига”, провалившегося черной дырой, что и там, на девяти десятых неосмысленного пространства души, курсировал в нем и строил козни художник, чей грех он стремился покрыть художественным же расчетом, и оттого, что сорвалось это дело, та душевная чернота его снедала… Может быть, после, в конце изучения, нам удастся сказать об этом предмете что-то более определенное. А покамест продолжим обзор поверхности рельефа. Гоголь – как горная дорога, по которой можно петлять и, проделав несчетное число поворотов, очутиться всего на несколько метров ниже или выше пройденного уровня и уже насытиться видами и риском скатиться в расселину с извилистого пути. Гоголь выматывает. Зато какие ландшафты! Зато любой виток в нем невероятен, загадочен, всякий выступ и перевал интересен, – имея дело с Гоголем, никогда не знаешь заранее, чем он еще удивит, с ним не соскучишься, в нем хорошо… (Нужно ли добавлять, что и густейшие тени, какие он бросает повсюду, служат верным убежищем, в них способно скрываться, копить силы, отсиживаться, лелеять безумные замыслы – ни зги не видно!..)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































