Текст книги "Год волка"
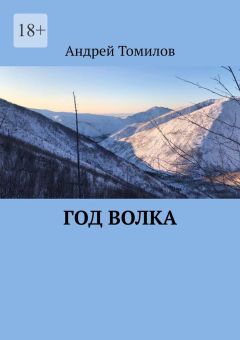
Автор книги: Андрей Томилов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
***
Старик просунул руки в рукава и медленно, спокойно ощупал хворост. Он понимает, что дров для костра очень мало. Дети и не могли собрать много, они же дети. И такие дрова…, это просто хворост, он пропыхивает в костре так быстро, оставляет после себя такие мелкие угли, которые быстро остывают и превращаются в холодный пепел. Холодный, никчёмный пепел.
Он снова ощупывает охапку дров, оглаживает её старческой, дряблой ладонью. Старик понимает, что этих дров ему не хватит, чтобы пережить приближающуюся ночь.
Со стороны стойбища доносятся голоса. Кто-то требует трогать, торопит людей, напоминает, что впереди ночь и до её наступления нужно успеть выйти на тропу, чтобы собаки и при свете звёзд не сбились с пути. Нужно успеть. Успеть.
Дёрнулись и заскрипели по морозному снегу первые нарты. – Гой! Гой! Гой-го-го… – закричал погонщик. Старик представил, как погонщик бежит рядом с гружёной нартой и погоняет собак, как покрикивает на них и свистит, помахивает над их головами длинным, тонким шестом, – хореем. Дёрнулась и заскрипела вторая повозка, третья. Собаки взлаивают и напрягают все силы, чтобы начать движение, чтобы взять разбег. – Гой! Гой-го-го… – доносилось уже из-за первого поворота реки. Старик чётко, до мельчайших подробностей представлял, как движется кочевье. Вот первый поворот, потом длинное плёсо реки, которое всегда замерзает ровно, без торосов, по нему собаки наберут хорошую скорость. Задняя упряжка, двигаясь по укатанной тропе, начнёт поджимать передних и начнётся гонка. Потом будет крутой поворот реки влево, там нужно придержать собак, чтобы не опрокинуть нарту на крутом вираже. Дальше снова ровное, длинное плёсо.
Старик подложил в костёр несколько сухих палок. Прислушивался. Прислушивался. Но скрип полозьев по снегу удалился и смолк. Только лёгкий треск обгорающего хвороста, и ни одного лишнего звука, ни одного.
Какое-то отдалённое чувство жалости к себе подступило и стало трудно, почти невозможно дышать. Возникла мысль о том, что было бы хорошо вот именно теперь, прямо теперь и умереть, пока ещё теплится костёр, пока ещё есть хворост. Хорошо бы прямо сейчас…. Но спазм отступил, грудь расправилась и снова дышалось.
Тут же, как только стало легче дышать, как только подумалось, что может ещё и не время умирать, сразу подумалось, что… вдруг сын вернётся. Вдруг вернётся. Подбежит, подхвати его на руки и торопливо, почти бегом, утащит и усадит в нарты, прямо поверх увязанной поклажи. Усадит его, своего отца, ставшего старым, совсем старым и бесполезным для семьи, усадит и погонит собак. Он бы сумел удержаться, он бы не упал. А сын бы бежал сбоку и подгонял собак, подгонял, подгонял, чтобы не отстать от всего кочевья.
И когда бы они догнали других кочевников, все бы удивились, что старик снова здесь, снова вместе с семьёй. Удивились бы и обрадовались. Конечно, обрадовались бы. Наверное, обрадовались бы, ведь он так мало съедает пищи. От него почти нет никакого вреда для семьи, правда, и пользы нет. Совсем нет никакой пользы.
Мэмыл вспомнил, как он оставил на таком же берегу своего отца. Такова правда жизни, таков закон жизни: приходит время, и старики становятся обузой для семьи, обузой для целого рода. И так уж сложилось, что старики сами уходят, всякими способами уходят, кто-то уплывает на маленьком плоту, если это случается летом. Кто-то уходит в тундру, если несут ноги, кто-то, как теперь Мэмыл, остаётся на берегу зимней реки.
У всей семьи, у всего рода в памяти он так и останется сидящим на высоком, заснеженном берегу, и будет сидеть там, на берегу до тех пор, пока его будут помнить. А кто-то будет помниться плывущим на плоту, всё плывёт, плывёт, уносимый течением в безбрежную даль. Кто-то вспоминается уходящим в тундру: шагает, шагает, шагает. Пока его помнят, он всё шагает.
В тот год по плотному весеннему снегу мимо их стойбища прошли две собачьих упряжки. Нарты были тяжело гружёные, собаки едва тащили их. Впереди шёл проводник, но не из местных, он плохо понимал язык юко, а сам и вовсе, разговаривал только на эвенкийском. Сзади нарт устало шагали совсем чужие люди, они были огромного роста, почти на две головы выше Мэмыла, и вдвое шире его в плечах. Он впервые видел таких людей. Они такие были уставшие, что попросились отдохнуть и переночевать. Конечно же, Мэмыл, как глава рода, приютил их, заставил перепуганных женщин накормить гостей и отвести место для отдыха.
Эти странные, большие люди, как выяснилось, занимались сбором камней. Они находили какие-то скалы, специальными молотками откалывали кусок породы и, завернув этот камень в отдельную тряпицу, складывали в специальные ящики. Мэмыл тогда предложил им набрать камней прямо под берегом, там много камней, но они лишь рассмеялись. А смеялись они зря. Мэмыл тогда сразу увидел, что у чужих людей совсем плохие собаки, половина из них больна, а остальные уже давно не ели вволю, были худы и обессилены.
Рано утром чужие уехали дальше, уехали отыскивать и собирать свои камни, но они оставили в стойбище собачью болезнь. Собаки становились какими-то снулыми, вялыми, потом у них просыпалась злость, и они беспричинно набрасывались на своих собратьев и кусали их беспощадно. И те заболевали такой же болезнью, из пасти обильно текла слюна, а глаза затягивала липкая плёнка. Ослабев, они забивались в укромное место и там умирали. Ни дым лечебного костра, ни заговорённая вода не помогали, почти все ездовые собаки стойбища погибли в то лето.
И когда пришло время остывающей воды, когда все стали готовиться кочевать, стало ясно, что кочевье будет трудным, – вместо собак нарту должны будут тащить сами люди.
Вот тогда он, Мэмыл, оставил на берегу своего отца. Тот сам попросил оставить его, когда понял, что будет лишним грузом. Он остался сидеть на берегу замерзающей реки с высоко поднятой головой. Когда последняя нарта уходила со стойбища, он и тогда не повернул своей головы, смотрел лишь на реку, на вечное движение воды, густо подёрнутой стекленеющей шугой. Так и запомнился всем, кто тогда успел его увидеть, сидящим на берегу, с гордо поднятой головой.
***
Ах, время. Безжалостное, неумолимое время.
Мэмыл так прислушивался, так остро прислушивался, что даже стащил с головы шапку. Если бы сейчас к нему уже подкрадывались волки, на своих мягких, чутких лапах, старик бы услышал их. Наверное, услышал бы. Но вокруг стояла тишина. Тишина. Нигде не скрипел снег, никто не возвращался в сторону покинутого стойбища. В глазах уже не было света, видимо пришла ночь. По одной хворостинке старик подкладывал в костёр, только по одной. И даже трудно было назвать это костром, – чуть тепла и совсем немного света.
– Да и нужен ли этот костёр вообще? Нужен ли? Стоит ли хвататься за край уже прожитой жизни, к чему это. Уже получена положенная тебе радость жизни, уже продлён род. К чему стараться удержаться за эту, никому не нужную жизнь, да и жизнь ли это. Это же просто осколки, остатки той, настоящей, оставшейся в прошлом жизни.
***
Уже несколько ночей собаки не давали заснуть, они чувствовали, как вокруг стойбища бродили волки и по всей ночи лаяли. Людям приходилось выходить и разводить костры, поддерживать огонь до самого рассвета. А сегодня стояла тишина. Старик знал, что волки не ушли, они никогда не уходят сразу за кочевьем. Они тщательно обследуют территорию покинутого стойбища, и сегодня ночью они будут здесь. Они обязательно придут.
Несколько раз за свою жизнь старику приходилось жить в год волка. Это были трудные годы. Именно в эти годы волков становится удивительно много. В эти годы они убивают всех зайцев, всех оленей, и охотники почти всегда возвращаются с охоты без добычи. Даже леммингов, – тундровых мышей, волки вылавливают и съедают. Для людей это тяжёлые годы, трудные и голодные.
Вот и этот год, тоже оказался годом волка. По рассказам молодых охотников в округе ни осталось никакой живности, только волки, волки, волки. Они так голодны. Так голодны. Они обязательно придут, обязательно придут. Старик волков не боится, он знает, как быстро они убивают, как быстро разделываются со своей добычей. Хорошо, что быстро. Хорошо.
Дело было в Булдырино
Было это где-то в пятьдесят пятом, или пятьдесят шестом году. Да, батя сразу после войны домой пришел, значит, Кольке в пятьдесят шестом уже десять лет исполнилось. Или девять. Бабка в тот год померла, и Колька сильно переживал, забирался на сарай и там ревел. Всласть ревел. Ему казалось, что только бабушка его и любила по настоящему-то, жалела всегда, хоть по поводу, хоть просто так, без повода. Гладила его по голове сухой, костлявой ладошкой и приговаривала:
– Сиротинушка ты, сироти-инушка…
Жалостливо так говорила, слезливо даже, и все гладила и гладила Кольку по непослушным, растопыренным в разные стороны волосам. Колька не перечил бабке, хотя в душе был с ней не согласен: коль у человека и мать есть, и отец, хоть и покалеченный, значит, не может быть этот человек сиротинушкой. Но больно уж жалостливо бабка выводила свое «сироти-и-инушка-а», что Колька молчал и соглашался.
С сарая, где Колька любил прятаться от родителей, открывался прекрасный вид за деревню, поскотина, с жалким деревенским стадом, покоть к реке, затянутая курчавыми тальниками, сама река, чуть просвечивающая бледными плесами. Дальше, уже на другом берегу, стеной, словно щетиной, торчал бор, по названию Телешинский. Говорят, в ранешные времена земли эти, вместе с деревнями, принадлежали барину по фамилии Телешин, вот он и посадил на том берегу сосенки. Не сам конечно, будет он с лопатой бегать, просто денег дал, а люди, всем миром и садили. Теперь бор, крепкий, красивый, грибы там завелись, ягоды разные. И Телешина, барина того, там, в молодом бору и расстреляли. За бором покосные луга, но их с сарая уже не видно, просто Колька знает, что луга там, он с пацанами уже года три, или четыре помогает колхозникам на покосе.
Мать Кольку не жалела, да и некогда ей было заниматься этими нежностями, не до того. Чуть свет, – на ферму. Обратно уж потемну. На отца-то времени не хватало, а тут еще Колька, – обойдется. Отец очень сердился на нее, особенно, когда был выпивши:
– Не понимашь! Стерва! Инвалид войны перед тобой! Награды за просто так не давали! Понимашь!?
Колька забивался в дальний угол на печке и делал вид, что он спит. Но никого не интересовало, спит ли он на самом деле, или его вообще там нет. Про него просто забывали в такие минуты.
Отец, и, правда, был весь избитый, израненный, руки не было, и не сгибалось одно колено. И награды были. Немного, но были, медали, одна «За отвагу», другая «За взятие города Прага». Колька пытался найти этот город на школьном глобусе, но не нашел, больно уж затерт был школьный шарик и названия городов почти не читались.
Отец нервно вышагивал от печки до стола, притопывая негнущейся ногой, и грязно обзывал мать. Она будто и не слышала его ругань, тянула к нему руки, пыталась поймать его и остановить.
– Прошенька, Прошенька… Колхоз ведь, как же я брошу.
Сама складывала вдвое сыромятный чересседельник, постоянно валявшийся у порога, подавала мужу, валилась на колени и опускала голову. Батя неловко замахивался предложенным ремнем, но совладать им толком не мог, так и не научился левой рукой, хлопал мать по спине. Снова замахивался, но злость быстро проходила, отбрасывал чересседельник на место, под порог. Помогал матери подняться.
Она не понарошку плакала, продолжала объяснять, что в колхозе строгая дисциплина, а рук не хватает. Тут же вскидывала глаза на пустой рукав мужа и торопливо поправлялась, что не хватает не «рук», а людей. И что похлебку она сварила еще по ночи, нужно было просто достать чугунок из печи. Только потом, позднее, выяснится, что чугунок тот батя опрокинул по причине неловкости, опять же по той самой причине, что у него всего одна рука, да и та левая. А ухват, будь он проклят, такой крученый, как ни приноравливайся, а он все одно, выворачивается из руки, вместе с чугунком. Пожалуй, что единственную работу, какую исправно делала эта самая рука, так поднимала граненую стопку, то с водкой, то с самогонкой, и аккуратно подносила к батиным губам.
Кольку батя тоже пробовал пороть, но ничего не получилось. Колька визжал, как поросенок перед ножом, выкручивался и, вырвавшись, убегал. Прятался на сарае, а то и вовсе, за деревней в зарослях тальниковых кустов. Поди, сыщи его там. Одной рукой не совладать, – надо и держать, и пороть. Батя бросил это дело и они, будто бы, даже сдружились. Правда, Колька не любил, когда тот был пьян, а пил батя по любому поводу. Просто пил, когда было на что, а если не было на что, то пил в долг.
Иногда к ним на подворье заходил председатель колхоза. Они долго сидели на покосившейся лавочке, вспоминали молодость, вспоминали войну. Кольке казалось, что войну они вспоминали с каким-то сожалением о том, что она закончилась. Вспоминали, как это было здорово: наступать, форсировать, атаковать, радоваться победам. Конечно, сожалели, ведь вместе с войной закончилось то время, когда они были самыми нужными, самыми главными, самыми – самыми. Были молодыми.… С руками и ногами.
Председатель звал Колькиного батю на работу: «хоть сторожем…». Но батя как-то виновато улыбался, опускал голову и тихонько, чтобы не слышал Колька, говорил:
– Ну, какой с меня сторож? Я же запойный, пущу в расход все твое хозяйство, и в Магадан. Этого, что ли хочешь?
Председатель крякал, огорчительно затаптывал окурок и, не прощаясь, уходил. Не мог придумать, чем бы таким занять человека, чем отвлечь его от этого проклятого зелья.
Иногда Колькин батя появлялся на людях. Появлялся на покосе, где в поте лица трудились все, от мала до велика, и мужики и бабы, и ребятня без дела не слонялась: за каждым был закреплен колхозный конь. Пацаны ловко управлялись с лошадьми, подвозили к огромному зароду копны, мужики метали, бабы укладывали один за другим подаваемые навильники. Все в деле, все в работе. Постоит Прохор в сторонке, поправит, подоткнет пустой рукав за ремень, понурится, и похромал в сторону деревни. Так же и на строительство новой фермы приходил. Обмолвится с кем, перекинется парой слов и уходит. А после этого уж запирует, так запирует! Кольку призовет, тискает его оставшейся рукой и сопли, смешанные с пьяными слезами, смазывает на Колькину рубаху. Воет потихоньку:
– Искалечила.… Изломала она меня.… Всю жись перепаскудила!
Колька жалел отца. Позволял ему вытирать об себя мокрое, пьяное лицо, терпеливо выслушивал все его пьяные жалобы на судьбу и только боялся, что мать не ко времени заявится домой и увидит батю таким, увидит слабым, увидит, как тот плачет. Не мог он этого допустить, не хотел.
В полях мела поземка, перетаскивая по голой, остывшей земле первые, сиротливые снега. Тучи тащило без всяких разрывов, откуда-то с севера тащило, уж который день. Голые кусты, на краю поля, некрасиво топорщились уродливыми ветками, словно подчеркивали свою бесполезность: ни дров с них, ни защиты от ветра. Птички попрятались в чаще лесной, где ветер, цепляясь за стволы деревьев, растрачивает свою силу, стихает хоть на чуточку и становится теплее, будто бы. Зверь лесной, мало, что в шубе, так и тот не болтается, лежит где-то, угрев себе лежанку, только ушами прядает иногда, в сторону опасных шорохов.
Но не всякий зверь лежит, укрывшись в заветрии, кто-то пользуется такой непогодью, трусит тихонько навстречу ветру, принюхивается к каждому дуновению, старается поймать своим носом вкусный, живой запах жертвы. Это волки. Развелось, расплодилось этой пакости, особенно сразу после войны. Или пришли они, перекочевали откуда-то, явились в места, где на них пока что не могли найти управы.
Говорили, что они пришли оттуда, пришлые, мол, беглые. Как народ от войны бежал, так и волки. Но было и другое мнение на этот счет: война предоставила волкам столько дармового корма, что поневоле численность его скакнула запредельно. А уж потом он заселял, осваивал новые и новые территории, где на него не велась никакая охота, не до волков было в ту пору.
Председатель без стука ввалился в дом, впустив с собой клуб холодного пара и запах настоящей зимы. Уселся на табурет возле стола. С другой стороны стола сидел Колька, выводил каракули на разлинованной в косую полоску тетради. Батя, почуяв гостя, трудно поднялся с кровати и там же сел, он болел с похмелья.
– Чего тебе? – тяжело, с хрипотцой в голосе спросил Колькин батя. Голову прислонил к холодной спинке кровати. Колька поднялся, черпанул ковшом воды и поднес бате. Тот жадно отхлебнул.
– Вот, Прохор, дело для тебя сыскалось. Да. Важное дело.
– У-у-у. Не начинай, председатель. Кончились мои дела, немочь одолела.
Колька заинтересованно смотрел на председателя, хотелось узнать, что он там придумал, но и батю ему было жалко, понимал, как ему плохо. Забрал пустой ковш и опустил его обратно в бадейку, ковшик мягко всплеснулся там.
– Ты ведь, Прохор, раньше охотой баловался, однако? И ружье у тебя.… Или уже нету?
– Ну?
– Вот тебе и «ну». Волки совсем обнаглели. В Булдырино чуть не каждую ночь приходят. Зверствуют.
Председатель говорил не громко, но увесисто, значимо. У Кольки зашевелились волосы, а может, просто так показалось, и приспела икота. Он пытался ее задавить, сглатывал слюну, сглатывал, но икота не осаживалась, перла и перла наружу. Батя молчал. Он тоже проникся серьезностью момента и на какое-то время даже забыл о похмелье.
Булдырино, это самое крайнее отделение колхоза, небольшая деревня, вплотную приближенная к лесам. Отделение, которое занималось животноводством, у них не было пахотных земель, только покосы, да близко подступившая тайга. А сюда, в сторону центральной усадьбы, еще и огромный болотистый каравай примыкал. Когда год был засушливый, то большую часть болот выкашивали на сено, не пропадать же добру. Из скотины держали отару овец, да приличное стадо бычков первогодков, их сгоняли сюда из всех остальных отделений, из всех ферм. А последние два года не только бычков, весь колхозный молодняк по весне перегонялся в Булдырино.
Дороги туда, как и в другие соседние деревни, можно сказать, что не было. Да и к чему она, дорога-то? Летом на телеге, если нужда какая, лошаденка утянет, дело привычное, а зимой, так и вовсе хорошо, – на санях. Или как председатель, так вовсе с комфортом, в кошеве, милое дело. Правда, это лишь до той поры, пока коню до брюха снега не навалит. Как падут большие снега, кончается всякое движение. Остается только почтовская лыжница, да и та заваливается снегом, – почтарь-то всего лишь раз в неделю ходит. А когда писем нет, так и того реже, – газеты-то и полежать могут, подождать лучших времен.
– Еще и зимы-то не было, а они вона, пакостят. Овец, трех уже, слышал, наверное, и над телятами крышу раскрыли. Не тронули пока, но готовятся, прорвы. Бабы на ферму боятся идти. Чо, ружье-то? Или пропил?
Колька разволновался, приступил к председателю и, пересиливая икоту, заглядывая в глаза, сообщил:
– Тута оно, тута. Вон, на полатях в тряпку замотано. И заряды дробные.
Отец встрепенулся, отделился от кровати:
– Цыть, ты! «Тута». Спросят, тогда и вякай. – Прошел к столу, сел на Колькино место, уставился в тетрадку. Батина грубость не оттолкнула парнишку, даже наоборот, он приник к отцовской спине, словно слился с ним. Стало понятно, что в этом сговоре, в этом заговоре против разбойников они будут вместе.
– На конюшне скажу, чтобы тебе подводу в любое время выделяли.
Председатель нахлобучил шапку и ушел, напустив холода и стылости. Колька с батей еще долго сидели молча. Спустя какое-то время, батя тяжело вздохнул, глянул на Кольку:
– Ну-ка, сынок, достань. – И кивнул в сторону полатей. Колька юлой взвился, как испуганная муха взлетел на полати, достал ружье, протянул. Развернули. На коленях лежит, чем-то неведомым, волшебным отдает, мысли путает и будоражит. Переломил батя одностволку, неловко переломил, одной левой. В ствол заглянул. Колька дотронулся до металла, – по телу дрожь прокатилась.
– Патроны там, в другой тряпице.
– Нет. Те патроны не годные, они с дробью. Где-то у тебя свинчатки были, на грузила. Найди-ка.
Колька отыскал свинчатки, сложили их в консервную банку и в печь, на угли. Пока свинец плавился, батя старый патрон вытащил, пустой. Заставил Кольку трубочку свернуть из трехслойной газеты, в патрон вставил. Расплавленный свинец залил в эту трубочку, вставленную в патрон. Газета задымилась, почернела.
– Вот, Колька, учись пули делать, глядишь, и пригодится.
Остывший свинец, в форме цилиндра, на всю высоту патрона, вытряхнули. Ножом, да молотком нарубили болбышек, как раз пять штук. Края молотком заровняли и в сковородку. Сверху другую сковородку и катать. Катать усердно, пока не получится из каждой болбышки хоть какое-то подобие круглой пули. Дробь из зарядов выбили, заложили туда пули. Батя ворчал, что хорошо бы пороху добавить, да уж ладно, на первый раз пойдет, может, и нету там вовсе никаких волков, разговоры одни.
Решили съездить до Булдырино, осмотреться, благо, что всего-то каких-то три-четыре километра. Колька сбегал на конюховку и вскоре гордо подъехал, подрулил к дому. Батя уже ждал, ружье топорщилось за спиной. Для него, для ружья, определили место в соломе, где помягче, и не придавить, не навалиться на него. Сами позади. Батя, вроде, сам хотел править, но передумал, отдал вожжи Кольке, – с двумя-то руками ловчее. Кольку распирало от гордости.
Снегу было совсем мало, дорога вообще голая, чернела между обочин, но в траве, с краю, снег задержался. Туда, по краю дороги, по травянистым обочинам и старался править Колька, да Гнедко и сам понимал, что гораздо легче сани тащить по снегу и старательно обходил зачерненные участки дороги. Стояла примороженная, но еще сырая осень, воздух не двигался, как бы закоченел на одном месте. Пахло мокрым снегом и конской упряжью. Где-то далеко в стороне выла собака. Гнедко легко тащил санки и одолел расстояние до Булдырино незаметно.
Колька первым заметил крыши Булдыринских ферм. Батя, вдруг, хлопнул Кольку по спине и попросил остановиться. Чуть вернулся назад и что-то долго рассматривал там, переходя то на одну, то на другую сторону дороги.
– Ей бо, Колька, волки!
– Где? – Колька аж присел ниже, заводил глазами по сторонам.
– Вона, дорога ихняя, тропа. Как раз в сторону фермы.
Гнедко заворачивал голову, словно хотел принять участие в разговоре, косил влажной сливой глаза и коротко всхрапывал. Батя уселся в сани.
– Поедем на ферму.
Колька излишне рьяно понужнул вожжами и Гнедко прытко взял с места.
На ферме был только старый знакомый Колькиного отца, по прозванию Никитич, да две молоденькие бабенки, которые ходили за телятами. Бабы с удовольствием, перебивая друг друга, начали рассказывать, что телята и без того дохнут, – молока же на всех не хватает, так тут еще напасть, – эти волки проклятущие. Никитич намахнулся на них костылем и зычным, прокуренным голосом прервал:
– Цыть! Я вот вам! Чего придумываете? Кто у вас дохнет?! А ну, пошли отседова, навоз выкидывать надо, а вам бы лишь языки почесать.
Бабы враз умолкли, даже ладошками прикрыли губы и быстро, быстро удалились. Никитич все рассказал и показал. Волки действительно вели себя нагло, разворотили крышу в овчарне и начали резать овец. И здесь, в телятнике, дыру проделали, но скотники выкидывают павших телят, так волки пока ими довольствуются. Приходят они еще по свету, ничего не боятся, вроде как знают, что в деревне нет ни единого ружья. Да и деревня-то, Богом забытая, десяток домов наберется, так хорошо.
– Я возле фермы лемех повесил, начну в него звенеть штырем металлическим, они, будто бы, испугаются, отпрянут. А чуть стемнеет, снова мелькать начинают, то здесь, то там.
Никитич показал, где ловчее караулить, туда уж бабы соломы притащили. Гнедка привязали с другой стороны фермы, не выпрягая, кинули ему сена.
Охотники устроились в соломе, напротив открытого окна. До сумерек оставалось не больше двух часов. Но и их, эти два часа, ждать не пришлось. Колькин батя устроился, умостился в соломе, на окно положил ружье, заряженное круглой, самодельной пулей, и полез в карман за папиросами. Колька, в это время, отпрянул от окна, схватил отца за телогрейку и стал неимоверно трясти. Пытался при этом что-то сказать, выдавить из себя, но так и не мог, лишь широко разевал рот.
Батя сразу увидел волков, они стояли друг за другом и смотрели на темный проем пустого окна. Двое, передний не очень большой, может быть чуть больше дворовой собаки, но второй был здоров, с огромной, словно светящейся гривой. Охотник ногой отшвырнул дергающего за одежду Кольку и схватился за приготовленное к стрельбе ружье.
Хотелось убить сразу двух. Мушка прыгала с одного на другого, а они, словно ждали, спокойно стояли совсем близко, в каких-то десяти шагах. Кольке казалось, что батя слишком долго целится, что волкам надоест ждать, и они запрыгнут сюда, в окно, и просто загрызут их. Хотелось распустить нюни, уже губы растянулись в кривой гримасе, но грохнул выстрел.
Выстрел был такой громкий, такой неожиданный, что Колька слетел с соломы и больно ударился головой. Все стихло, дым выстрела заползал в окно и приятно щекотал нос.
– Чо, батя, попал?
– Вроде, попал.
– А другой?
– Другой удрал, испужался, должно быть.
– А он нас не съест?
– Не. Далеко удрал.
Охотник снова зарядил ружье, зачем-то понюхав пустую гильзу, поднялся и закинул ружье за плечо, снова полез за папиросами. Колька заметил, как у бати трясется рука, как он трудно справляется с папироской и спичками. Спички непослушно выпрыгивали из коробки и растекались по коленям, хотелось помочь бате.
Прибежал, запыхавшись, Никитич:
– Чо, палили-то чо? Понарошку, что ли? Или пришли?
– Пойдем глядеть. – Батя тяжело и глубоко затягивался папиросным дымом. Колька значимо топтался рядом, опасливо поглядывая по сторонам. Вышли из фермы и, обойдя ее кругом, приблизились к распахнутому окну. Батя рассматривал следы, низко склонялся.
– Вот. Здесь стрелял, вот и кровь. – Прошел немного по следу и поднял руку: – Вот он, волчара!
Волк был мертвый. Он лежал на боку и смотрел открытым глазом куда-то в серое, вечернее небо. Охотники, в компании с Никитичем, долго стояли над убитым волком, рассматривали его, трогали носками сапог. Никитич наклонился и потрогал волка за серое, с черной отметиной ухо, легонько потеребил. Колька пригнал подводу. Гнедко храпел, перебирал копытами, не стоял на месте.
Загрузили волка в сани, он оказался неожиданно тяжелым. Никитич для чего-то обмотал ему морду веревкой и крепко завязал.
– Езжайте, пока не стемнело.
Гнедко за всю дорогу ни разу не приостановился, не перешел на шаг. Чувствовалось, что он побаивается уложенной в сани поклажи. Волка отвезли на конюховку, там мужики обдерут. Охотники стали героями.
Уже назавтра о происшествии узнали в райцентре и оттуда, из районной газеты приезжал молоденький корреспондент, смотрел на вздернутую на правила волчью шкуру и хотел сфотографировать Колькиного батю, но тот был пьян и фотографировать пришлось только председателя.
Через три дня Колька с отцом снова приехали в Булдырино. Бабы только махнули рукой, отвечая на вопрос о волках:
– Ой, да конечно ходят. Каждый день. По целому телку съедают. Да и не жалко, дохлятины-то.
Охотники обошли вокруг фермы и убедились, что следов серых разбойников много. Снова заняли место у растворенного окна, на соломе.
Волки снова появились парой, появились на самом изломе сумерек и ночи. Охотник снова волновался, выцеливал то одного, то другого, наконец, выстрелил, да промазал. Сам Прохор и не видел их после выстрела, ослепило вспышкой, но Колька сказал, что удрали оба, «живехонькие и здоровехонькие». Батя за промах огорчился очень, достал из запазухи недопитую бутылку красного вина и здесь же, на соломе и допил. Прямо из горлышка. Колька не ругался, понимал, что человек находится в расстройстве.
Домой приехали уже потемну. Хорошо, что Гнедко и ночью видит дорогу, словно днем, можно и не править, только понукай иногда.
Через несколько дней обидный промах повторился. А волки опять залезли в пригон к овцам, зарезали двух ярок и до смерти напугали Никитича, который кинулся на разбойников с костылем.
Председатель пришел к Прохору, уселся за стол, не раздеваясь, только шапку снял, и долго сидел молча, кусал свои усы. Колька закончил домашнее задание, сложил учебники и тетрадки в портфель и выдал:
– Надо их ядом травить. Я читал.
И председатель, и Колькин батя вытаращили на парня глаза, но продолжали молчать.
Прошло еще несколько дней и председатель снова появился. Он как-то хитро улыбался.
– Вот, мужики. Сегодня правление было, решили вам за убитого волка выписать десять трудодней. Вот. А еще, был в районе и в охотсоюзе получил яд для волков. Под расписку. Так что вы поаккуратнее.
Он достал из кармана газетный сверток, в котором был еще один пакет из плотной, коричневой бумаги. Показывая на пакет пальцем, председатель рассказал, что там, внутри находятся желатиновые капсулы с ядом. Надо как-то дать эту капсулу волку, чтобы он ее проглотил. Она, капсула, в желудке у волка растает, растворится, и яд начнет действовать.
– Потом только Гнедка понужайте, да дохлых волков собирайте. Вот.
Председатель ушел. Колька с батей, как приговоренные, смотрели на коричневый пакет и не знали, что с ним делать. В сенях шабаркнулась мать, пришла с работы. Колька схватил пакет, хотел куда-то спрятать, от лишних вопросов, но не успел. Пришлось все рассказать.
– Вот теперь думаем, как этих тварей заставить глотать эти пилюли.
– Ой, какие проблемы-то? На ферме каждый день то падеж, то забой. Взять кусок внутренностей, туда пилюлю, и на мороз. А потом раскидать эти «котлетки» на волчьих следах. Мужики обрадовались: оказывается все так просто.
Тем временем зима забирала свои права. Снегу прибавлялось, хоть и понемногу, дорога на Булдырино уже не была совсем черной, лишь местами еще торчали голые, задубевшие на морозе ошметки, напоминания о слякотной осени. Гнедко уже не выбирал заснеженные обочины, а резво трусил самой серединой, бодро подергивал сани с охотниками.
Морозец прижимал, и уже не пахло сырым снегом, и воздух не стоял на месте, а куда-то летел, летел, переметая следы. И березы на обочинах шуршали голыми ветками, раскачивались под ветром, ждали настоящих, крепких морозов.
Две пилюли с ядом, замороженные в коровьих кишках, положили на тропе, возле одинокой березы. Место приметное, легко запомнить. По этой тропе волки ходят из большого, камышового болота в сторону Булдыринских ферм. А еще четыре «котлеты» увезли на падинник, к фермам, куда бабы павшую скотину стаскивают.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































