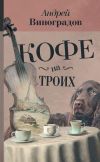Читать книгу "Не ум.ru"

Автор книги: Андрей Виноградов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Смешное соперничество. И невыносимое, как легкость бытия».
«Кундера…»
«При чем тут Кундера? У него с покорением вершин полный порядок. Признанный корифей. Можно сказать – на века… Память? Ну да. Это ведь он – ничего не путаю? – однажды заметил, что темп ходьбы неразрывно связан с памятью? Стараясь что-либо вспомнить, мы подсознательно замедляем шаг, в стремлении же забывать – ускоряемся. Точно. Я тогда подумал, что ночи утренних бегунов должны быть ужасны».
Однако именно неугомонная память о том, что разумнее забывать, а иногда просто необходимо забыть, сыграла в моей судьбе аккордную роль. Еще, конечно, распутное желание делиться нажитым, не приветствуемым обществом знанием (обществом «Знание» тоже) с юной порослью… Оно также отметилось ярким звуком. Может быть, самым ярким. На этих двух крыльях я через считаные месяцы после распределения, в темпе вальса, то есть недолгой грызни, вылетел из педагогического вольера в свободный от предрассудков мир. Пожилой, исцарапанный жизнью коллега по цеху шепнул ободряюще:
– Только не спейся на радостях, иначе будешь корить себя всю недожитую жизнь.
Вам, наверное, интересно: что именно можно было преподавать в советской школе человеку с небывало широкими взглядами? Ну, разумеется, труд! На мое призвание в школе через дорогу от дома спрос оказался вероломно отложен. Пока же обманщица ожиданий всего педсовета и моей «альма-матер» доживала отмеренное, я прельстился трагически осиротевшим кабинетом труда. Право жаль, что гуманитарии столько не пьют…
«Право жаль… Усопшего правожаль весь коллектив…»
Я, конечно же, мог бы встряхнуть традицию, но как уже поделился – судьба уберегла. Традицию, разумеется.
Очутившись на воле, я обошелся без рефлексии. Протекция – «Завтра в девять, не вздумай опаздывать, считай, ты уже в штате» – неловкий и часто не самый удобный фасон для носки, но согревает, и это важно. Через пару дней меня вознесло в пространство безграничной безнаказанности радиочастот. Разумеется, если равнять степень свободы со школой.
– Бездельник, – жестко определила мое местоположение среди занятых мама.
Я на скорую руку в уме поменял первые буквы на две других, «п» и «и» и безоговорочно согласился. Как с мамой, так и с буквальностью выведенного небольшими перестановками определения.
5
«И все же… курс. Какой, стало быть, курс я тогда посещал?»
«Чувствительная разница: тридцать лет назад или годом раньше? Проще думать “давным-давно”».
«Так и думай, зачем тебе сложности?»
«Уже».
«Уже сложности?»
«Уже так подумал».
Откуда вообще взялась уверенность, что все произошло во времена институтской учебы? Волнение в преддверии сессии припомнилось? Скорее пригрезилось, а не припомнилось. Потому что это полная чушь. Я крайне редко волнуюсь, если не за долгом пришли в тот момент, когда у меня в карманах все форточки нараспашку, сплошной сквозняк. Или другой случай: отдать можно, есть чем, но так не хочется, что опять же в карманах сквозняк… Могу даже вывернуть их для умерщвления ложных сомнений, хотя никакой нужды в этом нет. В конце концов, «вывернутые карманы» – это такой же образ, как «мясное ассорти».
Волнение в упомянутые времена во мне в то время вызывала лишь юбка из шотландского тартана. Точнее, всё, что над ней, ниже, ну и под… разумеется. От одного вида шотландки меня разом укачивало, словно не о Шотландии речь, а о Шетландских островах – поплавках среди неуемного океана.
Юбка была скроена внахлест, и три сыромятных ремешка с латунными пряжками мешали «нахлесту» превратиться в «расхрист». Поистине убийственная конструкция. Сухой «зип» может и не столь изыскан, зато довольно практичен. Обычная молния – тоже. До этого соприкосновения с модой я относился к ней намного терпимей.
Конечно же, в институтские годы дело было, спору нет. И это вне всяких сомнений второй курс. Хватит уже игрищ в слабоумие и беспамятство. После зимней сессии «шотландку» сослали «отвисать» в академке. За прогулы и бесталанность. Довольно спорное суждение, если шире смотреть на дарования, видеть всю их палитру. Там, в академическом, она и зависла на дольше долгого. Сказывали, что вышла замуж, но еще раньше родила. Или все-таки раньше вышла? Тогда выходит, что не «сказывали», а злословили. Словом, мы вполне закономерно и весьма быстро потерялись. К тому же застежки эти на юбке дурацкие… Море жеманства, по-другому не скажу. Мои же вкусы выкристаллизовались день ото дня и успешно дрейфовали к минимализму. Ну и что особенно важно… Вскоре вся моя жизнь, разом, вплоть до покамест неведомой, как и положено заурядному землянину, «итоговой» даты, – в одно мгновение утратила свое волшебно-непредсказуемое предназначение. Взамен она выстроилась чередованием пресловутых «а-а-а», то есть наперед угаданных, обыденных, скучнее скрепок в коробке, дней. Их, дней то бишь, серость и стала самой яркой яркостью. Что обидно: для этой необратимой метаморфозы оказалось достаточно всего лишь единственного, скупого, расчетливого движения руки. Не моей. Доктор сподобился на мановение скальпелем и…
И всё.
Чирей, что вызывающе нагло торчал желто-багровой сопкой в самом центре моего лба, был рассечен строго вертикально. Окажись в руках доктора казачья шашка, я бы мог оказаться разваленным пополам. До седла, если бы был верхом, или до… – ну понятно, если бы просто стоял. Причем обе части были бы абсолютно равного веса. Но фамилия доктора была даже не Розенбаум, а совсем уж никак не казачья – Шлицман. Так что досталось от него только болячке. И хорошо. При том, что все плохо. Даже очень плохо.
Начиналась же эта катавасия, на первый взгляд, ничего, терпимо. Над входом в травматологический пункт барражировала ворона. Я почувствовал ее недоброе намерение и прыжком преодолел расстояние до двери. «Пусть мне и суждено быть обосранным птицей, но это должен быть голубь мира! Кипельно-белый! И ни в коем случае не гриппозный» – такова была моя установка.
Ворона промазала. Установка – это очень важно.
6
До преступного, врачебного надругательства над моим беспечным и авантюрным будущим (таким оно виделось, и мне искренне верилось, что в этом прожекте я не одинок, даже на авторство не претендовал) чирей выглядел дурно. И еще хуже болел. Изгрызенным острым ногтем кто-то упрямо толкался внутри головы в злополучном месте, настойчиво выискивая точку, где удалось бы пробиться наружу. Я вообразил себе указательный палец, неожиданно появившийся посреди моего лба, и оценил схожесть нетривиального визажа с обитателем мифов, символом духовной чистоты и исканий. «Лобному» пальцу пришлось замереть, несмотря на стремление исполнить восторженный танец вырвавшегося на свободу червяка. Скорбно признать, но замахнулся я не по наросту на челе. Потянул лишь на «единопальца указующего», с единорогом ничего общего не имеющего. От природы и, безусловно, благодаря везению я уже обладал двадцатью. Везение упомянуто в связи с неумелой готовкой, требующей участия крайне острых предметов, и вечно притупленное внимание к этой каторге. Двадцать первый палец был лишним. Но с другой стороны, использованным в иллюзии мог оказаться один из уже имевшихся. Пальцы я пересчитал. На всякий случай. Вспоминал при этом диагноз отца-лекаря, поставленный своему сыну и моему однокласснику:
– По состоянию здоровья ты, сын, клинический идиот!
Это случилось после того, как одноклассник сообщил отцу, что сын его брата, то есть кузен, – полная, не имея в виду фигуру, скотина. И полюбопытствовал: будет ли извращенное надругательство над ним признано судом скотоложеством?
Вот такие пацаны делили со мной школьный класс.
Признаться, реакция чужого родителя была бы мне куда более любопытна, окажись он юристом, а не врачом. Почему? Откуда мне знать! Но раз признался, значит так чувствовал. Наверное, интерес был в детали вникнуть. Впрочем, врач, на мой взгляд, тоже не сплоховал. Знатно отметился. Иначе с чего бы мне столько лет этот текст помнить? С чем-то еще тот доктор, отец одноклассника, был связан… Ах, да, связан был я, он меня развязал. А спеленали меня на призывном пункте. За то, что в туалете, о котором сказать «параша» означало отвесить сему месту неподъемный «респект», я пытался вскрыть себе вены. Вселенская антисанитария, в которой, решил я, моей крови будет уютно, а мне самому… Мне самому будет совершенно по фигу. Наплевать на кровь, на грязь, вообще на все. Важно лишь одно – отыскать подходящий ответ на вопрос Всевышнего:
– Совсем дебил, да?
Так я его услышал. Дословно. Почему-то заранее. Наверное, чтобы успел подготовиться. Очень гуманно. Меня не смутило, что таким манером, гортанно, кавказцы интересуются, в ладах ли ты с собственными мозгами, если не понимаешь, чего от тебя хотят.
«Боже, для чего ты меня оставил?» – спросил я безмолвно странное, вместо «за что?» или, на худой конец, «почему?».
«Нет ничего странного. Очень даже хорошо сформулировал, в точку, – почувствовал я одобрение распахнутой настежь душой. – Всё еще жаждешь услышать ответ? Изволь. Для того, чтобы отдохнуть от тебя, дурака!!!»
На одной руке произвести задуманное мне, можно сказать, удалось. На подходе ко второй фазе кто-то еще припёрся, отважился посетить кисло-говенно-пахучее место. Этот кто-то был здоровым, краснолицым, упакованным, как все мы, в бросовое, выведенное из обращения шмотье. Реакция визитера на увиденное оказалась выше инстинкта испражнения. Я было восхитился в тумане увядания его сдержанностью, потом подумал, что парень, возможно, за другим чем зашел, не по нужде… Тут он принялся орать, заполошный, а на меня снизошло расстройство, что не успел, не отважился призывник наскоро скурить «косяк» заначенный – осадил бы нервы, голос под уздцы взял. Я бы с радостью принял шанс «пыхнуть» напоследок, перед тем как предстать пред главные во Вселенной очи. Мутным пред ясными… Мне это показалось логичным.
Подвел, чмо призывное…
Позже, гораздо позже выяснилось: за мной, горемыкой, парня послали. Искать. Чуйка у кого-то сработала. А ведь я был совершенно уверен, что безразличен всем и вся. По барабану этому миру. Не нужен ему ни в каком живом виде. Ни учителем русского, литературы, труда, ни писателем, ни солдатом… Ни, наконец, сыном.
Возможно, парень, кого мои поиски привели в самое логичное место, сам был не в себе, кто знает. Как еще объяснить, что «чмо призывное» быстро справилось с паникой и вообразило себя моим спасителем. Методы пресечения суицида оказались легкодоступны даже неразвитому уму. Применены они были с избыточной лихостью и, мне показалось, не без удовольствия. Челюсть тихо хрустнула во мне внутренним хрустом, и я утратил естественный прикус. Потом была «Скорая». После нее – неторопливое ковыряние в моем рту, просовывание – между зубов, изнутри наружу – металлических крючков. Просунутое уже в спринтерском темпе было стянуто-скреплено между собой подобием аптечных резинок, только меньшего диаметра и большего сечения. И туже. Зубы оказались спеленутыми, как руки-ноги, но не так обидно. Дюжий санитар, от которого нарочито разило чесноком, покрывавшим другой запах, запретный, наклонился ко мне и сказал-спросил:
– Служить-то с гулькин хуй, год всего. Ты ж с дипломом. Совсем дебил, да?
«Совсем дебил, да?» – отозвалось повтором в моей голове. Ни громкость не потерялась, ни четкость… – ни эхо.
Я узнал эти слова, и светлое тепло наполнило уставшее тело:
«Вот бог».
То, что он матюгнулся, нас даже сблизило. Жаль, что сразу выяснилось – недостаточно.
– Вот же ты… Твою мать! Еще и обоссался, мудак. Я б тебя, у-у-у…
«У-у-у-у-у!» – подхватило мое сознание.
Внутренний звук получился «горкой»: снизу вверх, потом – вниз. «Ревун» – родилось слово. Штормовое предупреждение. Я принял сигнал и мысленно поблагодарил отправителя. «Предупрежден – значит вооружен!» – всплыла мудрость из глубин замутненного событиями сознания. И тут же опровергла свою всеохватность наличием исключений: «Это не твой случай!»
Или это шторм таким образом взвешивал, неторопливо оценивал мои перспективы? Штормам в принципе спешить некуда, хочешь не хочешь, а однажды попадешься ему на пути и… – на тебе, «спета песенка». А песенка у шторма одна. Не раз, к слову сказать, спетая. «Капитан, капитан, улыбнитесь…» – начинается она прямо с припева.
«Больше слов, других шторм не знает. Но ему и этих достаточно», – возникла загадочная уверенность.
Еще мне показалось, что медработник тоже не может вспомнить какие-то слова, не справляется. Таким от натуги он стал багровым.
Тут в палату, а вместе с ней и в игру вступил отец моего одноклассника. Доктор. Он в зародыше пресек приближавшуюся расправу. Удалив разгневанного санитара, доктор спросил как-то очень по-доброму, по-приятельски:
– Что, так сильно с матерью поссорился?
– Нет, – удивился я как вопросу, так и ясности собственного ответа, пусть и сквозь зубы. – Мы вообще не ссорились.
– Чего ж тогда она тебя от армии не отмазала? И вообще, как ты после института… Военной кафедры не было?
– Нет, не было. А у мамы есть. У нее… принципы.
– Ну, вы, семейка, даете. Ладно, у меня с этим проще. Будешь годным к нестроевой и пошагаешь домой… Вразвалочку. Или нога за ногу. Для пущей убедительности. Правда, числиться будешь на голову слабым, но тут ты, брат, сам себе неудачно выбрал… Расковырял, понимаешь, руку стеклом. Ранку я заштопал, но это больше для видимости, чтобы у комиссии меньше вопросов. Вот так, по старой памяти… Сечешь?
– А Сашка? – поинтересовался я судьбой одноклассника.
– В погранцах мой обалдуй. Уже две недели как. На него все свои принципы истратил. Теперь вот ночью не сплю, а днем жена пилит. Ладно, тебе скажу: занимаются уже Сашкой. Повезет – так еще до присяги домой вернется. Будет тебе в компанию еще один слабоумный. Ничего, нынче жить много ума не надо. Скорее уж наоборот. Так проще. Давай-ка выпрастывайся уже. Мыться, переодеваться, горшок, спать. И как можно крепче. Маман твоя сюда мчится. Но для этой пули своя цель есть: офицерик из комиссариата подъехал, еще не знает, болезный, что его ждет.
До меня мама добралась поздно вечером. Я совсем непритворно спал, но на звук двери и шепот двух женщин – в одном из них, в вопросе «почему?», я признал мамино утрированное «ч», – на секунду вынырнул из уютной тьмы. Правда, с ответом на первый вопрос, как и на все последующие, мы разминулись. Я даже не знаю, надолго ли она задержалась в палате.
Через неделю я уговорил Сашкиного отца не подавать документы на комиссию. Что уж он там написал в моих бумажках – только ему самому и ведомо. Но когда еще через пару дней я заявился в военкомат и покаялся в том, что чудил спьяну и несознательно, потому что девушка бросила, а у нее отец умер, тогда как мой еще раньше… – меня приняли как родного.
Я так толком и не разобрался, что в то время со мной творилось. В результате удовольствовался суждением Сашкиного отца:
– До сих пор был уверен, что среди всех знакомых только меня судьба сыном-дураком наградила. Матери привет передавай. И скажи: сочувствую.
7
Особо изысканно моя болячка на лбу подличала в темное время суток. Внутри нее пробуждался несклепистый гном. Точнее – существо намного «гномее», чем самый мелкий из мыслимых гномов. Оно так и эдак примеряло чирей изнутри. Как шляпу. Волосы «самый гномистый гном» стриг коротко, и были они жесткими, как проволока. При этом я совсем не уверен, что за эту жесткость ответственна стрижка, а не гены. Гномы, если судить по фильмам и книжкам, весьма упертая живность. Я бы даже сказал: несокрушимо упертая. Не о такой ли стойкости думал Маяковский, предлагая переводить людей на гвозди? Жаль, что был услышан. Трижды жаль, что был понят слишком буквально.
Испытания, ниспосланные мне по ночам, были доступны для понимания разве что кофейной джезве – раз в неделю я вычищал ее жестким проволочным «ершиком». Шесть прочих дней посудине полагалось накапливать аромат. Вычитал где-то, что казаны для плова не следует часто мыть, ну и перенес экзотический опыт на собственные заурядные нужды. Нелениво перенес, однако же, заметьте, в угоду лени! Проще говоря, с выдумкой. Если одним словом – то творчески.
8
Я терпел долго, сколько мог. Так до последнего верят в чудесное избавление от визита к «садисту-целителю» только жертвы атак зубной болью. Я терпел вопреки страданиям, здравому смыслу, заклинателям с телеэкрана, советам друзей и отчаянным предложениям недругов раскалить на огне портновскую иголку и «ширнуть» ею прямо в боль.
– Ага, – отвечал. – Только лучше выбрать шило. Или штык. Штык ведь он – молодец?!
В идее с портновский иглой далеко не последняя роль отводилась переднику. Продуманность недружелюбных планов всегда восхищает. Ожидались вонючие брызги, избежать которых хотелось всем, но в первую голову вероятным исполнителям экзекуции, они же авторы лечебной методы. Ни у кого в личных хозяйствах фартуков-передников, понятное дело, не числилось, а выносить из дома на поругание «семейную собственность» казалось старомодно-предосудительным. Это сильно укрепило мои позиции труса. Даже сильнее ироничной издевки насчет штыка.
Почему-то никому не пришло в голову, что навредить себе предложенным диким образом я мог самостоятельно. И без фартука. Например, в ванной. Разделся бы догола… Или не совсем догола, если неугомонные кровожадные доброхоты вознамерятся порадовать душу моим знахарским вывертом. Только держаться им от меня пришлось бы подальше, разу уж не нашлось у них сраных передников!
«Почему сраные, если они… передники?»
«Потому что такова фигура мысли. И вообще, передник следовало бы повязать зеркалу».
«При таком раскладе – вообще провальная история выйдет. Как, спрашивается, попасть иглой в цель? Не на ощупь же в собственное лицо иглой тыкать?!»
«Хватит уже… Не видишь, что ли: глаза от одной мысли о сближении с иголкой щурятся, как азиатам не снилось».
«Так ведь ты зеркало в фартук задрапируешь – какой там глаза рассматривать!»
«Уел».
С неизбежностью муравьиного нашествия на труп таракана в права вступил день, когда я отчетливо осознал: от постороннего и, что особенно важно, профессионального вмешательства мне не увернуться. Для начала это нерадостное открытие отправило меня на поклон в местную поликлинику. Оттуда я был перенаправлен в межрайонный травмпункт. Перенаправлен спешно и не слишком вежливо. Как случается оказаться перенаправленным любому другому индивидууму, неосмотрительно провинившемуся нездоровьем перед отечественное медициной.
– Травмпункт… – поразил меня адрес.
«Это что же выходит… – задумался. – Кто-то, соблюдая инкогнито, засветил мне болячкой в лоб? Забава такая чужеродная. И она, зараза, болячка, во лбу… залипла. Иначе травма никак не выходит, нет травмы. А при отсутствии травмы – как в картину мира этой долбаной регистратуры прокрался травмпункт? С какого боку, сердешный, подобрался?»
– Да мне туда как слепому в театр! – отозвался я иллюстрацией на очевидную неувязку.
Вскользь подумал, что в театре слепому все же могут порадеть. Например, пересказать коротенько действие. Театр, как правило, ценят добрые, небезразличные люди. Шепот их не смущает, если шепчут они сами. Тяга же к высокому в принципе похвальна, даже если похваленный не может взять высоту в силу обстоятельств.
– Слепой, говорите, в театре? Ну, насмешили. Да кого сейчас чем удивишь?! Вон третью столицу подыскали. Дамаск. Она же Южная. Или Беспокойная. Кому как нравится. Не глупите тут нам! Ступайте, куда сказали, – ответили на мое скрашенное сарказмом и образом удивление так, будто я насорил глупостью, но избавлен от трудов прибрать за собой. – Там ваш доктор.
Мотив переадресации нас с бедой оказался незамысловато простым: в травматологическом пункте шлифовал таланты и навыки хирург, оформленный в поликлинике на полставки. Так сложилось, что именно в тот день он отрабатывал вторую половину ежемесячного вспомоществования, то есть не «поликлиническую» его часть. Таким образом мой маршрут оказался скрупулезно выверенным и фактически безальтернативным, если не принимать во внимание возможность протестного переезда в другой район.
Хирург, пошлепав губами – вот уж не думал, что мой чирей для кого-то может выглядеть аппетитным, – распорядился:
– Приходи ближе к полуночи. Лучше еще позже. Или это уже выходит раньше? Хм… Не лыбьтесь, юноша. Даже если доктор ненамеренно вас развлек. Доктору сейчас не до ерунды. Два перелома. Один как есть весь открытый. Слышишь орет? Сломана нога, а орет рот. Такие вот несуразные сложности в человеческом организме. Хм… Еще ухо пришить. Потом передохнуть. Передохнуть обязательно. В твоих же интересах. Ты же не хочешь, чтобы я с устатку неаккуратно внешность тебе перепахал? Вот то-то же. Доходчиво? Правильно кивнул. И вообще, послушай… Ты, друг мой, не торопись. Подумай глубоко, то есть «энергозатратно»: может, само собой рассосется? Это чтобы ты понял: вершина медицинской помощи – когда оно само… Ну не так, чтобы совсем «само», а по докторскому, заметь, наущению.
– В ужасе перед вашим искусством, маэстро? – схохмил я рисково и от этого чуть хрипловато. Иное объяснение неожиданной хрипотцы: долго перед хохмой молчал.
– Гуляйте, господин юморист, – подтолкнули меня к выходу. – И глядите, лбом ни во что не впечатайтесь. Иначе внутрь чирей прорвет, мозги загноятся, не до шуток будет. Правда, вас тут с такими мозгами… Сказал же – ближе к полуночи подтягивайтесь, с другой ее стороны. Если не оборотень. Луна полная. Хм… И не забывайте, что справка понадобится. Бумага казенная для тех мест, где вы пребываете. Просто так каждому встречному, на лбу меченому… хм… справки не выдаются. Их писать нужно, печатями содержание скреплять. Словом, думайте, вьюнош, над компенсацией трудозатрат. Это для вас не чересчур умно? Не перебор? Нет? Вот и ладушки. Думание – процесс чертовски пользительный. Сама попытка уже роднит с интеллигенцией. Хотя то еще нынче родство: шиш с маслом на скатерти и их же жидкая версия в чашке. Хм… Однако самолюбие! Самолюбие – оно в теплой ванне нежится! Вот и вы свое искупайте. Не сочтите за труд, освежите.
– Мы на «ты» или на «вы»? – зачем-то решил я прояснить.
– На как сложится, – ответили мне с хмыканьем, что, я так понимаю, было скромным проявлением восторга от собственной находчивости.
9
Пройдет время, лет этак с десяток, никак не меньше, и на меня снизойдет понимание масштаба совершенной ошибки. Но жизнь – засада. Той роковой ночью ни от одной живой травмпунктовской души – других, слава богу, там не было, – я не удостоился и убогого намека на то, что моим страданиям, в сущности, почти вышел срок. Безусловно, награда за перенесенное испытание могла бы превзойти любые надежды, потому что… Потому что третий глаз – это настоящее чудо! А я, идиотина, добровольно ослеп на него под скальпелем. Исключительно по собственной дурости. Ни разу не попользовался, вообще ничего не понял, не ощутил. Только потерю неясного. Вот как бывает. Но откуда было костоправам, латалам телесных дыр и пришивалам отнятых частей обо всем этом знать? Эскулапы-то тут при чем? Они о моих нераскрытых возможностях ведать не ведали. Намекни им – кто бы это мог быть? – все одно отнеслись бы с недоверием. И уж точно не поспешили бы поделиться открытием черт-те с кем. «Черт-те кто» – это, разумеется, я. Хотя странно… Мне казалось, что именно тогда, в девяностые, у самого их истока состоялась закладка монументальной традиции делиться с кем ни попадя, то есть с массами, тем, во что сам не веришь.
10
До меня хирургический инструмент, возможно, был применен для нарезания колбасы. Еще версия: им вскрывали консервы. Я отчетливо различал на лезвии налет чего-то инородного, явно пережившего дезинфекцию или попросту избежавшего ее. «Это всего лишь лоб, – успокаивал я себя, – то есть кожа и кость». Красок к переживаниям добавляло мое обоняние, в кабинете пахло не медициной, а домашней кухней. От докторского халата тоже: котлетами и грибным супом. Грибным супом от рукава. На беду свою, я с детства оказался приучен к тому, что домашняя еда – залог здоровья. Так все и сошлось, одно к одному: нужно было сдаваться, и я нужду не подвел.
Частью попы я чувствовал скрутившийся валиком дерматин видавшего виды сиденья и холодный металл в прорехе. Думал при этом: как странно, что одна и та же часть тела по прихоти мебели оказалась в разных климатических условиях. И еще: что бы это могло означать? Вывод был ясен: в одной половине бьется горячее сердце, в другой застывает холодный ум.
На самые брови мне пристроили пластиковый козырек. Длинный, прозрачный, темно-зеленого цвета, на круглой резинке. Такими резинками раньше владел всякий уважавший себя и рассчитывавший на уважение школьник. Ее современные воплощения – «Мерседес» с водителем у школьных дверей, каникулы на Бали, если родителей в бизнесе не нае…бали.
С завязанными по краям петельками и натянутые на пальцы резинки превращались в компактные и трудно отслеживаемые рогатки. Одно удовольствие было скрытно пулять из таких на уроках, поражая безглазые затылки одноклассников.
До восьмого класса, так сложилось, я с постоянством подневольного делил последнюю парту с толстяком Антошей. Его пальцы-сосиски слишком долго сохраняли следы от круглой резинки, поэтому учителя легко и привычно вычисляли в нем хулигана. Тем более, что ни снайперским глазомером, ни реакцией кобры Антоша не обладал. И лицо его слишком долго сохраняло выражение щенячьего восторга от собственной проделки. Зато дрался Антоша за друзей героически. Он бил обидчиков, словно кувалдой, невзирая на проигрыш в возрасте. Поэтому кроме учителей с ним никто старался не связываться. Случалось, что и учителя пасовали перед насупленным и набычившимся переростком.
Мне в школе везло, потому что я был худым, метким, быстрым. То есть мог действовать дерзко и исподтишка. Но еще больше, поскольку плотно дружил с Антошей и тем самым делил с ним ступень на лестнице доблести.
11
Я полулежал в прохудившемся кресле, до зуда под пломбами напоминавшем стоматологическое. Смотрел через козырек на зеленый мир и думал, что синий мир был бы в этом убогом месте красивее. Загадочнее, что ли. А так… Если наш мир был создан Богом, то я не хотел бы им быть. Как-то так или близко к этому выразил свое отношение к миру людей некто Шопенгауэр. В самом деле: чем лукавый не тешится, пока бог почивает?! Могёт ведь и мантию стырить. Или чем там пользуются, дабы мы, человеки, вроде как по собственной воле в свое же дерьмо… Да носом, да с брызгами во все стороны…
Кстати, Шопенгауэр – это не мальчуковая фамилия Шопена, купированная незадачливым и ленивым до написания импресарио.
Не думаю, что эти мысли сложились под влиянием неудачных стекол в солнечных очках. Но если дело было именно в этом, то старина Шопенгауэр в самом деле был крут и его мизантропия совершенно оправдана.
Когда-то я носил козырек с синей слюдой, а сестра – с красной. Красный мир мне категорически не нравился, я его отвергал, не сознавая созвучности с предстоящей историей. Той, что невероятно быстро обучила нас любить деньги, как раньше любили людей – цвет не важен.
Собственно, пространство из-под сестриного козырька было не чисто-красным, а с оттенком малинового. Как дряблое и невкусное желе из скучной коробочки, которым меня вечно пичкали на даче. За неестественный цвет я обзывал студенистую массу химической. Неаппетитный мир был уделом моей сестры, ей он нравился. Она съедала свою порцию желе, мою и покушалась на материнскую. В последнем случае часто проигрывала отцу. Тогда он еще был с нами, но как позже выяснилось, уже не весь: без мыслей о нас и планов на наш счет. Наверное, накопленных впечатлений ему оказалось достаточно, чтобы отбыть из одной жизни в другую. Без магии, без всякой мистики, но с адвокатами и битьем посуды. Хотя надо признать, что разбито ее было куда меньше, чем в охоте за надоедливыми мухами.
– Ей расти, – урезонивала женщина, мать алчного до желе мужчину-отца.
– Вот именно, – парировал мужчина.
Вероятно, он разделял мои опасения насчет нездоровых ингредиентов, но что поделать, не мог побороть собственные порочные вкусовые пристрастия.
Родители всегда брали наши козырьки в Архипо-Осиповку на летние две недели у моря. Неотъемлемая часть детского багажа – козырьки от солнца и хлопчатобумажные платки, клетчатый и в горошек, чтобы прикрывать плечи. Плечи обгорали в первый же день и сразу до волдырей. Они обязаны были обгореть, раз специально для этого случая через треть страны путешествовали платки. Тотальная узурпация любых других возможностей. Полная безальтернативность.
Из-за таких, как козырьки, мелочей, которые ни в коем случае нельзя было поломать, и поэтому в багаже они занимали неоправданно много места, родители шумно ссорились: в багажник нашего «Москвича» всё собранное не умещалось. С обидами и взаимными обвинениями они выгружали что-то из своих вещей, а козырьки с комфортом следовали к морю. Однажды я задался вопросом: чей козырек сыграл бо́льшую роль в разводе родителей – мой или Иришкин? Конечно, мне следовало бы без лишних рассусоливаний признать первенство за слабым полом. Просто из благовоспитанности. Так я и поступил.
Бабушка о родителях говорила, что между ними не случилось ни химии, ни физики, лишь обычная арифметика. Для России, говорила, это не невидаль, вообще не новость, привычно.
– Сколько веков за людей решали – кого за кого отдавать. Вот и выходила любовь по принуждению. А от такой любви дети несчастливыми получались. Потому мы и есть такая страна.
Что она имела в виду под арифметикой? Ясно что: простое сложение. Один плюс один – вышло два. Близнецы. Я и моя сестра. Лузер по принуждению (или все же случайный?) и лузерица добровольная. Звучит как название лекарственного растения, но не лечит. Возможно, с дозировкой сложности.
Сестра шла к сомнительной цели долго, раздумчиво, устремленно. Со мной же всё произошло в одночасье, в раздолбанном кресле травмпункта, по воле раздолбая-врача, бездумно воспользовавшегося моим слабоволием и милосердно одарившего пострадавшую сторону тупой шуткой.
– Чем бы скифы ни болели, – изрек он вроде как в назидание, – а болезни с ними приключались весьма разнообразные, название им было всегда одно: скифилис.
И самодовольно хмыкнул, дебил.
12
От уничтоженного в зародыше третьего глаза, а это безусловно был именно третий глаз, на моем лбу остался небольшой шрам. Поначалу он был неопрятной дыркой, и мне казалось, что так мог бы выглядеть лоб сына Вильгельма Телля, если бы отпрыску этого персонажа не повезло и рука папаши Телля не в меру дрогнула. Сколько вообще детей было у Телля? Сюжет в общем и целом помню, но вот детали о семье Теллей, хоть какие-то пустяковые подробности – нет. Как смыло их невниманием, а может быть незначительностью наряду с главным сюжетом. Я недавно не сразу смог вспомнить имя главного интригана из «Отелло». Яго, если у кого тоже пробелы. Зато жертва всегда на слуху. Или всё дело в названии?