Текст книги "Предатель"
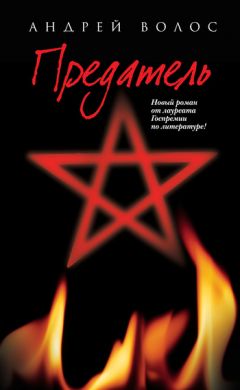
Автор книги: Андрей Волос
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Не дождавшись продолжения, Семен Семеныч неопределенно хмыкнул и встряхнул головой.
Больше не говорили.
Что-то маячило на краю сознания… никак не вспомнить. Ах, ну конечно!
– …Я на зов явился.
…Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.
Дай руку.
– Вот она… о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Машина вырулила на Ленинградский проспект, споро пронеслась мимо Белорусского вокзала, погнала к Садовому…
Явился, да. Сволочь такая… «Дрожишь ты, Дон Гуан». Он не дрожит, нет. Даже странно… Впрочем, что странного? Первая – колом, вторая – соколом… Третья легкой пташечкой. Пожатье каменной десницы… Почему кошелку, гады, сразу не посмотрели? И без того знают, что в ней?.. Ну конечно. Как не знать, если Юрец, предатель, сказал. Так, мол, и так, товарищи. А в кошелке у него то-то и то-то… Какие сомнения могут быть?.. Юрий Колчин доложил. За это, глядишь, прощеньице… ему прощеньице ой как не повредит… провокатор!
Свернули в Благовещенский, пошли петлять переулками, пробираясь куда-то к Никитским.
Но как же так?!
Лицо Юрца выплыло из того быстрого чередования тьмы и света, какое всегда сопровождает езду по вечернему городу. Знакомым жестом поправил очки, взглянул серьезно… а вот и усмехнулся ободряюще.
Не может быть!..
Свернули во дворы, обогнули детскую площадку… скрипнули тормоза.
– Прошу.
– Вот уж спасибо… сколько с меня?
Молчат, суки. Типа шуток они не понимают.
Впившись в кошелку (Кирина баба Сима сказала бы: вот уж как черт за грешную душу), выбрался вслед за правым.
Дом неприметный – облезлый двухэтажный особняк. Окна высокого первого этажа зарешечены. И завешены изнутри. Ясное дело, секретничают…
Подвели к крыльцу.
– Спасибо, ребята, – сказал Семен Семеныч. – Теперь уж мы сами. До завтра…
Дверь распахнулась, упал клок света; вахтер посторонился, пропуская: своему хмуро кивнул, Бронникова окинул цепким взглядом.
– Присядьте, – предложил Семен Семеныч.
– Спасибо, постою. Позвонить можно?
– Сейчас, сейчас…
И ускользнул, гад, куда-то.
В другом конце коридора у торцевого окна с широким подоконником трое погогатывали с папиросочками, свет потолочных ламп слоился в дымном воздухе. Приглядевшись, Бронников понял, что один из трех, оказывается, женщина. Между дверьми кабинетов (в который именно шмыгнул Семен Семеныч, он не заметил) висели по стенам бордово-желтые плакаты. Ближайший обрисовывал принципиальное устройство пистолета Макарова. Следующий – приемы стрельбы из него. Тут же, кстати, был пришпилен лист с результатами стрельб: напротив фамилий значились, должно быть, выбитые очки; большие числа были обведены красным, меньшие – синим: ударники, стало быть, и отстающие. На противоположной стене схематичный пожарник поливал из шланга объятый пламенем дом; наличествовало и сакраментальное «01».
Пока Бронников немотствовал, все это разглядывая, ступени над его головой заскрипели, заухали; Семен Семеныч (как он наверху оказался? вторая лестница?) – уже не в плаще, а в темно-сером костюмчике и белой рубашке, и довольно приветливо:
– Герман Алексеевич, поднимайтесь! Только на перила там не очень… шаткие.
Поднялся.
Распахнув дверь кабинета, хозяин вежливо пропустил гостя, предложил сесть и, только когда Бронников воспользовался стулом (хотел было подвинуть, маленько нарушив гнетущий геометризм расположения: дудки, привинчен), занял свое собственное место за куцым письменным столом, совершенно пустым, если не считать телефонного аппарата, графина, пепельницы и спичечного коробка.
Достав из кармана, прибавил к сему сиротскому имуществу початую пачку сигарет «Пегас».
Секунд двадцать молчали. Бронников взглянул направо-налево. Разглядывать, как и на столе, особо нечего – сейф, Дзержинский на одной стене, Брежнев на другой, трехрожковая люстра. Окно наглухо закрыто плотными синими шторами. На сейфе почему-то желтый пластмассовый радиотрансляционный передатчик «Сибирь», какому место на коммунальной кухне.
Показалось, что Семен Семеныч смотрит в упор; вскинув взгляд, убедился, что так оно и было: откинувшись на стуле, Семен Семеныч задумчиво рассматривал его, как будто пытаясь для себя что-то решить.
Лицо у него было широкоскулое, смуглое, чистокожее; нос тонкий, с небольшой горбинкой; взгляд серо-зеленых глаз – ясный, открытый; темные, зачесанные со лба назад волосы, в которых серебрилась седая прядь (даже сейчас, при искусственном свете ее хорошо было видно), придавали его облику мужественности; и если бы не выражение холодного любопытства, это лицо вполне годилось бы, пожалуй, для изображения на афишах и агитационных плакатах.
– Так это… позвонить-то?
– Не работает, – отозвался Семен Семеныч. – Поломка на линии.
– Ах, поломка, – покивал Бронников. – Понятно, понятно… Такие деньги страна на вас тратит… народные, между прочим! А у вас, бедолаг, и телефона нет. Что за несчастное ведомство!..
Семен Семеныч равнодушно пожал плечами.
Бронников уже чувствовал, как злой бес принимается щекотать горло: цап-царап коготочками! цап-царап! то ли рассмеяться налаживает… то ли блевануть?
– Семен Семеныч! – сипло сказал он. – Простите великодушно. Звание ваше я могу узнать?
– Я удостоверение показывал…
– Да разве разглядишь! Вы своими удостоверениями как воробьи машете.
– Вам мое звание ни к чему. Доведут по мере надобности.
– Но позвольте!.. А как же мне к вам обращаться? Вы – лицо государственное. Так сказать, при исполнении. Не «дяденькой» же?
Семен Семеныч поднял взгляд от бумаг.
– Герман Алексеевич, что вы паясничаете?
– Отчего же! – возразил Бронников. Бес щекотал все пуще: едва сдерживался, чтоб не расхохотаться. – Вовсе нет! Просто хочется по форме, по закону!.. я же должен как положено… ну хорошо, можно вас маршалом называть?
– Хоть генералиссимусом, – буркнул Семен Семеныч.
– Отлично! – обрадовался Бронников. – Товарищ генералиссимус! Разрешите оправиться!
Семен Семеныч снова тяжело на него посмотрел, потом все же нажал какую-то кнопку.
Через несколько секунд дверь открылась, вошел чубарый парень в форме с сержантскими лычками на погонах… и в руках у него был карабин, бодро блестевший плоским штыком.
Сердце оборвалось: именно в ту секунду понял нечто окончательное.
– Встать! – скомандовал сержант (Семен Семеныч, переложив ответственность на плечи конвойного, уже и вовсе не обращал внимания не происходящее, строчил себе и строчил). – Вперед!
С усилием встал, двинулся; не могло, конечно, такого быть, но казалось, блеск штыка бросает вперед и под ноги синие блики.
– Направо! Дверь открыть! Оправляйся!
Вопреки ожиданиям, за перекошенной дверью сортира обнаружился не унитаз, а вонючая буро-потечная дыра: как на вокзале, с двумя стальными подошвами по бокам; ржавый бачок смотрел с самого потолка. Пережив легкое остолбенение, потянулся было прикрыть створку.
– Отставить!
– Но…
– Оправляйся!
Пальцы не слушались. Деурез тоже заколодило.
– Ну ты что там – морским узлом завязал? – добродушно спросил сержант через минуту.
* * *
– Оправились? – поинтересовался Семен Семеныч, когда он снова сел.
– Наилучшим образом, – буркнул Бронников. – Если это все, за чем привозили, разрешите откланяться.
Семен Семеныч откинулся на спинку кресла, вздохнул.
– Зря вы со мной так, Герман Алексеевич. Я ведь по-хорошему хотел.
– Да ну?
– Серьезно.
– У вас, видать, свои понятия… Мордой об стол – это «по-хорошему». Ногой по яйцам – «со всем уважением».
– А что мы? – удивился Семен Семеныч. – Что мы вам плохого сделали?
– Из Союза выгнали – раз, – ответил Бронников. – Фактически – сломали жизнь. Ни за что ни про что. Я же говорил тогда: не давал я ни в какой журнал никакой рукописи, не знаю, как она там оказалась… На работу мешали устроиться – два. У меня, между прочим, шесть изобретений в прежней жизни, а я сторожем по вашей милости. Теперь на улицах ловите, как собаку… Жене сказал, что скоро буду – позвонить не даете!
– Перестаньте, – отмахнулся Семен Семеныч. – Что вы заладили! Говорю же: поломка на линии… Что касается Союза вашего, мы вообще ни при чем. Это совершенно самостоятельная организация. Сами решают, что к чему… И потом: зачем вам в конструкторское бюро, Герман Алексеевич? КБ для вас – чистая смерть. Там не попишешь, – заметил он, усмехаясь. – То ли дело в лифтерах! Не согласны?..
Бронников с усилием улыбнулся.
– Ну конечно. Писатели – они сами. Самостоятельная организация. Даром что генералы возглавляют… А вы – вообще ангелы: во всем белом. И летаете высоко… все видите. Знаете, кому что: кому в Союз, кому в конструкторское бюро, кому под лестницу.
Семен Семеныч вытряс сигарету, сунул в рот. Чиркнул спичкой, прикурил, глубоко затянулся. Кивнул приглашающе:
– Кури́те.
– Свои есть…
– Ожесточение в вас, – сказал он, выдыхая сизый дым вместе со словами и глядя на Бронникова с таким выражением, как будто и в самом деле чего-то не понимал. – Серьезное ожесточение. Ведь я ничего плохого не хотел. Позвонил пригласить к себе. Между прочим, у нас Олимпиада на носу. Ведем большую профилактическую работу. Вы в этой связи находитесь, некоторым образом, в круге нашего внимания… Поговорить, просто поговорить! Заметьте – не сотрудничество предлагал, а просто встречу!
– Вот уж спасибо, – ввинтил Бронников. – Мне перед вами, Семен Семеныч, прямо поминутно расшаркиваться приходится. Благодетель вы мой.
– А вы меня обхамили, – печально сказал Семен Семеныч, пропустив мимо ушей колкость. – Почему? И вообще: почему вам не живется? Пользуетесь всеми правами советского человека, верно?.. почему бы не жить как все, а? Объясните, если можете.
Бронников хмыкнул. Честно сказать, Семен Семеныч попал в самую точку: он и сам подчас задавался этим вопросом. Ответ в слова не облекался. Но все же был ясен.
– Объяснения хотите. Что ж… У вас собака есть?
Семен Семеныч не нарушил игры, кивнул:
– Есть.
– Охотничья, наверное?
– Такса.
– Норная, – удовлетворенно кивнул Бронников. – А у меня пудель. Черный. Как у Фауста, если понимаете, о чем я…
Семен Семеныч презрительно скривился.
– Да… Пошли нынче утром в лес… в Тимирязевский. С поводка спустил. Всегда на глазах, а тут вдруг пропал. Зову – нету. Наконец появляется с важным видом… Оказывается, нарыл какую-то падаль. Думаю, кошку. Крысы не хватит, чтобы так вываляться… Должно быть, поздней осенью сдохла. А теперь оттаяла. И пришла в самую консистенцию. Вроде желе. А он в ней боками, боками… и спиной. Перламутровая такая слизь.
Бронников покачал головой, Семен Семеныч хмыкнул.
– Запах – дыхание спирает. Зловоние окрестностей ада. Такой силы и густоты вонь – хоть ножом режь. Буквально атом или там молекула – тут же горло перехватывает. Одним словом, иприт!
– Вы, собственно, зачем мне все это?
– Да вы дослушайте, я уже заканчиваю… Ну вот. Я на него сгоряча орать. Сидеть, мол. Паразит, мол. Облизывается испуганно, к земле прижался: понимает, что провинился. В общем, скандал. А когда остыл, думаю: в чем, если разобраться, провинился пес? За что я на него наорал хуже фашиста? «Всяк следует своей природе…» Нормальная охотницкая собака. Ищет способы отбить собственный запах. Ведь так?
– Допустим.
– Вы тоже, наверное, накричите с досады? Даже наказать можете. Вы ее поводком – а она не понимает, за что. Но не кусается, а визжит. Визжит и боится. И любит вас. Вы ее по заду – а она еще больше любит. И надеется, что простите. Ведь так?
– Ну и что?
– А то, что человек – не собака, – вздохнул Бронников. – Он иначе устроен.
Морщась, Семен Семеныч загасил в пепельнице окурок. Помолчав с минуту, сказал:
– Занятно… Так или иначе, Герман Алексеевич, в преддверии Олимпиады мы не можем допустить, чтобы вы свободно орудовали за нашей спиной. Знаете, что советское правительство уже выслало несколько писателей? Войнович, Аксенов, Копелев. Вы, насколько мне известно, не состоите в Союзе, – издевательски ухмыльнулся. – Но все-таки: не боитесь, что с вами что-нибудь похожее случится?
– А почему вы мне задаете такой вопрос? – ощетинился Бронников. – Обвиняете в чем-то?
– Конечно. В клеветничестве. В распространении лживых фактов. В антисоветской деятельности. – Семен Семеныч выдвинул ящик стола и достал какую-то папку. – Забыли, что писали?
– Я писал правду…
– Правда не требует частого повторения! – заметил Семен Семеныч, развязывая тесемки. – Это у вас навязчивая идея, а не правда. Сколько можно повторять: правда давным-давно обнародована.
– На Двадцатом съезде? – усмехнулся Бронников.
– Именно.
– На Двадцатом съезде все больше о том толковали, за какие грехи Хозяин своего брата коммуниста умерщвлял. За что участников Семнадцатого съезда в распыл пустил. Под фанфары-то назвали «съездом победителей», а потом-то оказалось – «съезд расстрелянных»! Вот какую там правду искали – свою правду, партийную!.. А про Ольгу Князеву Хрущев на Двадцатом съезде и словцом не обмолвился. Да если бы и обмолвился! Если бы с высокой трибуны посетовал: мол, была такая несчастная беспартийная женщина – Ольга Князева! Жизнь ее прошла так-то и так-то, хлебнула она того-то и того-то!.. Даже если бы так, что с того?!
Замолчал, задохнувшись. Перевел дух. Сердце тяжело бухало.
– Почему я не могу повторить известную мне правду в художественной форме?
– Это не художество, а антисоветизм, – возразил Семен Семеныч.
– Ничего подобного! – снова вспылил Бронников. Мелькнула мысль: специально, что ли, доводит? – Если на то пошло, это у вас тут антисоветизм!
– Почему же? – Семен Семеныч недобро сощурился.
– Потому что Советы возникли как органы власти, формируемой по территориальному признаку! Органы власти, а не органы бутафории! И диктатуры партии над ними не предполагалось: они были призваны осуществлять рабочую демократию. А вовсе не партократию, если вам не понятно! Было такое? Откройте учебник по истории КПСС, убедитесь: было! Эту систему уничтожил Сталин! И до сих пор никто не пытается восстановить! А я бы, например, хотел это сделать! А вы мешаете, вы стоите на защите того, что есть! Кто же после этого антисоветчик?! Кто стоит на страже антисоветизма?!
Бронников говорил, понимая, что происходит совсем не то, чего бы он хотел. Он бы хотел сохранить статус-кво: ну да, есть такой писатель – Бронников… мало кому интересный. В прошлом был замечен в недозволительных действиях… пусть и не по его воле они случились. А теперь, как дали разок по голове, затих… сидит вахтером… никуда не суется. И ладно, пусть сидит себе… вот какое статус-кво хотелось бы сохранить.
А резкие слова, на которые умело провоцировала его эта сволочь, портили все дело.
(Между тем время незаметно скатилось глубоко за полночь, в голове звенело, томила жажда, мысли путались; статус-кво – вот что хорошо бы оставить в целости, вот!.. Почти забылось уже, что Юрец предатель… а ведь так и есть!.. И почему, кстати, никто так и не полез в кошелку?.. И Кире, Кире позвонить! Ночь глухая!.. она уж сама небось Юрцу давно трезвонит… не знает ведь, что все это по его милости! Иуда!.. Стоп, но почему в сумку не полезли?!)
Семен Семеныч уважительно покачал головой.
– Да-а-а… Ну вы даете, Герман Алексеевич. Будь у нас другие отношения, я бы вам в системе Политпросвещения местечко подыскал. Вот где лафа!.. – Он мечтательно сощурился. – Впрочем, если думаете, что удивили ученым монологом, то ошибаетесь. Я и не такое слышал. Пожалуйста.
Сунул руку куда-то под стол, чем-то там щелкнул, клацнул – и вдруг из коммунального громкоговорителя послышалось сначала шипение, а потом весь набор звуков, сопутствовавших, скорее всего, какому-то скромному застолью – звяканье вилок, стук, голоса; долетело несколько невнятных реплик: «Да ладно тебе!.. Тот еще деятель!.. Ничего подобного!..»; еще через секунду раздался вполне различимый, внятный голос, и несколько мгновений Бронников тупо вслушивался, пока не осознал, что голос этот принадлежит ему:
– Ладно вам, граждане выпивающие, глупости говорить! Какой социализм? Если социализм – это смесь феодализма и рабовладения, тогда я соглашусь: да, у нас социализм! А если социализм – это такой строй, при котором государство способно обеспечить максимальный уровень справедливости при минимальности угнетения – тогда извините!..
Вклинилось сразу несколько голосов, погомонили, потом опять Бронников:
– Вот спасибо, разъяснил! А то мы не знаем, что марксистское понимание социализма к нам никаким боком не подходит! Самоуправление? – карается хуже чем самоуправство! Отмирание государства? – скорее мы сами сдохнем. А уж что касается отчуждения средств производства, то никогда прежде они не были так далеки от личности!..
Семен Семеныч снова щелкнул.
– Хватит? Или еще послушаете?
– Отчего же! – сипло сказал Бронников и откашлялся, прочищая севший голос. – Можно еще. Занимательно…
Он перевел взгляд и стал тупо смотреть, как пальцы Семен Семеныча неспешно завязывают только что ими же развязанные тесемки… Зачем, спрашивается, завязывает, если недавно развязал? Что в этой папке?.. И вдруг понял: да рукопись же, украденная у него рукопись!
– Вот вы не верите, а я на самом деле с вами по-хорошему собирался, – вздохнул Семен Семеныч, отодвигая папку. – С одной стороны, и впрямь: во время Олимпиады вам в Москве делать нечего: не такой уж вы, прямо скажем, спортсмен. Поэтому возник план предложить вам поехать на это время в Фирюзу… не бывали в Фирюзе?
– Не приходилось, – буркнул Бронников.
– Чудное место! Рай божий на земле! Красота! Сады кругом! Ручьи! Соловьи! Щебет! Журчание! Фрукты свежие! Руку протянул – персик! Другую протянул – абрикос! И в том раю – пансионат Союза писателей Туркмении. Посидели бы месячишко, пока здесь олимпийская пыль не уляжется. На всем готовом… а? Ведь как хорошо все могло бы устроиться!..
Ни секунды он в это не верил – и все же сердце (доверчивый, слабый кусок мяса) сжалось на мгновение: и правда, как хорошо все могло бы устроиться!
– А вы вон чего, – вздохнул Семен Семенович. – Демонстрируете навязчивые идеи. К докторам вас надо, Герман Алексеевич, к докторам.
* * *
Так он оказался в западне.
И главным чувством стало отчаяние.
Позвонить Кире позволили через пять дней, уже когда насовсем в больнице прописался…
Что же касается кошелки, то Семен Семеныч, вопреки всякой логике, интереса так и не проявил: и на предварительное освидетельствование к профессору Глянцу Бронников с ней таскался, и в тюрьму потом привез. Тюрьма оказалась вроде вокзала: огромный зал ожидания, наполненный гулом множества голосов, перегороженный рядом столов: по одну сторону – голые пассажиры возле своих вещей, по другую – люди в серых халатах.
Раскрыв папку и тупо полистав, контролер спросил:
– Что это?
– Это?.. кандидатская! – нашелся он.
– Не положено, – отрезал тюремщик.
Больше Бронников той слепой машинописной копии не видел.
Размышлял о ней абстрактно – куда все же делась?
Неужели зачитали?..
Сопоставив факты, с облегчением утвердился, что Юрец ни при чем: дело было не в «Технологии власти»: просто прослушивали, гады.
Закрытие
Пересиливал, пересиливал сон – и пересилил: проснулся, дернувшись и мыкнув.
– Ты чего?
Степанов сидел на соседней койке, обеспокоенно подавшись вперед.
– Что?.. Да ничего… приснилась дурь какая-то…
– А-а-а, приснилось, – понимающе протянул Степанов. – Дурь, говоришь?.. Те-те-те… видишь, вот и я говорю: сюда так просто-то не ло́жут.
– Ну да…
По неопытности, пожалуй, и возражать бы взялся насчет того, ло́жут сюда просто так или не ло́жут. Но четвертый месяц грозил вот-вот перевалить в пятый, и он давно уяснил, что спорить не нужно.
● Монастыревская больница, 3 августа 1980 г.
– Я тоже сначала не понимал, – толковал Степанов.
Бронников встретил его уже в настоящем его состоянии, и не знал, такими же тусклыми были глаза Степанова прежде или нет.
– Я ведь когда домой пришел и увидел, на самом деле с ума сошел… хорошо, что полечили, хорошо.
Это он имел в виду: когда пришел домой и увидел обвалившийся потолок. Мокрый потолок упал на восьмилетнюю дочь – она сидела за уроками. Девочка несколько недель пролежала в больнице. Сам же Степанов, перед тем два года обивавший пороги учреждений с просьбой сделать ремонт крыши, течь которой порождала массу неприятностей, а теперь довела до трагедии, кинулся в ЖЭК: «Какие вы коммунисты?! Вы бюрократы! Сволочи! Вы предали Советскую власть!..»
И доорался: сначала вызвали милицию… он и там пытался объяснять, что к чему… так все и вышло.
Степанов смотрел на него со слабой улыбкой и кивал, повторяя:
– Хорошо, что полечили… Хорошо.
– Ну да, – согласился Бронников. – Хорошо, конечно.
– Тебя тоже вылечат, – убежденно сказал Степанов. – Не будет снов плохих. Хорошие будут.
– Ты хорошие видишь? – спросил Бронников.
– Я-то? – Степанов задумался, посидел пригорюнившись, низко свесив голову; через полминуты закрыл глаза, мягко повалился на бок, подвигал худыми ногами, зарываясь под одеяло.
Бронников вздохнул.
Насчет снов Степанов, сам того не зная, был прав: сны являлись страшные. Чаще всего почему-то именно про фашистов. Вот и сейчас: концлагерь, что ли, немецкий это был?.. Обычно просто вбегали в дом, где Бронников (кажется, он снова становился ребенком, очень похожим на Лешку) от них прятался: неслись гулкой толпой – кто в сером своем мышином, кто в дьявольски красивом черном эсэсовском: безжалостные, оскаленные, с автоматами. Неслышно скуля, он зарывался в какие-то ватные кипы, ворохи тряпья, по-собачьи рыл сено, укрываясь его мокрыми ошметками, кричал. Потом кто-нибудь толкал в плечо, а то и сам просыпался – в поту, с бешено бьющимся сердцем.
Раньше такого не было. Ну приснится, бывало, что-то страшное… но всегда какое-то абстрактно страшное, невнятное: отголоски пещерных ужасов. А фашисты? И почему именно здесь, в больнице, так одолели? При чем тут они?..
– Во давит Степанов-то, – сказал старик Никаноров. – Ну пускай, что ж. Может, ночью спать не будет. Не обоссытся тогда…
Степанова долечили, запах от его койки серьезный шел… Ну да тут запахов и без него хватало. Вонью больше, вонью меньше…
– А уснет – так опять обоссытся, – справедливо заключил Никаноров.
Говорил старик без злобы, по-доброму. Он и вообще в состоянии просветления выглядел мужиком житейски приемлемым; когда же накатывало, просто переставал вступать в контакт: погружался в себя и целыми днями, если разрешали поваляться, елозил по кровати, судорожно коля спичкой кусочки порванного в лоскуты тетрадного листа. Лоскутки были немецкими солдатами, на кровати шла война, Никаноров воображал себя то ли Жуковым, то ли самим ангелом мщения. Попав солдату в сердце, радостно смеялся, промахнувшись, сухо сообщал, что тот смертельно ранен. Ожесточение беспрерывной битвы занимало его дня три. По ночам тоже вошкался, ворча и вскрикивая; потом отпускало, приходил в себя…
Куда затейливее вел себя другой старик – Груздев. Этому втемяшилось, что стал собакой: спал более или менее по-человечески, а вот передвигался на четвереньках и гавкал на разные лады: кормежку встречал радостным лаем, санитаров – злобным. Ложкой не пользовался, жрал из миски, лакая. Неделю назад Груздев покусал дежурную медсестру, не пускавшую к телевизору, и тогда старика уконопатили в буйное…
* * *
Зарешеченное окно в глухой серый двор, небо вечно затянуто тяжелыми облаками. Несколько дней назад под вечер в доме напротив женщина мыла окно, и нежданное солнце упало прямо на подушку. Подложил ладонь: линии судьбы высветились, а тепла не оказалось – отраженный… Потом она вернула створку на место и луч улетел к другим.
Поерзал ногами. Нашарил тапочки, обулся.
Тихий Святкин стоял, как обычно, склонив плешивую голову, на коленях возле кровати: копошился, перебирая под матрасом свои сокровища – камушки, обрывки газет, заскорузлую обертку от творожной массы, еще какую-то дрянь. Старик Никаноров бранил его редким словом «мшелоимец». Оставалось загадкой, где Святкин свой хлам добывает – чистотой больница похвастаться не могла, но мусор, во всяком случае, на полу не валяется: занимаясь трудотерапией, больные, в положенную им очередь, с утра до ночи шваркали по кафелю вонючими тряпками. Тем не менее стоило Святкину выйти в коридор (делал он это неохотливо, с опаской, страшась, вероятно, за сохранность оставляемых под матрасом пожитков), как он, вернувшись, озабоченно выковыривал из карманов новое добро: половинку прищепки, дырявую подошву… Раз в две-три недели кто-нибудь из санитаров с матюками лишал его всего; день или два убитый утратой имущества Святкин лежал на кровати лицом вниз, потом упрямо принимался восстанавливать хозяйство. Упекли его соседи по коммуналке; Теремкова, смеясь, рассказывала, что комнату свою Святкин забил до упора, жил в норе, не досягавшей окна…
Бронников сразу выбросил мысль обзаводиться каким-нибудь имуществом: бумагу с карандашом под матрасом все равно не спрячешь, это не обертка от творога – санитары отнимут; а без всего остального он обходился.
Со вздохом поднявшись, вышел в коридор.
Тут было слышнее: залихватское уханье телевизора, звонкий голос медсестры, повизгивание, громкое бормотание, чей-то бесконечный вой из-за дверей буйного – похожий на младенческое уа-уа, но тоном ниже, дальнее погромыхивание тарелок – все сливалось в мерный шум вроде голоса моря у скал или ветра в верхушках деревьев.
Заглянул в шестую – Митина койка пуста. Побрел в туалет. На обратном пути, еще поеживаясь и чихая (хлорка ела глаза) снова заглянул. У окна все так же громко, с надрывом в голосе – аж в углах звенело – рассуждал инженер Блуштейн:
– Броня крепка, и танки наши быстры. Что это значит? Значит ли это, что наши танки самые крепкие и самые быстрые? Ведь немецкие танки тоже были крепкие и быстрые. В частности, танк «Тигр» был очень крепкий и очень быстрый. Но в песне поется именно так: броня крепка, и танки наши быстры. Можно ли сделать вывод, что быстрота и крепость наших танков – главная причина победы? А если нет, то почему песня настаивает на том, что танки быстры, а броня крепка? Ведь именно так поется в песне, получившей всенародное признание: броня крепка, и танки наши быстры!..
Слушал его, подремывая, только человек из Кишинева; лицо у него было сплошь покрыто заскорузлой малахитовой коркой. Он ежевечерне раздирал себе физиономию, обильно кропя кровью все вокруг; раны мазали зеленкой, ногти стригли под корень; ни то ни другое не оказывало пока надлежащего действия…
Митя обнаружился в закутке возле столовой у книжного стеллажа (нижний ярус занимали потрепанные экземпляры «Мурзилки» и «Советского воина», сверху пылилось десятка три книжек вроде «Советского народа на новом этапе развития общества»). Замер, уткнувшись в боковину.
У Бронникова сердце екнуло – столько горя было в худой мальчишеской фигуре!
– Дмитрий! Ты чего?
Вздрогнул. Лицо мокрое. Раз-два! – тыльной стороной ладони по глазам.
– Ничего…
– Что случилось?
– Ничего не случилось!
– Ну-ка сядь!
Всхлипнув, оторвался и сел.
– В чем дело?
Вздохнул.
– Да что… Тяжело мне, Герман Алексеевич…
– Понимаю, – сказал Бронников. – Держись. Надо держаться.
– Такое чувство, что сам скоро… – Митя криво усмехнулся. – Петухом закричу.
Бронников кивнул.
– Знаю… отвлекайся. Стихи читай. Письма пиши. Мемуары… Ни на минуту нельзя расслабляться. Зевнешь – сломают.
– Письма, говорите? – со злой усмешкой переспросил мальчик. – Вот, почитайте. Мама привезла…
Бронников развернул тетрадный лист.
Круглый девический почерк:
«Здравствуй, Митя! Как ты поживаешь? Я поживаю хорошо…»
Дочитав, медленно сложил.
– Да-а-а… ну что сказать…
Выражение серых, мучительно сощуренных глаз было понятно: ждет чуда. Бронников взмахнет волшебной палочкой и скажет что-нибудь вроде «рики-тики-тави». И тогда Клава снова полюбит… и перестанет бояться, что Митя останется психом на всю жизнь… В сущности, хорошая девочка, наверное. Все как на духу выложила: что она, конечно, и Митю любит, и крепкую семью хочет, но мама консультировалась, и ей отсоветовали. Последние фразы тоже хоть куда: «Прощай, Митя. Выздоравливай. Больше не пиши».
– Ну что тут скажешь, – вздохнул Бронников. – Можно и так посмотреть, что повезло тебе…
Всхлип.
– Почему это?
– Потому что если б в дурку не попал, так мог и не узнать, какая она. А характер – хуже шила. В мешке не утаишь, когда-нибудь вылезет… Сейчас ты просто плачешь – а как тогда бы обернулось?.. Забудь.
Митя вздернул подбородок.
– Вы!.. вы!.. что вы понимаете?! Мы с четвертого класса за одной партой сидели!
– С ума сойти – с четвертого класса!.. Ты не в школе. Что за человек она, если может такое в больницу написать?! Где тебя держат ни за что!.. Ладно бы еще – в армию! В армии – долг! В армии – Родину защищать!.. – распалялся Бронников, сам плохо понимая, при чем тут армия, при чем Родина, но чувствуя, что Мите сейчас нужно что-то именно такое. – Ладно если б она на военный корабль писала! На подводную лодку! Я бы даже это понял! Но сюда?! Сюда?! Забудь, и кончим с этим!..
При последних словах Митя с облегчением разрыдался, уткнув в колени острые локти.
– Бронников! – донеслось от поста. – Броннико-о-ов!
Послышался стук приближавшихся шагов. Санитар хмуро оглядел их (Кайлоев это был, татарская морда, чертов садист, вечно искал, к чему бы придраться), шмыгнул носом и сказал хмуро:
– Бронников! Ты что тут ныкаешься? Не слышишь? Теремкова вызывает!
И встал у стены, подбочась: плетки ему не хватало, по голенищу похлопывать.
– Иду, иду… Митя, посиди здесь, я скоро вернусь. Не уходи.
Митя кивнул, снова вытер глаза, подпер голову, глядя ему вслед.
Шагал Бронников медленно, по-стариковски: шаркал подошвами, не поднимая глаз и сутулясь. Линялое больничное одеяние и бритая голова были здесь у всех, не удивишь; а вот заметив его погасший, почти безжизненный, обращенный внутрь себя взгляд, любой психиатр с удовлетворением отметил бы, что пациент находится на пути к выздоровлению.
* * *
Теремкова Анна Николаевна – это была его лечащий врач.
Теперь-то он привык к тому, что есть лечащий врач… (Есть еще заведующая отделением Грудень Кларисса Евгеньевна… та еще сука эта Грудень.) Привык к тому, что он на положении больного: не в том смысле, что за ним должны ухаживать, давать бульон и всякое такое, а в том, что при любом проблеске воли начнут стирать в порошок.
Пришло в голову: в порошок тоже по-разному стирать можно. Скажем, если человек трет сыр для макарон, ему все равно, сколько крупинок мимо тарелки упадет; если же аптекарь готовит драгоценное лекарство, проследит за каждой. Здесь терли по-аптекарски.
Но все же в Монастыревке, по сравнению с «Кащенкой», лечение оказалось довольно слабое. Напускать на себя вид совершенно подавленного, почти неживого человека с мертвыми глазами не составляло труда (он скоро понял, что только этот простой прием позволяет избежать новых лечебных процедур и медикаментов), а вот по-глянцевски взяться за полутруп и рьяно попытаться выбить-таки из него искру живой жизни – то ли руки у врачей до этого не доходили, то ли просто воображения не хватало.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































