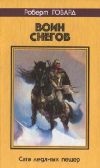Текст книги "Ночи в цирке"

Автор книги: Анджела Картер
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Очень достойная была дама, – сказала Лиззи. – Нельсон была добрая, это уж точно.
– Да, – согласилась Феверс. – У нее была одна странность, сэр; из-за своего sobriquet – прозвища – она всегда носила адмиральскую форму. От нее ничего нельзя было скрыть; ее единственный глаз пронизывал как иголка, и она любила повторять: «У меня свой маленький корабль». Ее корабль, боевое судно (хотя иногда она со смехом говорила: «Корабль-то – пиратский и идет под фальшивым флагом») – лодка наслаждения, причалившая, как это ни странно, на сонной Темзе.
Лиззи сверкнула глазом в сторону Уолсера и перехватила повествование:
– И, если можно так выразиться, с грот-мачты этой барки, с самой верхотуры, моя девочка совершила свой первый вылет. Было это так…
– Представьте себе, насколько я была удивлена в одно погожее июньское утро, когда с обычным тщанием наблюдала за нашей голубиной семьей и увидела, как один малыш проковылял к краю фронтона, озираясь, словно пловец, раздумывающий, не слишком ли холодна вода, в которую ему предстоит нырнуть… и пока он так поеживался и оглядывался, любящая мамаша подошла сзади и просто смахнула его с карниза! Он камнем рухнул вниз, и сердце мое упало вместе с ним; я в ужасе вскрикнула, но, не успел мой голос затихнуть, как в его маленькой головке, должно быть, всплыли все материнские уроки, он взмыл прямо к солнцу, мелькнул в небе белой строкой раскрывшегося крыла и исчез из виду.
– Я так и сказала Феверс: «Делать нечего, дорогая, придется твоей Лиз столкнуть тебя с крыши».
– И мне показалось, – сказала Феверс, – что Лиззи, готовая швырнуть меня в свободные объятия воздушного вихря, устраивает мое замужество с самим ветром.
Она крутанулась на табурете и озарила Уолсера таким предсвадебным восторгом, что он зажмурился.
– Да! Я должна была стать невестой этого буйного незримого скитальца, иначе бы я не смогла жить.
– Дом был пятиэтажный с маленьким садом позади, спускавшимся к реке. У нас в мансарде был лаз на чердак, а оттуда – еще один, ведущий на крышу. И как-то безлунной июньской ночью или, скорее, ранним утром в четыре или пять часов, – нам, как и ведьмам, требовались темнота и уединение – Лиззи и ее воспитанница выбрались на черепичную крышу.
– Иванов день, – сказала Лиззи. – Ночь на Иванов день, или раннее утро. Неужели не помнишь, милочка?
– Иванов день, точно. Зеленый поворот года. Конечно, помню.
Пауза в один удар сердца.
– В доме все стихло. Уехал последний кэб, увозя последнего клиента, у которого не достало денег, чтобы остаться на ночь, и за задернутыми шторами все погрузилось в сон. Даже воры, головорезы и разбойники, что рыскали по убогим улочкам округи, отправились на покой: кто довольный добычей, кто – нет, как кому повезло. Казалось, город затих в ожидании: в напряженной звенящей тишине все готовилось к небывалому событию.
– Несмотря на ночную прохладу, она была совершенно голой: мы боялись, что одежда помешает живому движению тела. Мы карабкались по черепице, и слабый ветерок, какой бывает на высоте, тихонько овевал печные трубы; стояла мягкая прохладная погода, и лапочка моя вся покрылась мурашками, правда ведь? – так вся дрожала. Крыша была не очень крутая, и мы добрались до водосточного желоба с той стороны дома, откуда видна была наша милая Темза, сверкающая, словно клеенка, когда в ней отражался мерцающий свет от фонарей лодочников.
– И вот тогда меня охватил панический страх, страх не только за то, что мы сейчас на горьком опыте убедимся, что крылья у меня – как у курицы или как недоразвитые отростки страуса, что они суть некая физическая иллюзия, которую можно видеть, но которой нельзя пользоваться, сродни женской красоте. Нет, я боялась только того, что когда утренний свет, уже начинавший приподнимать ночное одеяние неба, коснется своими невидимыми пальцами стен дома, он обнаружит в саду матушки Нельсон оставшуюся от меня груду переломанных костей. Где-то в глубине животный страх перед физическими увечьями смешивался с непонятным ужасом, заставившим меня в самый последний момент прильнуть к юбке Лиззи и умолять ее отказаться от нашего замысла, ибо я испытывала самый страшный из кошмаров – перед непоправимым отличием, которым я буду отмечена в случае успеха этой попытки. Я страшилась покалечить не тело, а душу, сэр, я смертельно боялась этой пропасти, которая, разверзшись, навсегда сделает меня несовместимой с остальным человечеством.
Я боялась доказательства своей уникальности.
– И все-таки, не всякий ли благоразумный младенец, находящийся в матке, умей он говорить, воскликнул бы: «Оставь меня здесь, в темноте! в тепле! рядом с собой!» Но природу не обманешь. И это маленькое существо закричало, что ни за что не станет тем, чем должно стать, и, хотя ее мольбы растрогали меня так, что слезы застилали глаза, я знала, что это будет, должно быть, и… я ее толкнула.
– Прозрачные длани ветра приняли деву… Я ринулась вниз, мимо окон мансарды, в которой маленькой девочкой провела столько чудесных светлых вечеров. Ветер подхватил мои распростертые крылья, я ощутила легкий толчок и обнаружила, что повисла где-то между небом и садом, который лежал подо мной как поле какой-то увлекательной игры и не приближался. Земля не устремилась ко мне навстречу. Я была в безопасности в руках своего незримого возлюбленного!
Но ветру не понравилось долго терпеть мое завороженное бездействие. Удерживая меня, ошалевшую от изумления, в своих объятиях, он медленно и постепенно, словно рассерженный моей пассивностью, начал выпускать меня, я стала падать… и тут же вспомнила все полученные мной уроки! Я резко подняла вверх пятки, которые научилась у птиц держать вместе, соорудив тем самым руль для маленькой лодочки тела, готовой бросить якорь в облаках.
Итак, я дернулась пятками, после чего, как делают пловцы, свела над головой самые длинные и гибкие перья; делая неторопливые, все более уверенные взмахи, я разводила их и сводила – и – вот оно! вот как это делается! Да! Я хлопала крыльями снова и снова, ветру это понравилось, он снова обхватил меня, я почувствовала, что могу перемещаться вместе с ним куда хочу, и прорезала проход сквозь невидимую жидкость воздуха. Лиззи, есть еще бутылка?
Лиззи сорвала фольгу и наполнила бокалы. Феверс с жадностью выпила, потом неверной рукой налила еще.
– Не волнуйся так, девочка моя, – ласково сказала Лиззи.
Феверс почти раздраженно дернула подбородком:
– Ох, Лиззи, джентльмен должен знать всю правду!
И она пронзительно и оценивающе посмотрела на Уолсера, как бы прикидывая, насколько можно ему доверять. Можно было подумать, что ее бробдингнеговского[17]17
Бробдингнег – фантастическая страна, населенная великанами, которую описал Дж. Свифт в «Путешествии Гулливера».
[Закрыть] размаха лицо вытесали из дерева и ярко раскрасили те самые художники, что делают кукол для ярмарочных карнавалов и носовые украшения парусников. У Уолсера мелькнула вдруг мысль: «А не мужчина ли это?»
Скрип и шумное дыхание за дверью предшествовали стуку, вслед которому явился ночной сторож в кожаной накидке:
– А-а, вы еще тут, мисс Феверс? Извиняюсь… вот, свет увидел через щель…
– Развлекаемся с прессой, – сказала Феверс. – Это недолго, не волнуйся, голубчик. Выпей-ка капельку.
Она перелила шампанское через край и сунула ему бокал; сторож опустошил его одним глотком и причмокнул:
– Это дело! Знаете, где меня найти, ежели чего, мисс…
Феверс сверкнула на Уолсера из-под ресниц ироничным глазом и улыбнулась в сторону выходящего сторожа, как бы говоря: «Из нас получилась бы неплохая парочка, правда?»
Лиззи продолжила:
– Представьте себе, с какой радостью, гордостью и изумлением я наблюдала, как она совершенно голая исчезла за углом дома! По правде говоря, я тоже испытала страшное облегчение, потому что в душе мы обе знали, что эта попытка означает для нас победу или смерть.
– Но разве я не решилась и не сделала этого, сэр? – перебила ее Феверс. – В свой первый в жизни полет я только обогнула дом на уровне верхушки вишневого дерева в саду Нельсон, где-то футов в тридцать. И, несмотря на изрядное смятение чувств и сильнейшую умственную концентрацию, коей требовала тренировка только что обретенного навыка, я не забыла сорвать моей Лиззи горсть ягод, которые на верхушке уже созрели; ягод, которые нам обычно приходилось оставлять в подарок дроздам. На пустынной улице не было никого, кто мог бы меня увидеть и принять за галлюцинацию, сон наяву или призрака, порожденного испарениями пивной. Я совершила успешное кругосветное плавание вокруг дома, после чего, раскрасневшаяся от собственного триумфа, взмыла на крышу к своей единомьшленнице.
Но тут мои непривыкшие еще к таким движениям крылья стали… о Господи! они стали сдавать! Ведь при движении вверх действуют вовсе не те рычаги и механизмы, что при движении вниз, сэр, но тогда я об этом ничего не знала. Исследования в области сравнительной физиологии нам еще предстояли.
Я с силой рванулась вверх, как дельфин, – теперь-то я знаю, что этого не следовало делать, – не рассчитала высоту прыжка и почувствовала, что усталые крылышки стали подо мной складываться. Сердце мое упало, и я подумала, что мой первый полет станет последним и за свою спесь я поплачусь жизнью. Мягкие черные градины вишен, которые я собрала, летая над садом, рассыпались; я ухватилась за водосток и – ой-ой-ой! – он стал отрываться! Старый свинец с глухим скрипом отделился от карниза, и я – снова всего лишь женщина – повисла на нем с крыльями, одеревеневшими от ужаса перед человеческой смертью…
– …но я успела наклониться и схватить ее за руки. Только любовь, великая любовь, сэр, дала мне силы преодолеть земное тяготение и вытащить ее на крышу, как вытаскивают уносимого по течению реки тонущего человека.
– Мы сцепились на крыше в объятиях, всхлипывая от радости и облегчения, а над Лондоном занимался рассвет и золотил купол св. Павла, пока он не стал похож на божественный сосок города, который, за неимением другого, я вынуждена называть своей матерью. Мама-Лондон с одной грудью… Царица амазонок.
Она замолчала. В комнате слышался какой-то металлический звук, как от водопроводных труб. Лиззи, покашливая, ерзала на скрипучем саквояже. Феверс на какое-то время ушла в себя, а ветер за окном доносил удары Биг-Бена, отбивающего полночь; их звук показался Уолсеру настолько покинутым и одиноким, будто часы били в каком-то заброшенном городе, где только они, три человека, и остались в живых. Даже он, лишенный воображения, отреагировал на это леденящее кровь ночное время, когда темнота только оттеняет ничтожность человека.
Стихли последние отзвуки курантов. Феверс испустила вздох, качнувший ее обтянутую атласом грудь, и вышла из ступора.
– Давайте расскажу вам о том, чем я занималась и чего добилась до того, как начала мелькать в воздухе летучей мышью! Вы помните, как по ночам в гостиной я изображала крылатую Нику, и засомневаетесь, возможно ли это, ведь у меня есть руки, – и она распростерла их на полкомнаты, – а у Ники рук не было. Ну да матушка Нельсон пустила слух, будто я была прообразом, оригиналом, моделью той самой статуи, что даже в разбитом и ущербном состоянии уже два тысячелетия дразнит воображение своей исключительной, яростной красотой, изуродованной, так сказать, ходом времени. Размышляя о наличии у меня двух рук – целых и невредимых, – матушка Нельсон задалась вопросом: что держала в них Ника, когда забытый мастер впервые высек ее из мрамора, скрывавшего в себе ее неистощимую храбрость? И очень скоро нашла ответ: меч.
И она отдала мне позолоченный парадный кортик от своего адмиральского мундира, который она носила на боку и иногда использовала на пьянках в качестве церемониймейстерского жезла, волшебной палочки Просперо.[18]18
Персонаж драмы У. Шекспира «Буря».
[Закрыть] Тогда же я узнала, что, если держать меч острием вниз в правой руке, а левую, сжав в кулак, опустить вдоль тела, это означало, что я никому не причиню зла.
Как меня одевали для этой роли? Волосы до белизны пудрили мелом и подвязывали лентой; крылья тоже пудрили так, что, если дотронуться, с меня сыпалось. Лицо и верхнюю часть тела покрывали влажными белилами, которыми пользовались клоуны в цирке, от пупка до колен все закрывалось белой тканью, а голени и стопы тоже обмазывали влажными белилами.
– И выглядела она прелестно, – воскликнула преданная Лиззи. Феверс скромно потупилась.
– Прелестно или нет, но матушка Нельсон всегда была довольна моим нарядом, и вскоре стала называть меня не «Крылатая Ника», а «Ника с крыльями», духовным флагманом своего флота, как будто вооруженная девственница была самым подходящим ангелом-хранителем для публичного дома. Образ крупной женщины, с мечом был не лучшей рекламой борделя, и потому, когда мне исполнилось четырнадцать лет, популярность нашего заведения медленно, но верно пошла на убыль.
Но это не имело отношения ни к самым преданным нашим клиентам, этим рассыпающимся от древности сластолюбцам, которых, наверное, еще сама матушка Нельсон ввела в любовную жизнь в далекие дни их безусой и безудержно эякулирующей молодости; ни к тем, у кого вырабатывалась настолько определенная привязанность к Энни или Грейс, что можно было говорить о своеобразных семейных парах. Нет. Эти джентльмены не в силах были поменять привычек своей жизни. Матушка Нельсон культивировала в них порочную зависимость от полуденных и полночных часов, когда предметы не отбрасывают тени, от недвусмысленной прозрачности купленного удовольствия, от легкости связи, которую они праздновали в источающей аромат гостиной. Все они были дряхлыми старикашками, проявлявшими отеческую снисходительность в виде то монеты в полсоверена, то нитки необработанного жемчуга по отношению к полуженщине-полустатуе, которую они помнили изображающей Купидона, и порой, впадая в детство, пуляли друг в друга ее игрушечные стрелы, попадая иногда в ухо, а иногда в зад или пах.
С сыновьями их и внуками все было по-другому. Когда приходил их черед познакомиться с матушкой Нельсон и ее девочками, – робкие, но стараясь выглядеть вызывающе, они семенили, краснели до ушей, поддерживаемых накрахмаленными итонскими воротничками, и нервно дрожали от предвкушения и благоговейного страха. Потом замечали мой кортик, после чего Луиза или Эмили вытворяли с ними что-то невообразимое. Я относила это к влиянию Бодлера, сэр.
– Кого? – воскликнул Уолсер, удивленный настолько, что на какой-то момент его профессиональная невозмутимость дала сбой.
– Это французский поэт, сэр; бедняга, который любил проституток не за доставляемое ими удовольствие, а – по его ощущениям – за ужас; он считал, что мы не женщины, исполняющие работу, за которую платят, а проклятые души, стремящиеся увлечь мужчин в объятия смерти, словно нам больше делать нечего… Хотя все мы были суфражистками,[19]19
Суфражистки – сторонницы предоставления женщинам избирательного права.
[Закрыть] а Нельсон даже входила в комитет «Женщины за избирательное право», ей-богу!
– Вам это кажется странным, сэр? Что сидящая в клетке птица мечтает увидеть, как все клетки будут уничтожены? – спросила Лиззи с металлической ноткой в голосе.
– Хочу вам сказать, что за дверями заведения Нельсон пребывал исключительно женский мир. Даже сторожевая собака была сукой, а все кошки либо на сносях, либо с котятами, так что скрытый смысл способности к деторождению только подчеркивал сверкающую стерильность плотских утех, доступных в нашем заведении. Жизнью в его стенах управляла атмосфера ласки и любви. Я ни разу не видела, чтобы хоть одна из воспитывавших меня сестер ударила другую, сказала грубое слово или в гневе повысила голос. До восьми часов вечера, когда начиналась работа и Лиззи занимала свой пост у замочной скважины входной двери, девочки находились в своих комнатах, и благостная тишина прерывалась только отрывистым треском пишущей машинки Грейс, когда она практиковалась, или лирической руладой флейты Эсмеральды, на которой она демонстрировала свое виртуозное мастерство. А то, чем они занимались потом, отложив книги, было всего лишь добыванием бедными девочками средств к существованию; ведь если кто-то из клиентов и клянется, что проститутки занимаются этим ради удовольствия, то разве что для успокоения собственной совести, чтобы не так остро осознавать дурацкое положение, в котором он оказывается, раскошеливаясь за мимолетное наслаждение, которого нет, которое не может быть подлинным, если доставляется за деньги, – в самом деле! – мы понимали, что продавали всего лишь подделки. Без острой экономической необходимости, сэр, ни одна женщина ни за что бы на это не пошла.
Что до меня, то я, изображая живую статую, можно сказать, отрабатывала свой проезд на корабле матушки Нельсон, и в годы своего расцвета – с четырнадцати до семнадцати лет – с наступлением времени полуночных стуков в дверь в глазах мужчин я существовала только как неодушевленный предмет. Такова была моя школа жизни, ибо, ступив на эту стезю, разве мы не отдаемся на милостивое попечение окружающих? Я была словно в скорлупе, потому что белила засыхали на лице и на теле как посмертная маска, покрывающая меня целиком; внутри же этой подобной мрамору внешней оболочки не было на всем свете существа, трепещущего от своих затаенных возможностей с большим исступлением, чем я! Замурованная в искусственном яйце, в этом саркофаге красоты, я ждала, ждала… но не смогла бы сказать – чего. Впрочем, будьте уверены, сэр, что поцелуя сказочного принца я не ждала! По ночам я слишком отчетливо видела, что этот поцелуй навечно запечатает меня в этой оболочке! Все-таки мне не давала покоя мысль, что перьям моим уготовано особое предназначение, но какое – я не могла даже предположить. Поэтому с несокрушимым терпением ожидала, пока судьба сама заявит о себе. Как сейчас жду, сэр, – она обернулась и в упор посмотрела на Уолсера, – когда наконец сдует остатки старого века.
Она повернулась к зеркалу и задумчиво уложила выбившийся локон на место.
– Вам, конечно, может показаться, что до той поры, когда Лиз открывала дверь и впускала мужчин, когда девушки должны были вскакивать, изображать заинтересованность и вести себя как женщины, в нашем аккуратном прибежище все было «luxe, calme et volupté»,[20]20
«… luxe, calme et volupté» – «… сладострастье, роскошь и покой» (фр.), слова из стихотворения «Приглашение к путешествию» французского поэта Шарля Бодлера.
[Закрыть] хотя и не совсем так, как представлял себе поэт. Все мы следовали своим умственным, художественным или политическим…
Тут Лиззи закашлялась.
– …пристрастиям, и, например, я все часы отдыха посвящала изучению аэродинамики и физиологии полета, сидела в библиотеке матушки Нельсон среди изобилия книг, из которых по крупицам добывала все то немногое, что мне известно.
С этими словами ее зеркальное отражение махнуло Уолсеру ресницами. По их пепельному частоколу длиной в добрых три дюйма он мог бы подумать, что она не сняла накладные, если бы те не топорщились, как волоски крыжовника, среди грандиозного развала на туалетном столе. Все это время он механически что-то записывал, но, по мере того как женщины разворачивали хитросплетения своего совместного рассказа, Уолсер все больше и больше чувствовал себя котенком, путающимся в клубке шерсти, который он заведомо не собирался распутывать, или султаном перед лицом не одной, а двух Шахрезад, каждая из которых намерена была рассказать ему тысячу сказок за одну ночь.
– В библиотеке? – спросил он немного устало, но с неослабевающим вниманием.
– Он ей завещал ее, – сказала Лиззи.
– Кто кому и что завещал?
– Этот старый гейзер. Завещал Нельсон свою библиотеку. Из-за того, что она была единственной женщиной в Лондоне, на которую у него вставал…
– Лиззи! Ты ведь знаешь, что я терпеть не могу грубых выражений!
– …и всё это несмотря на ее черную повязку на глазу и внешность травести (а может, и благодаря им). Ох, эти ее маленькие пухленькие ляжки в лосинах, словно цыплячьи отбивные! Видок – тот еще! Он был шотландец с большой бородой, я хорошо его помню. Имени, конечно, никогда не говорил. Завещал ей библиотеку. Наша Феверс вечно в ней рылась; уткнется носом в книгу, сунет в рот горсть леденцов – и все.
«Леденцы,[21]21
Здесь обыгрывается английское слово humbug – 1) обман, мошенничество, фикция; 2) мятная конфета.
[Закрыть] – оживившись, отметил про себя Уолсер. – В Англии – сорт леденцов; в Америке…»
– Что касается полета, – невозмутимо продолжала Феверс, – то вы понимаете, что мои габариты, вес и общая конституция не облегчали задачу его освоения, хотя моя грудная клетка достаточно обширна для того, чтобы вместить легкие нужного размера. Но в костях птиц – воздух, а в моих – плотный костный мозг, и если необычное строение моей грудины позволяет ей изгибаться наподобие голубиного киля, то этим сходство и исчерпывается, и проблемы сохранения равновесия и элементарного взаимодействия с ветром – любовник из него очень непостоянный – долгое время меня беспокоили. Вы видели мои ноги, сэр?
Она высунула из-под полы халата правую ногу, обутую в стоптанный шлепанец из розового бархата с опушкой из грязного лебяжьего пуха. Нога, абсолютно голая, была на удивление длинной и стройной.
– Мои ноги не соответствуют верхней части тела с точки зрения эстетики, понимаете? Случись мне стать моделью для Венеры, и ноги статуи, вылепленной по моим меркам, должны были бы быть как два бревна; сколько уже раз эти хрупкие лапки подгибались под перевешивающей массой корпуса, сколько раз я бухалась и растягивалась… В том, что касается ходьбы, сэр, меня трудно причислить к совершенству, я, скорее, отношусь к тем, кто движется вверх. У птицы моих размеров были бы махонькие короткие лапки, которые она поджимала бы, чтобы образовать этакий пронзающий воздух клин; я же, старое бревно, не подхожу ни под птицу, ни под обыкновенную женщину. Мы уже говорили с Лиззи об этом…
– …я предложила сходить в воскресенье в зоосад, посмотреть аистов, журавлей и фламинго…
– …и эти длинноногие создания вселили в меня вялую надежду на продолжительный полет, который, я думала, мне заказан. Журавли ведь перелетают через континенты, да? Зимуют в Африке, лето проводят на Балтике. Я поклялась, что научусь пикировать и взмывать вверх, превзойду альбатросов и буду восторженно скользить в ревущих сороковых и яростных пятидесятых широтах с их ветрами, как дыхание ада на страже белого южного полюса! Размах крыла у меня увеличивался вместе с ногами, а амбиции росли и того быстрее. Мне уже было маловато коротких перелетов в сторону болот в Хэкни. Возможно, по рождению я – воробей-кокни, но только не по склонностям. Я мечтала о том, как буду пересекать туда-сюда земной шар, потому что представления не имела о том, какие чинимые миром препятствия мне придется преодолевать; я знала только то, что мое тело было пристанищем безграничной свободы. Начинающие должны довольствоваться малым, сэр. Забираться безлунными ночами на крышу, чтобы никто не видел, и летать втихаря над дремлющим городом. Потом мы выяснили, что кое-что из начальных упражнений можно выполнять и в нашей гостиной, например вертикальный взлет.
Лиззи заговорила, будто повторяя заученный урок: «Когда птица хочет резко взмыть вверх, она опускает после толчка локти…»
Феверс оттолкнула табурет, встала на цыпочки и подняла к потолку лицо, которое вдруг приобрело выражение райского блаженства, как у ангела в книжке для воскресной школы – невероятное преображение! Она скрестила руки на своем массивном бюсте, и ее горб под атласным халатом зашевелился и начал вздыматься. Вытертая ткань затрещала. Казалось, вот-вот все вырвется и взлетит. Подрагивающие на верхушке ее начесанного шиньона распущенные локоны уже зацепили летящую под закопченным потолком паутинку, и Лиззи предостерегающе заметила:
– Здесь не хватит места, милая. Оставь, пусть он сам додумает. У Нельсон гостиная была в два раза выше этого гнилого чердака, а девочка наша тогда еще не доросла себе теперешней до пояса, а в семнадцать-то как вымахала, а, прелесть моя?
Сколько ласки было в ее голосе!
Феверс нехотя опустилась на стул, и над бровью ее пробежала тень задумчивости.
– Когда мне исполнилось семнадцать, настали тяжелые времена, начались годы запустения. – Она бурно вздохнула. – Лиз, у нас еще осталось?
Лиззи заглянула за ширму:
– Поверишь ли – все выпили.
Пустые бутылки перекатывались под ногами среди вонючего дамского белья, придавая комнате вид помещения, в котором пили всю ночь.
– Ладно, тогда сделаешь нам чаю, лапуля, а?
Лиззи наклонилась за ширму и вытащила жестяной чайник:
– Я выскочу, налью из крана в коридоре.
Оставшись наедине с этой удивительной великаншей, Уолсер заметил, что ее неявно выраженная к нему подозрительность, отчасти скрываемая во время интервью, теперь вышла на поверхность. От былой сердечности не осталось и следа; она почти враждебно косилась на него из-под светло-пепельных ресниц, казалось, была чем-то обеспокоена и с демонстративно скучающим видом принялась вертеть в руках букет фиалок. Непонятно где что-то гремело и позвякивало, вероятно, жестяная крышка чайника. Она подняла голову. Сквозь тишину ночи до них снова донесся бой курантов Биг-Бена, и она встрепенулась:
– Двенадцать часов! Как летит время, когда болтаешь про саму себя!
В первый раз за всю ночь Уолсер по-настоящему забеспокоился.
– Послушайте! А разве в прошлый раз не полночь отбивало… ну, когда приходил сторож?
– Вы думаете, сэр? Это невозможно! Боже мой, да нет же, нет! Полночь… десять, одиннадцать, двенадцать… – било сейчас! И вы, и я это слышали! Взгляните на часы, если не верите.
Уолсер покорно полез за часами; их стрелки слились, показывая полночь. Он приложил их к уху и услышал обычное усердное тиканье. Появилась Лиззи с капающим чайником в руках.
Гримерка была полностью оборудована для приготовления чая; в буфете рядом с камином располагалась медная спиртовка и лакированный поднос, на котором обитал толстопузый заварной чайник и белые, толстого фаянса кружки. Лиззи зажгла небольшой огонек и потянулась к буфету за сахаром в голубом пакете и молоком.
– Опять кончилось, – заметила она, заглядывая в кувшин.
– Придется без молока.
– Н-ну… возможно, я ослышался, – пробормотал Уолсер и сунул часы в нагрудный карман.
– А что такое? – навострила уши Лиззи.
– Он решил, что мы задержали Биг-Бен на час, – бесстрастно ответила Феверс.
– Очень может быть, – презрительно сказана Лиззи. – Очень может быть.
Феверс была редкостной сладкоежкой. Она пренебрегала мерными дозами и просто сыпала сахар из пакета в свою дымящуюся кружку. Пытаясь согреть об нее руки, – независимо от времени, уже ощущалась ночная прохлада, – Феверс возобновила свой рассказ.
Ее голос… Уолсер стал заложником ее грудного мрачного голоса, будто созданного для возвещения бури, голоса сварливой торговки, спустившейся с небес. На удивление мелодичный, но абсолютно непригодный для пения, он пестрел диссонансами, с гаммой на двенадцать тонов. Голос с искаженными гласными и неуместными придыханиями полуграмотной кокни. Печальный, хриплый, погружающийся, падающий голос, властный, как у сирены. Казалось, он исходил не из ее гортани, а из сложного механизма, спрятанного где-то за ширмой, как голос медиума-мошенника на сеансе.
– Погибла матушка Нельсон совершенно неожиданно: поскользнулась на чем-то, когда переходила главную улицу в Уайтчепле – на фруктовой корке или на собачьем дерьме – неизвестно; хотела побаловать нас бутербродами с солониной, и угодила прямо под лошадь с телегой из пивоварни… Мгновенно раздавило в клочья.
– Умерла по дороге в больницу, бедняжка, – прохрипела Лиззи как треснутый колокол. – Не успела даже сказать напоследок: «Поцелуй меня, Гарди» или что-нибудь такое же ласковое. Похороны мы ей устроили замечательные, сэр; в Уайтчепеле такого не видели ни до, ни после! За катафалком шла толпа скорбящих шлюх.
– А когда мы сели в гостиной помянуть нашу почившую любимицу и только приступили к запеченному мясу, как в дверь раздался стук, будто возвещающий начало Страшного суда.
– Как оказалось, так оно и было, сэр; потому что я впустила какого-то священника-расстригу, который заскрежетал зубами и закричал: «Да воздастся с грехов за благое деяние Господа нашего!»
– Нельсон покинула нас так неожиданно, в самом расцвете лет – чуть старше, чем сейчас Лиззи, – что не позаботилась о завещании; хоть она и считала всех нас своими приемными дочерями, но мысли о смерти терпеть не могла. И потому все ее имущество должно было по решению суда отойти ее родственникам. И – по иронии судьбы! – тому самому неумолимому и бессердечному старшему брату, который девочкой выгнал ее из дома, когда она впервые оступилась, и этим усугубил ее падение, в одном смысле, и предопределил ее судьбу – в другом.
Неужели ни на земле, ни на небе нет справедливости? Похоже, что нет. Потому что появился ее чудовищный, ужасный брат, силой закона облеченный обобрать ее после смерти и, не успей мы к тому времени заплатить за могильный камень из мелких расходов…
– …мы заказали надпись «Тихая гавань»…
– … он бы сделал все для того, чтобы от милой, доброй, приличной женщины на земле, что ее взрастила, не осталось бы даже булыжника, отмечающего ее путь. Его колотило оттого, что мы сидели и ели пищу, которая, как он считал, принадлежала ему. Он расшвырял пирожки, разлил по копрам марочный портвейн Нельсон, который мы специально открыли. Кричал, что наше время прошло; дал времени до девяти утра следующего дня, и то – «по доброте душевной», – чтобы мы могли собраться и исчезнуть. Покинуть наш единственный дом и пойти по рукам. Так он задумал «очистить храм от безбожников», хотя у него и достало доброты намекнуть, что его Бог может смилостивиться к любой, кто раскается и захочет остаться, потому что, в своеобразном возвышенном приступе справедливости, он задумал открыть в доставшемся ему доме приют для падших женщин и считал, что неплохо было бы сразу же заиметь парочку кающихся шлюх… Нет лучше лесника, чем бывший браконьер, правда? Никто из нас не согласился стать надзирательницами, как он предлагал. Нет уж, спасибо!
Когда он уехал к себе в Детфорд, мы собрались нa совет относительно нашего будущего, которое, как мы догадывались, уже не будет общим. Мы очень переживали, но сведшая нас вместе необходимость теперь нас разлучала, и мы ей поддалисъ – так всегда и нужно поступать, – хотя невидимые узы взаимной привязанности будут всегда нас связывать, как бы ни распорядилась судьба.
Но это неожиданное событие все-таки не застало нас врасплох. Если вы помните, матушка Нельсон знала, что дни нашего примечательного борделя сочтены, и поощряла своих воспитанниц на подготовку к новой жизни.
Луиза с Эмили очень сблизились, как бывает с женщинами, которых мирят невзгоды их профессии, и еще задолго до кончины матушки Нельсон решили между собой, что отойдут от дел, как только накопят достаточно денег на открытие маленького пансиона в Брайтоне. Они давно лелеяли эту мечту и нередко, пока какой-нибудь вонючий тип тыкался в них своим никудьшным причиндалом, коротали время, обдумывая, какие у них будут наволочки – простые или с кружевными оборками, какие обои поклеят в столовой. И хотя внезапный разрыв всех договоренностей вынудил этих предприимчивых девиц начать с несколько меньшим капиталом, чем они рассчитывали, они тут же заглянули в свои банковские книжки и, решив, что волков бояться – в лес не ходить, тут же принялись паковать чемоданы, чтобы на следующий день отправиться в сторону южного побережья на поиски скромной и подходящей недвижимости.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?