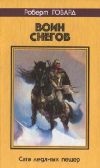Текст книги "Ночи в цирке"

Автор книги: Анджела Картер
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Я молниеносно выхватила свое! Как я боготворила свой позолоченный стилет! Старик упал на спину, приговаривая: «Нечестно, нечестно…» – он не предполагал, что ангел явится вооруженным. И все же я не смогла его ударить, сэр, я не причиняю зла смертным даже ради самозащиты, и… по правде говоря, даже в страхе своем я дико возрадовалась, увидев, как был огорошен и разочарован старый дуралей из-за того, что все его планы пошли наперекосяк, как он расстроился при виде игрушки Нельсон, когда я рассмеялась ему в лицо.
Пока он приходил в себя, я, как жиром смазанная, протиснулась через открытую раму наружу, хотя это было нелегко, и перьев оставила там столько, что хватило бы на целый матрац. Увидев, как мясистый флакон его эликсира жизни отрывается от земли, этот спятивший урод пронзительно заверещал и бросился за мной с каким-то древним копьем, которое он непонятно где откопал, и даже ухитрился ткнуть им меня в щиколотку правой ноги; с тех пор здесь остался шрам, посмотрите!
Она высвободила ногу из шлепанца и вывалила ее на колени Уолсеру сдвинув его блокнот так, что он тут же оказался на полу. Ступня была перечеркнута светлой неровной полоской шрама.
– Доказательство оракула, – сказала Лиззи. сдерживая зевок. – Увидеть, значит поверить.
Уолсер устало поднял с полу блокнот.
– Не считая того кульбита в спальне мадам Шрек, я не пользовалась крыльями добрых полгода, но страх придал мне сверхъестественные силы. Я взмыла вверх и понеслась прочь от этого отвратительного места, над майским деревом на лужайке перед домом, к которому уже в такое раннее время семенила стайка ребятишек, вероятно, нанятых господином Розенкрейцем в деревне; одетые, несмотря на моросящий дождь, в просвечивающие кисейные туники, в венках из маргариток, они собирались петь и танцевать для этого столь кошмарным образом омоложенного «мудреца», готового совершить со мной майское жертвоприношение, сэр. Когда я пролетала мимо, дети в страхе разбежались с криками «Мамочка!»
Укрылась я в ближайшей рощице в кроне вяза, спугнув стаю дремлющих воронов. Переведя дух, я глянула вниз и увидела, что громилы господина Розенкрейца, одетые лесниками, прочесывают в поисках меня подлесок, так что на дереве пришлось просидеть до следующей ночи. Потом, постоянно маскируясь, я передвигалась от одного укрытия к другому, пока не добралась до железной дороги, где мне не оставалось ничего другого, как воспользоваться товарным поездом. Я забилась между ящиками с картошкой и с головой укрылась брезентом, потому что не могла тогда летать так высоко, чтобы прятаться в облаках; да и трудно представить себе что-либо более приметное (даже ночью), чем голая женщина, которая увертывается от телеграфных проводов и перелетает через семафоры: железная дорога нужна была мне как ориентир на пути в Лондон. К моей неописуемой радости вскоре поезд добрался до разъезда в Клэпхеме, и мне удалось выскочить неподалеку от парка Бэттерси, на всех парах пробраться в кромешном мраке до Куинстон-Роуд и, пригибаясь за живыми изгородями, благополучно вернуться наконец домой.
И кого бы, вы думали, я увидела в своей собственной постели рядом с Лиззи? Спящую Красавицу!
Я была невероятно измотана, грязная, промокшая, голодная, и, обнаружив на грани нервного срыва от пережитого кошмара, что для меня нет здесь даже места, упала и разрыдалась. Лиззи проснулась.
– О, как я была счастлива увидеть ее! Туссен все нам рассказал, и мы опасались худшего; наш дом был под завязку полон беглецами от мадам Шрек, и, если у Феверс было что рассказать, то у нас и подавно! Я приготовила ей чашку крепкого кофе с молоком, сварила пару яиц, поджарила несколько тостов, и вскоре все было снова прекрасно. Что до роли Туссена во всей этой почти неправдоподобной истории, сэр, то он записал ее на клочке бумаги, который я, к счастью, всегда ношу с собой в сумочке.
С этими словами Лиззи извлекла три листа превосходной бумаги, которая использовалась в кафе для счетов, со следующим текстом:
Когда появился этот человек и похитил Софию, я был в отчаянии и побежал за ними, но карета тут же исчезла из виду. Я вернулся домой и поднялся в комнату мадам Шрек. Ее траурное одеяние по-прежнему болталось на карнизе, но все было тихо. Она не шевелилась.
Мне почудилось, что под одеждой ничего не осталось (быть может, под ней никогда ничего и не было, кроме кучки высохших костей, приводимых в движение силой инфернальной воли, а голосом служил воздух, искусственно выпускаемый из пузыря или кисты), что она была или превратилась в некое чучело вожделения. Я забрался на стул и снял ее. Старуха весила не более пустой корзины, ее митенки тихо шлепнулись на пол, и из их обрезанных пальцев тонкой струйкой высыпалась какая-то пыль. Я положил ее мощи на кровать; они были жесткие и сухие, как панцирь насекомого.
На столе у старухи я нашел закладную. Она продала Феверс господину Розенкрейцу не за две, а за пять тысяч фунтов, половину из них мадам Шрек получала по заключении сделки, а остальное… «по завершении». (Все, что сказали Феверс, было ложью.) Мне очень не понравилось это слово – «по завершении», но я совершенно не представлял, что можно было предпринять. Я стал немым свидетелем бесчестного и подлого деяния, но поверят ли в полиции, что я (последний, кто видел людом Шрек живой) был первым, кто ее обнаружил… не мертвой, нет – кто бы смог сказать, когда она умерла, и была ли живой вообще, – не… исчезнувшей? А кому как не мне было знать о могущественных знакомых старой сводни среди власть имущих, если с момента появления у нее на службе моей обязанностью было каждую пятницу относить увесистый пакет в полицейское управление Кенсингтона с указанием не ждать расписки в получении?
Фэнни оказалась столпом выдержки. Она взяла из открытого сейфа мадам Шрек причитающиеся Феверс деньги и, после некоторых подсчетов, сумму, возмещающую неимоверные труды пятерых оставшихся в этом страшном вертепе узников, включая Красавицу, – ни пенни больше. Честно распорядившись средствами мадам Шрек, она сказала: «А теперь пора делать ноги, да побыстрее, пока нас не сочли соучастниками преступления».
«Какого преступления?» – в страхе спросил я себя. В наших силах было только молиться, чтобы ум и изобретательность Феверс оградили ее от несчастий. Ни у кого из нас не было ни друзей, ни знакомых, и единственное прибежище, о котором я подумал, было указано на оставшемся от Феверс адресе, по которому я когда-то относил деньги, в первый и последний раз выданные ей мадам Шрек. Нам нужно было бежать, пока не появились первые клиенты.
Я сам перенес Красавицу на конюшню, к коляске мадам Шрек. Эту коляску, как и пони, я оставил себе: разве раб не заслужил права на средство собственного освобождения? Мы прибыли в Бэттерси уже за полночь, но его обитатели поднялись с постелей и приняли нас очень радушно, хотя и расстроились, узнав об исчезновении нашей любимой девочки, а Изотта приготовила для всех кровати, матрасы и одеяла.
Следующий день показался нам бесконечным: с нарастающей с каждым часом тревогой мы ждали весточки от нашей милой подруги. После долгого ночного бдения, когда дом наконец затих на несколько часов беспокойного сна, она совершенно чудесным образом вернулась.
Уолсер прочел этот документ, отметил детский почерк, разборчивую подпись и два адреса, которые можно было проверить. Потом почтительно вернул его Лиззи. С довольным кивком она убрала письмо на место.
– Ну и Туссен! – сказала она. – Прекрасно владеет словом.
– Что со всеми ними стало, сэр? – резко спросила Феверс и тут же сама себе ответила: – Каждый выбрал свой путь! Изотта и Джанни, будучи любящими родителями, сумели убедить Диву, что ни одно дитя не упадет, пока у него есть мать или отец, которые нагнутся и поддержат его, и она вновь обрела приемных родителей, которые слезами радости встретили ее возвращение в лоно семьи, тем более что их собственные птенцы давно уже покинули родное гнездо. Альберт-Альбертина получила место служанки у нашей Дженни, и, хоть он-она и жалуется, что приходится носить только женскую одежду, Дженни без этого сокровища не останется. Фанни вернулась в родной Йоркшир, где, не без помощи денег мадам Шрек, организовала в поселке текстильщиков приют для сирот, чьи родители стали жертвами несчастных случаев на производстве, и теперь у нее два десятка милых детишек, называющих ее «мама». Когда я получила свою долю, мне удалось заинтересовать Паутиной своего хорошего знакомого, профессора, сэра Р… Ф… Он исследовал уникальную природу ее способности видеть и научил ее руку следовать этому видению. Теперь она превосходная художница, виртуоз светотени, так что можно сказать, что, даже не покинув тени, она заставила тень работать на себя. А Красавица… она с нами и по сей день.
Пауза на три удара сердца.
– Она спит. Ее ежедневные пробуждения становятся все короче. Она все меньше и меньше ест, как будто жалеет о каждой секунде, проведенной без сна. По движению ее глаз под веками и сонным жестам рук и ног можно сделать вывод, что сны становятся для нее все более необходимым и значительным элементом жизни, словно то, что она переживает в замкнутом мире сновидений, вот-вот овладеет ею полностью, как будто ее кратковременные и неохотные выходы из забытья прерывают какое-то иное, гораздо более насыщенное существование и ей невыносимы даже те мгновения, что она проводит с нами, такие же странные, как и ее сны. Удивительная судьба: сон, в котором больше жизни, чем наяву, сон, охватывающий весь мир.
– И вот что, сэр, – в голосе Феверс появились мрачные, торжественные нотки, как у большого органа, – мы искренне думаем… что ей снится грядущий век.
– Боже мой, как же часто она плачет!
Воцарилась глубокая тишина. Женщины, словно ища успокоения, сжали руки друг другу, а Уолсер поежился: в гримерке повеяло могильным холодом.
И тут в ночной тишине до них снова долетел звук Бит-Бена; видимо, ветер немного переменился, и первые удары курантов были едва слышны, словно доносились с очень большого расстояния, но, услышав их, Феверс замерла и сделала «стойку», как огромная золотая собака, которая подняла морду и нюхает воздух; мышцы на ее шее сжимались и перекатывались. Один, два. три, четыре, пять… шесть…
В течение какой-то секунды, пока затихал отзвук последнего удара, возникло вдруг непонятное ощущение, как будто какая-то неведомая сила стала затягивать Уолсера, его собеседниц и вообще всю гримерку в огромный водоворот. У него захватило дух. Казалось, что каким-то непостижимым образом кто-то изъял комнату из ее повседневного потока времени, немного подержал над вращающимся миром и… уронил на место.
– Шесть часов! Уже так поздно! – воскликнула Лиззи, вскакивая на ноги с энергией отдохнувшего человека. Феверс, напротив, выглядела совершенно изнуренной и крайне обессиленной, словно лишившись колоссального заряда энергии. Грудь ее вздымалась, готовая вот-вот вышвырнуть наружу сердце. Ее тяжелая голова поникла, как умолкший колокол. Казалось даже, что она заметно уменьшилась, съежилась до размеров обычного человека. Она закрыла глаза и сделала долгий-долгий выдох. Сильно побледневшая, она выглядела осунувшейся и резко постаревшей в бледном свете занимавшегося утра, делавшим лиловое сияние газовых фонарей безжизненным и искусственным. Окончание истории выпало досказать Лиззи, что она охотно и сделала.
– После нашего счастливого воссоединения, – отрывисто продолжила она, – когда мы засиделись за завтраком, вдруг появились Эсмеральда с Человеком-Змеей, катившим коляску с маленьким змеенышем. «Слушай, Феверс, – сказала она, – а ты когда-нибудь думала о трапеции под куполом цирка?»
С этими словами Лиззи вскочила и, молча игнорируя Уолсера, принялась собирать и приводить в порядок разбросанное на диване нижнее белье. Феверс пошевелилась, взглянула на Уолсера через бокал и устало заговорила.
– Все прочее – история. Эсмеральда устроила мне первое выступление в цирке. Как только я взлетела на воздушную трапецию, я сразу же стала знаменитой. Париж, Берлин, Рим, Вена… а теперь вот мой любимый Лондон. В день премьеры, здесь в «Альгамбре», после того как я спустилась со сцены с горой цветов и Лиззи снимала мой грим (вы нас за этим и застали), в дверь постучали. Вошел человек в котелке, с внушительным брюшком, обтянутым жилетом из американского флага – да-да, сэр, – с внушительным знаком доллара как раз на пупке.
«Привет, моя пернатая подруга, – сказал он. – Я здесь, чтобы устроить твою судьбу».
Она зевнула, но не как кит и не как львица, а как безумно уставшая молодая женщина.
– Не сомневаюсь, что очень скоро меня ожидает триумф в Санкт-Петербурге, Токио. Сиэтле, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорке – везде, где стропила достаточно высоки для моей трапеции, сэр. Вот… если у вас – все…
Уолсер захлопнул блокнот. В нем не было больше места ни для одного слова.
– Конечно. Превосходно, мисс Софи, просто превосходно.
– Феверс, – резко поправила она. – Называйте меня Феверс. А теперь нам с Лиззи надо домой и спать.
– Я вызову кэб?
– Ни в коем случае! Тратить деньги на кэб? После выступления мы всегда возвращаемся домой пешком.
Но поднявшись на ноги, она покачнулась. Ночь взяла свое. Феверс в последний раз состроила загадочную гримасу своему искаженному отражению в зеркале.
– Извините, сэр, я оденусь.
– Я подожду у выхода, мэм, – сказал Уолсер, пряча свой блокнот. – Дамы позволят себя проводить?
Они переглянулись.
– Он дойдет с нами до моста, да?
Сторож в скрипучей кожаной накидке заваривал на примусе чай, смешав, как индеец, вместе заварку, молоко и сахар. Уолсер не отказался от этого дымящегося варева, разлитого в банки из-под джема. Октябрьское утро становилось с каждой минутой светлее, но не ярче; начинался серый пасмурный день.
– С Феверс всю ночь провел, да? – сторож хитро подмигнул и толкнул Уолсера в бок. – Да ладно, не обижайся. Лиззи пасет ее лучше любой овчарки. А она у нас прекрасная леди, наша Феверс…
И все-таки, закутанная в черную старомодную шаль, с выпирающими скулами, с темными кругами под голубыми глазами и небрежно подколотыми длинными волосами, Феверс ничем не отличалась от обычной уличной девки, возвращающейся домой после неудачной ночи, или старьевщицы, несущей на спине мешок убогих находок – тяжкую ношу, выпирающую между лопаток, под которой она, казалось, вот-вот упадет. При виде сторожа она попыталась было театрально оживиться: «Скоро увидимся, дружище!» – но от протянутой Уолсером руки отказалась, и они молча перешли Пикадилли среди людей, торопящихся в этот ранний час на работу. Обогнули колонну Нельсона, спустились по Уайт-холл. Утро нисколько не освежило холодный воздух, в нем стоял гнетущий запах копоти и лошадиного навоза.
В конце Уайт-холла они увидели, как по широкой дороге мимо Отца Всех Парламентов катит повозка с углем, запряженная цокающим ломовиком, а за ней движется процессия женщин беднейшего сословия, без пальто, без пелерин, в одних хлопковых передниках, грязных юбках и изношенных домашних туфлях на босу ногу, а рядом с ними бегут маленькие босоногие дети, цепляясь за края повозки, и как молодые девушки и женщины подставляют свои передники, чтобы не потерять ни одного кусочка угля.
– Ах, мой любимый Лондон! – сказала Феверс. – Сияющий город! Новый Иерусалим!
Она произнесла это так уныло, что Уолсер не мог понять – с иронией это было сказано или нет. Больше она не произнесла ни слова. Уолсер был заинтригован ее молчанием после нескольких часов непрерывного красноречия. Казалось, она удерживала его все то время, что следовала ничем не прикрытой траектории своего голоса, могла завязать его в узел, а потом… остановилась. Просто бросила.
На вершине ажурных изысков главной башни Парламента позолоченные стрелки Бит-Бена показывали без пяти минут семь. Женщины глянули на циферблат, и на лицах обеих обозначилась скромная, неявная улыбка соучастия, ускользающую тень которой Уолсер заметил, когда Феверс повернулась и протянула ему руку. Крепкое мужское рукопожатие. Без перчаток.
– Было очень приятно, господин Уолсер, – сказала она. – Надеюсь, материала у вас достаточно. Если будут какие-то вопросы, вы знаете. где меня найти. Отсюда нам уже недалеко.
– Да, все было очень хорошо, – согласилась Лиззи и, по-утиному кивнув, протянула свою лайковую перчатку.
– Огромное вам спасибо, – сказал Уолсер.
Минутная стрелка возвышающихся над ними огромных часов описывала по циферблату дюйм за дюймом. Женщины отправились через Вестминстерский мост в дымящуюся южную часть города навстречу гремящему транспорту, который в этот час уже устремился в центр. Из-за разницы в росте они не могли идти под руку, поэтому держались за руки, и со стороны это выглядело так, будто белокурая решительная мамаша ведет домой свою непутевую малолетнюю дочь, вызволенную из злополучного приключения в Уэст-Энде… ни возраста не определить, ни взаимоотношений… Женщины шагали медленно, как тянется нищета, но это тоже была иллюзия: у забрасываемой бриллиантами, оскорбляемой жемчугами Феверс вид все равно был слишком жалким, чтобы остановить кэб.
Часы со скрипом завели вступление курантов и начали вызванивать прелюдию нового часа. Ветер вдруг вцепился в волосы Феверс, вытащил их из-под шпилек и широкой льняной дугой бросил над зловещей рекой, надеясь, видно, на то, что она развернет сейчас свои малиновые перья и, прижав к груди невесомую ношу, то ли свою дочь, то ли мать, вихрем пробьет низкий потолок облаков и исчезнет из вида. Уолсер встряхнулся, чтобы избавиться от пустых фантазий.
Пробило семь. Женщины уже добрались до той стороны моста и, размером теперь с двух кукол большую и маленькую, оглянулись; ему удалось разглядеть бледные пятна их лиц. Потом они исчезли в потоке транспорта.
– Кэб, сэр? – Лошадь с силой фыркнула, и над мешком возле ее морды мелькнул на мгновение золотистый плюмаж овсяных зерен.
На своей квартире в Клеркен-Уэлл Уолсер умылся, побрился, сменил рубашку и понял, что в это утро готов предпочесть хозяйкины заискивающие, чтобы не сказать нелепые, потуги приготовить американский кофе – чаю, который он обычно пил; за ночь Лиззи так промариновала его внутренности крепким чаем, что они, наверное, стали цвета красного дерева… Он бегло просмотрел записи. Какое исполнение! Какой стиль! Какая энергия! И как ловко этим дамам удалось обмануть его глаза – точнее, уши – трюком с часами! Он достал карманные часы и без удивления обнаружил, что они остановились точно в полночь.
Но как она сделала – или знала – это?
Это становится все более любопытным.
Военный корреспондент в промежутке между войнами и страстный любитель небылиц, какое-то время спустя Уолсер забежал в свою лондонскую контору и обнаружил там шефа с зеленоватыми кругами под глазами, размышляющего над последними южноафриканскими новостями.
– Как тебе удалось отыскать Венеру из кокни?
– Тщеславное желание любого энергичного молодого американца – убежать вместе с бродячим цирком, – ответил Уолсер.
– Ну и что? – спросил его шеф.
– Вы не представляете себе, как мне хочется немного отвлечься от новостей, шеф. Эпидемия желтой лихорадки в Панаме высосала из меня последнее. Дайте мне немного отдохнуть от «переднего края». Мне нужно развеяться, заново отточить чутье на необычное. Что вы скажете насчет цикла эксклюзивных очерков об экзотичном, сверхъестественном, где есть и смех, и слезы, и страсти, и все остальное? Что если ваш корреспондент инкогнито последует за самой таинственной артисткой в истории в самые сказочные города мира? По бездорожью Сибири… в Страну восходящего солнца?
Или даже так… почему бы вашему корреспонденту не наняться инкогнито на работу вместе с Феверс к полковнику Керни на время самого Великого Императорского турне? История из первых рук! Шеф, позвольте пригласить вас на несколько вечеров в цирк!
Петербург
1
– Жил-был поросенок, – рассказывала бабушка Иванушке, круглоглазому мальчику, примостившемуся рядом с ней в кухне на табурете, а сама в это время большими деревянными мехами, ярко размалеванными сказочными сюжетами, с завитушками и цветами, раздувала угли в самоваре.
Скрюченная от многолетнего непосильного труда бабушка смиренно склонилась перед кипящим сосудом с немощным покорным почтением человека, заклинающего о короткой передышке или милости, которой – и ему это заведомо известно – никогда не суждено сбыться, и ее руки, натруженные жилистые руки, за многие годы до блеска отшлифовавшие рукоятки мехов, эти древние руки медленно расходились и так же медленно сходились в повторяющемся, словно в гипнозе, движении, как будто она вот-вот соединит их в молитве.
Соединит в молитве. Но в самый последний момент, будто вспоминая о чем-то, что нужно спешно сделать по дому, она разводила руки. После чего скрывающаяся в ней Марфа[51]51
Марфа и Мария – евангельские персонажи (Лк. 10. 38–42; Ин. 11, 12), различие в характерах которых (деятельный у Марфы, созерцательный у Марии) стало нарицательным.
[Закрыть] вновь превращалась в Марию, осуждающую Марфу: что может быть важнее молитвы? И все равно, когда в очередной раз руки уже готовы были соединиться, жившая в ней Марфа напоминала Марии о том, что есть нечто и в самом деле более важное… И так до бесконечности. Будь мехи невидимыми; это стало бы трагедией непрерывно повторяющегося нарушения последовательности, как если бы во время раздувания углей внезапно налетевший ветер вдруг вырвал мехи из рук старухи и унес; примером напряженного противоречия духа и плоти, хотя слово «напряжение» несет в себе слишком много энергии, тогда как ее измождение настолько умеряло течение этой воображаемой неуверенности, что, не зная ее, можно было подумать, что она ленится.
Более того, ее работа предполагала некую бесконечную незавершенность – женский труд никогда не кончается; труд всех Марф и всех Марий, их вселенский труд – мирской и духовный – и в этом мире, и в приуготовлении к загробному – извечен, ибо всегда отыщется противоречивая необходимость отложить любое дело на неопределенный срок. И значит… нет нужды торопиться!
Впрочем, она и не торопилась, потому что была… почти… изнурена.
В ограниченности ее движений пребывала вся Россия и большая часть ее поруганной иссохшей женственности. Символ и женщина или – символическая женщина – она склонилась над самоваром.
Угли становились то красными, то черными, краснели и чернели в ритме сипящих вздохов, которые вполне могли издавать не мехи, а изношенные легкие бабушки. Ее замедленные безрадостные движения, ее безрадостная замедленная речь были исполнены достоинства отчаявшегося человека.
– Жил-был… ф-ф-ф!.. поросенок… ф-ф-ф!.. И вот отправился он однажды в Петербур… Петербург! При этом слове угольки вспыхнули и зашипели; Петербург! – имя, заставляющее приободриться даже тех, кто там живет; даже в душе России-матушки что-то слегка шевельнется…
Санкт-Петербург – прекрасный город, которого больше не существует. Теперь другой красивый город с другим названием раскинулся на берегах могучей Невы, там, где когда-то стоял Санкт-Петербург.
Россия – сфинкс. Величавая древняя святая несокрушимость, одной ногой опершаяся об Азию, а другой – о Европу, какой неведомый и исключительный удел суждено сплести тебе из крови и жил истории в своем дремучем лоне?
Она не отвечает. Загадки отскакивают от ее стен, расписанных весело и броско, как крестьянская тройка.
Россия – сфинкс; Санкт-Петербург – прекрасная улыбка на его лице. Петербург, милейшее из всех видений, мираж: в Северной пустыне, возникший на долю секунды между черным лесом и покрытым льдом морем.
В городе – идеальная геометрия любого проспекта; за его пределами – бескрайняя Россия и надвигающаяся буря.
Уолсер остановился, чтобы размять озябшие пальцы и вставить в машинку новый лист.
По приказу Государя скалы пустыни обратились в дворцы! Государь простер благородную длань, и северное сияние стало светить ему в канделябрах… Да! Строительство Санкт-Петербурга стало прихотью тирана, пожелавшего, чтобы его воспоминания о Венеции обрели гранитную форму на болотистом берегу моря, на краю света, под суровым небом; город, камень за камнем выложенный мечтателями и обманщиками, авантюристами и безумными священниками, крепостными и каторжниками, носит имя Государя – то же самое, что и имя святого, хранящего ключи к вратам рая… Санкт-Петербург… Город, выстроенный гордыней, воображением и страстью…
Как и все мы… Или как все мы должны быть созданы.
Старуха и мальчик не обращали внимания на треск пишущей машинки. Они не знают об этом городе того, что знаем мы. Они живут в нем, не ведая и даже не предполагая, что город этот вот-вот станет легендой, но… нет, не сейчас… этот город, эта Спящая Красавица всех городов, шевелится и разговаривает во сне, мучительно ожидая и одновременно страшась грубого и несущего проклятие поцелуя, который ее разбудит, потянув за швартовы прошлого, ее, изо всех сил борющуюся и страстно желающую прорваться из настоящего в жестокость подлинной истории, к которой наше повествование – это очевидно – не имеет никакого отношения.
…его бульвары с лепниной из персиков и ванили растворяются в осеннем тумане…
…в сахарном сиропе ностальгии, приобретая искусственно приданную изысканность; я пишу и тут же придумываю несуществующий город. Тот город, в который спешит бабушкин поросенок.
– Жил-был поросенок, и однажды отправился он в Петербург помолиться, – сказала усталая бабушка, откладывая мехи, на которых благоухали единственные цветы запущенного сада ее жизни. Она подставила стакан и открыла кран самовара. Как болят ее старые кости! Как она жалеет о том, что пообещала ребенку рассказать сказку!
– А что стало с поросенком? – напомнил чмокающий сладким пирожком Иванушка, худой, как тростинка, с широко раскрытыми огромными глазами.
Но бабушку, казалось, уже не интересовали ни поросенок, ни его история. Нет, плохая она рассказчица!
– Его съел волк. Отнеси-ка чай господину и не путайся под ногами. Иди лучше погуляй! Давай-давай, малыш, поиграй себе…
Она опустилась на колени перед иконой. Она бы помолилась во спасение души своей дочери-убийцы, но настолько устала, что исполнила только телесный обряд.
В темном углу мрачной закопченной комнаты неразличимый, но проворный Уолсер выстукивал за неотесанным столом свои первые впечатления от города на видавшем виды «ундервуде», своем верном спутнике на войне и в мятежах. Обутый в валенки ребенок нехотя приблизился и поставил стакан с чаем как можно дальше от Уолсера.
– Спасибо! – пальцы Уолсера замерли, и он, словно подарок, выдал мальчику одно из немногих слов, которое знал по-русски. Иванушка с ужасом покосился на его лицо, сплошь покрытое красным и белым гримом, что-то промычал и исчез. Уолсер сроду не пугал детей; этот же ребенок испугался клоуна, в испуге его угадывалось нервное благоговение и восхищение непонятным.
Уолсер перечел написанное. Город провоцировал его к гиперболам; никогда еще в его статьях не встречалось столько прилагательных. Казалось, что Уолсер-клоун жонглировал словарем с азартом, присущим разве что сгинувшему Уолсеру – иностранному корреспонденту. Он усмехнулся, представив себе изгиб брови шефа, получившего очередную депешу, и опустил два хрустящих кубика серого сахара в стакан с янтарного цвета жидкостью: он слишком дорожил своими зубами, чтобы подражать бабушке: сосать драгоценные кусочки сахара и прихлебывать чай. Лимона не было и в помине. Клоунов селили среди самых бедных горожан.
Клоун Уолсера был «дураком» в белой рубахе, в штанах мешком, с нелепыми подтяжками, в школьной кепочке поверх жуткого парика, который то и дело сползал. Торопливо нацепив все это, Уолсер вернулся за стол. Итак, исходные данные: Санкт-Петербург – город, усыпанный вшами и жемчугами, укрытый непонятным алфавитом, прекрасный и тошнотворный – город, не поддающийся прочтению. За окном, на грязном дворе Иванушка, с приятелем поймали бродячего кота и заставляли его ходить по булыжнику на тощих задних лапах. Им хотелось, чтобы бедное, изголодавшееся, жалобно мяукающее животное потанцевало им, подобно его собратьям – ласковым и таинственным тиграм из цирка полковника Керни.
Если набожный поросенок отправился в Санкт-Петербург помолиться, то другая, менее набожная свинка приехала в Петербург в вагоне первого класса, чтобы как следует здесь заработать. Эта удачница и любимица знаменитого импресарио достигла совершенства; она предсказывала судьбу по буквам алфавита, нарисованным на карточках, – в самом деле! – она вынюхивала предсказание из двадцати четырех латинских букв, расположенных перед ней по порядку, и это был не единственный из ее выдающихся талантов. Хозяин называл ее «Сивилла»[52]52
Сивиллы – легендарные прорицательницы, упоминаемые этичными авторами.
[Закрыть] и повсюду возил с собой. Когда Уолсер появился в лондонском отеле «Риц», умоляя дать ему любую работу в цирке: кормить слонов, чистить лошадей – все, что сохраняло бы его анонимность, – полковник Керни попросил свою свинку сказать, брать молодого человека на работу или нет.
– Своим успехом я обязан этой свинье, – изрек полковник Керни нараспев, что выдавало в нем уроженца Кентукки. – Позвольте вас с ней познакомить.
Он с нежностью держал на руках худосочную проворную свинку, голова которой, наподобие отсеченной голове Иоанна Крестителя на блюде, покоилась на широком жабо из тафты. Ее изящные, как у балерины, передние ножки были аккуратно сложены под грудью, а быстрые, ясные и приветливые глазки блестели на Уолсера розовыми китайскими фонариками. Она была изумительного кремового цвета и сверкала, словно позолоченная, потому что каждое утро, используя лучшее оливковое масло из Лукки,[53]53
Лукка – город в Центральной Италии.
[Закрыть] Полковник делал ей массаж, чтобы уберечь нежную кожу от трещин. Он потрепал ее по подбородку, и ее болтающиеся уши захлопали.
– Познакомьтесь, мистер Уолсер, это – Сивилла, моя партнерша по Игрищам.
Полковник развалился на вращающемся стуле, положив начищенные сапоги на стол среди остатков приготовления джулепа:[54]54
Джулеп – напиток из виски или коньяка с водой, сахаром, льдом и мятой.
[Закрыть] бутылки виски, ведерка со льдом, пучка мяты, повсюду распространявшего свой запах. Маленький толстый человек с редким седоватым «ежиком» на круглой голове, задуманным в пару к подобию эспаньолки на подбородке: в росте волос природа ему явно отказала. Курносый, с сизыми челюстями.
Под его обширным животом на ремне виднелась бронзовая пряжка в виде знака доллара; наверняка Феверс упоминала о нем. Даже в относительной уединенности гостиничного номера Полковник носил свой «фирменный» костюм: узкие штаны в бело-красную полоску и синий жилет, украшенный звездами.
Кроме того, американский флаг с позолоченным орлом на древке стоял в углу, развернутый с вопиющим пренебрежением: хоть Полковник и родился в Кентукки, патриотом Юга он не был, нет! Веселому голубому флагу здесь не осталось места: все было покрыто звездами и полосами.[55]55
До гражданской войны 1861–1865 гг. Южные штаты имели свой флаг, в котором преобладал голубой цвет.
[Закрыть] Завернутые рукава рубахи, поддерживаемые блестящими пружинами. Старомодный сюртук с фалдами свисал с подлокотника, на котором висел и котелок. Во рту Полковник мусолил огромную гаванскую сигару. Над его головой, извиваясь, тянулся ароматный лиловый дымок.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?