Текст книги "Удольфские тайны"
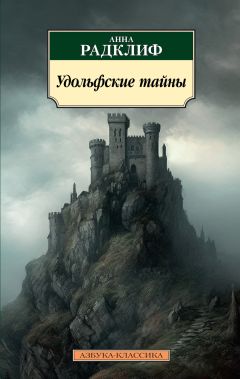
Автор книги: Анна Радклиф
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Незнакомец заверил его, что охотно сообщит все, что знает, и рассказал о дороге, проходившей значительно восточнее, в направлении города, откуда легко добраться до Руссильона.
Они пришли в деревню и занялись поисками места для ночевки, но побывав в нескольких хижинах, до того бедных и грязных, что рассчитывать на постель даже не приходилось, Сен-Обер отказался от дальнейших попыток. Эмили заметила разочарование отца и посетовала, что он выбрал дорогу, непригодную для путешествия человека со слабым здоровьем. Другие хижины произвели не столь страшное впечатление: они состояли из двух так называемых «комнат». В первой помещались мулы и свиньи, а вторую занимали семьи, как правило, состоявшие из родителей и шести-восьми детей, которые спали вповалку на сухих березовых листьях и шкурах, покрывавших земляной пол. Свет поступал сквозь отверстие в крыше, через него же выходил дым очага. В помещении стоял крепкий запах алкоголя, так как контрабандисты не обошли стороной Пиренеев и познакомили местных жителей с горячительными напитками.
Отвернувшись от нерадостной картины, Эмили с нежной тревогой посмотрела на отца. Их спутник, видимо заметив выражение ее лица, отозвал Сен-Обера в сторону и предложил свою постель.
– По сравнению с этими мои условия вполне приличны, хотя при других обстоятельствах я постыдился бы о них упомянуть.
Сен-Обер поблагодарил его за великодушие, отказался, но молодой человек отказа не принял.
– Не заставляйте меня краснеть, зная, что вы ночуете на жестком полу, в то время как я нежусь в мягкой постели. К тому же, месье, ваш отказ оскорбляет мою гордость: создается впечатление, что вы считаете мое предложение недостойным. Позвольте вас проводить. Не сомневаюсь, что хозяйка удобно устроит и молодую даму.
В конце концов Сен-Обер принял предложение, хотя и несколько удивился, что незнакомец не проявил галантности, предложив свою комнату пожилому нездоровому мужчине, а не прелестной молодой девушке. Эмили же, напротив, заботу об отце встретила благодарной улыбкой.
Незнакомец наконец назвал свое имя: Валанкур – и, подведя спутников к лучшему в деревне дому, вошел первым, чтобы поговорить с хозяйкой. Спустя пару минут та показалась сама и пригласила гостей в комнаты. Добрая женщина с радостью приняла путников, предложив занять две имевшиеся в доме кровати. Из еды на столе оказались только яйца и молоко, но Сен-Обер предусмотрительно запасся провизией, поэтому с радостью пригласил Валанкура разделить трапезу. Приглашение было с благодарностью принято. Час прошел в просвещенной беседе. Сен-Обер с удовольствием отметил, что их нового знакомого отличает мужественная простота, открытость и глубокое восхищение величием природы. Сам он нередко утверждал, что это свойство души немыслимо без сердечной простоты.
Разговор прервал донесшийся с улицы шум: особенно громко кричал погонщик. Валанкур быстро поднялся и направился узнать причину ссоры, а поскольку крики не стихали, Сен-Обер вышел следом. Выяснилось, что Мишель требует, чтобы хозяйка позволила мулам ночевать в маленькой комнате, где она спала вместе с тремя сыновьями. Помещение отличалось крайней бедностью, но другого места не было, и с душевной тонкостью, не совсем обычной для жителей этого дикого края, женщина отказывалась впустить животных в помещение. Погонщик, почувствовав себя оскорбленным непочтительным отношением к благородным существам – пожалуй, даже пощечину он принял бы с бóльшим смирением, – торжественно заявил, что его мулы самые достойные во всей провинции и заслуживают уважительного отношения.
– Они кроткие как ягнята, – заверил Мишель, – конечно, если их не сердить. За всю жизнь я только раз-другой сталкивался с их неправильным поведением, да и то для гнева существовал серьезный повод. Однажды они наступили на спавшего в стойле мальчика и сломали ему ногу. Но я их отругал, и, видит святой Антоний, они меня поняли, потому что больше такое никогда не повторялось.
Красноречивый монолог закончился заверением, что животные всегда ночуют вместе с ним.
Валанкур попытался уладить разногласия: отозвал хозяйку в сторону и стал уговаривать уступить комнату погонщику, а детей уложить на предназначенную ему шкуру. Ну а сам он был готов завернуться в плащ и устроиться на скамье возле двери. Та не соглашалась, но Валанкур все же настоял на своем, и после долгих препирательств мир был восстановлен.
Уже наступила ночь, когда Сен-Обер и Эмили разошлись по своим кроватям, а Валанкур устроился на скамейке, которую предпочел шкуре и духоте хижины.
Сен-Обер с удивлением обнаружил на полке в комнате несколько книг Гомера, Горация и Петрарки, однако начертанное на книгах имя – Валанкур – подсказало, кому они принадлежат.
Глава 4
Сказать по правде, сей человек был странен:
Любил тоску зимы и радость лета,
Искал восторга он в густом тумане
Не меньше, чем в сиянье света.
Под солнцем юга счастливо он жил,
Ловил удачу и не знал печали.
Бог наградил его избытком сил,
А люди всюду радостно встречали.
Ни вздоха грустного, ни слез не ведал он.
Песнь менестреля
Сен-Обер проснулся рано, освеженный сном и готовый продолжить путь. Он пригласил Валанкура разделить с ним завтрак. За столом тот поведал, что несколько месяцев назад добрался до Божё – городка по пути в Руссильон, и рекомендовал выбрать этот путь. Сен-Обер решил последовать совету.
– Дорога из этой деревни пересекается с дорогой в Божё на расстоянии примерно полутора миль отсюда. Если позволите, я покажу погонщику направление. Мне все равно надо куда-то идти, а ваше общество сделает путешествие приятнее любого другого.
Сен-Обер с благодарностью принял предложение, и новые знакомые тронулись в путь вместе, причем молодой охотник отказался от места в экипаже и пошел пешком.
Дорога вилась у подножия гор, по мирной долине, где обильно росли карликовые дубы, буки и платаны, а в густой тени деревьев отдыхали стада. Выше, на склонах, где скудная почва едва скрывала корни, простирали ветви рябины и плакучие березы, чьи легкие листья отвечали каждому дуновению ветерка.
В этот ранний прохладный час то и дело встречались пастухи, гнавшие стада на горные пастбища. Сен-Обер специально поспешил с выездом: не только для того, чтобы насладиться восходом солнца, но и чтобы подышать свежим утренним воздухом, особенно целительным для слабого здоровья благодаря изобилию диких цветов и ароматных трав.
Предрассветные сумерки, смягчавшие пейзаж особой серой дымкой, уступили место солнечному свету, и Эмили заметила наступление дня, поначалу робко трепетавшего на верхушках гор, а потом уверенно вступившего в свои права, в то время как склоны и долина еще дремали в росистом тумане. Постепенно угрюмые серые облака на востоке начали розоветь, краснеть и, наконец, окрасились тысячью цветов, когда золотистый свет наполнил воздух, коснулся нижнего яруса гор и обратился к долине и реке длинными косыми лучами. Казалось, природа пробудилась от вечного сна и вернулась к жизни. Сен-Обер ощутил обновление. Сердце его наполнилось чувствами, он заплакал и обратился мыслями к великому Создателю.
Эмили хотелось пройтись по траве – такой зеленой и блестящей от росы; хотелось ощутить восторг свободы подобно горной серне, легко прыгавшей с камня на камень. Валанкур часто обращался к спутникам, привлекая их внимание к особенно красивым видам.
Сен-Оберу молодой человек очень понравился. «Вот истинное проявление непосредственности и душевного благородства. Этот парень никогда не был в Париже», – подумал он.
К сожалению, через некоторое время их дороги разошлись. Настала минута прощания, и сердце Сен-Обера с сожалением приняло необходимость расставания.
Остановившись возле экипажа, Валанкур долго разговаривал со спутниками. Несколько раз он собирался уйти, но тут же поспешно находил новую тему, чтобы протянуть время. Сен-Обер заметил, что, уходя, он задумчиво и грустно посмотрел на Эмили, когда та поклонилась новому знакомому с выражением дружелюбной скромности. Когда экипаж отъехал, Сен-Обер выглянул в окошко и увидел, что Валанкур продолжает стоять на краю дороги, обеими руками опершись на копье, и неотрывно смотрит им вслед. Сен-Обер помахал ему рукой. Словно очнувшись, Валанкур ответил на прощальный салют и пошел своим путем.
Пейзаж постепенно менялся: вскоре вокруг показались горы, сплошь покрытые темным сосновым лесом, кроме редких гранитных скал с теряющимися в облаках снежными вершинами. Речушка, по берегу которой шла дорога, превратилась в полноводную реку и теперь текла важно и неспешно, отражая черноту нависающих гор.
Порой над лесом и парящим туманом гордо поднимала голову скала или из реки вздымался каменный остров, на котором раскинула гигантские ветви старинная лиственница, местами раненная молниями, местами покрытая буйной растительностью.
Путь по-прежнему пролегал по дикой и пустынной местности. Лишь время от времени вдалеке, в долине, проходил одинокий пастух с собакой да в ветвях сосен шелестел ветер, а высоко в небе вскрикивали орлы и другие хищные птицы.
Экипаж медленно двигался по ухабистой дороге. Сен-Обер то и дело выходил из экипажа, чтобы рассмотреть удивительные растения на обочине, а Эмили углублялась в лес и в полной тишине прислушивалась к голосам обитателей и шуму деревьев.
На протяжении многих миль не встречалось ни сел, ни деревушек. О присутствии человека напоминали лишь приютившиеся среди скал хижины пастухов и охотничьи избушки.
Путники пообедали на свежем воздухе, под сенью кедров, и отправились дальше.
Теперь дорога пошла под уклон и, миновав сосновый лес, начала пробираться между каменистыми ущельями. Солнце уже клонилось к закату, и путники не знали, далеко ли еще до Божё. Сен-Обер предполагал, что расстояние не может быть очень большим, и утешал себя мыслью, что после этого города, где он надеялся найти ночлег, дорога станет более оживленной.
В сумраке неясно виднелись смешанные леса и поросшие вереском горные склоны, однако вскоре и эти неясные картины утонули во тьме.
Мишель двигался осторожно, с трудом различая дорогу. К счастью, мулы видели в темноте лучше и потому ступали уверенно.
Внезапно за поворотом появился яркий свет, озаривший и горы, и горизонт. Сен-Обер предположил, что это костер, разведенный скрывавшимися в Пиренеях бандитами, и забеспокоился, не пролегает ли путь мимо их стоянки. Конечно, пистолет мог защитить от нападения, хотя сопротивляться отчаянным грабителям было почти невозможно. Пока он раздумывал, позади экипажа прозвучал приказ погонщику остановиться. Сен-Обер в свою очередь потребовал ехать как можно быстрее, однако то ли Мишель, то ли мулы отличались редким упрямством и продолжали неторопливое движение. Вскоре послышался стук лошадиных копыт. К экипажу подъехал всадник и повторил приказ. Теперь Сен-Обер уже не усомнился в намерениях чужака и поспешно выхватил пистолет. В этот момент бандит схватился за дверь кареты. Сен-Обер выстрелил, и всадник, застонав, закачался в седле. К своему ужасу, Сен-Обер узнал слабый голос Валанкура и приказал погонщику остановиться, затем окликнул раненого по имени и, получив не оставивший сомнений ответ, бросился на помощь. Валанкур по-прежнему держался в седле, однако истекал кровью и страдал от боли, хотя и пытался заверить, что ранен легко, всего лишь в руку. Вместе с погонщиком Сен-Обер помог ему спешиться, усадил на обочине и попытался перевязать рану, но руки дрожали, и ничего не получалось. Мишель бросился догонять убежавшую лошадь, а потому пришлось призвать на помощь Эмили. Дочь не отзывалась, и, подойдя к экипажу и заглянув внутрь, Сен-Обер обнаружил ее лежащей в глубоком обмороке. Растерявшись и не зная, кому помогать в первую очередь, он попытался поднять Эмили и крикнул Мишелю, чтобы тот принес воды из реки, но погонщик был слишком далеко. Валанкур же, услышав крик и неоднократно повторенное «Эмили», сразу понял, в чем дело, и, забыв о собственных страданиях, бросился на помощь. Когда он подошел, девушка уже начала приходить в себя. Поняв, что причиной обморока стало беспокойство за него, Валанкур дрожащим (но не от боли) голосом заверил ее, что ранение несерьезное. Сен-Обер повернулся к нему и, увидев, что кровь по-прежнему обильно течет, принялся перевязывать рану носовыми платками. Наконец кровотечение прекратилось, но тревога за последствия ранения не отступила, и Сен-Обер уточнил, далеко ли еще до Божё. Валанкур ответил, что осталось две мили. Трудно было представить, как, ослабев, он вынесет поездку в тряском экипаже, но стоило Сен-Оберу заговорить на эту тему, как Валанкур попросил не беспокоиться за него, заверив, что прекрасно справится, а само происшествие не стоит внимания. Вернувшийся с лошадью погонщик помог ему сесть в экипаж. Эмили уже пришла в себя, и путешествие в Божё пусть и медленно, но продолжилось.
Придя в себя после ужаса, вызванного несчастным случаем, Сен-Обер выразил удивление по поводу внезапного появления Валанкура, и тот объяснил свой поступок следующим образом:
– Вы, месье, пробудили во мне интерес к обществу. Расставшись с вами, я ощутил одиночество. Поскольку ничто не ограничивало моей свободы передвижения, я решил поехать этой дорогой и насладиться романтичными видами. – На миг задумавшись, он добавил: – К тому же – почему бы не признаться? – я надеялся вас догнать.
– А я в свою очередь оказал неожиданный прием, – ответил Сен-Обер, все еще переживавший из-за собственной поспешности в действиях.
Валанкур, дабы не расстраивать спутников и избавить их от тревоги и чувства вины, боролся с болью и старался говорить весело. Эмили все время молчала, отвечая лишь на прямые вопросы, причем при каждом обращении к ней голос Валанкура по-прежнему красноречиво дрожал.
Они подъехали к костру уже так близко, что теперь различили движущихся вокруг него людей с дикими лицами, хорошо заметными в свете пламени. Это был один из многочисленных цыганских таборов, которые в то время кочевали по Пиренеям, часто промышляя разбоем и грабежом. Языки пламени придавали сцене романтический характер, отбрасывая красные отсветы на ближайшие скалы и деревья, но оставляя в глубокой тени окружающее пространство, куда боялся проникнуть осторожный взгляд.
Цыгане готовили еду. Над костром висел большой котел, рядом суетились несколько фигур. Неподалеку виднелось подобие шатра, возле которого играли дети и собаки. Сомнений в опасности не оставалось. Валанкур молча положил руку на один из пистолетов Сен-Обера, он сам достал другой и приказал Мишелю ехать как можно быстрее. К счастью, обошлось без неприятных последствий. Очевидно, цыгане не были готовы к стремительным действиям и больше интересовались ужином, чем припозднившимися путешественниками.
Проехав в темноте еще полторы мили, путники наконец прибыли в Божё и остановились возле единственной в городке гостиницы. Конечно, она выглядела лучше тех жилищ, что довелось встретить в горах, но все же не дотягивала до мало-мальски приличной для ночлега.
Немедленно послали за местным лекарем, если можно так назвать того, кто пользовал не только людей, но и лошадей, а так же брил и вправлял кости. Добрый человек осмотрел рану и, убедившись, что пуля прошла навылет, перевязал руку, предписав раненому соблюдать покой. Впрочем, подчиняться тот не собирался.
Воспрянув духом, Валанкур с готовностью завел беседу со спутниками, и те, обрадовавшись, что опасность миновала, весело поддержали разговор. Несмотря на поздний час, Сен-Обер отправился вместе с хозяином гостиницы купить к ужину мяса. Эмили некоторое время занималась обустройством в комнате, которая превзошла ее ожидания, но теперь вернулась, чтобы составить компанию Валанкуру. Они беседовали об удивительном крае, по которому пролегал их путь, о необыкновенных растениях, о поэзии и Сен-Обере: об отце Эмили всегда говорила и слушала с особым интересом и нескрываемым удовольствием.
Вечер прошел очень приятно, но, поскольку Сен-Обер утомился в дороге, а Валанкур страдал от боли, вскоре после ужина все разошлись по своим комнатам.
Утром выяснилось, что раненый провел беспокойную ночь: началась лихорадка, боль не отступала. Лекарь посоветовал не продолжать путь, а остаться в Божё: разумный совет, отвергать который не следовало, – но Сен-Обер не доверял местному эскулапу и хотел передать Валанкура в более надежные руки. К сожалению, оказалось, что на расстоянии нескольких миль не было ни одного города, где могли бы предоставить квалифицированную помощь, поэтому Сен-Обер изменил планы и решил дождаться выздоровления раненого. Впрочем, сам Валанкур пытался возражать, хотя и не вполне искренне, скорее из приличия.
По рекомендации лекаря в тот день Валанкур не покидал своей комнаты, в то время как Сен-Обер и Эмили отправились изучать окрестности. Городок приютился у подножия гор, поражавших воображение то глубиной ущелий, то высотой кедров, пихт и кипарисов, почти достигавших горных вершин. Среди темных хвойных лесов весело зеленели буки и рябины, а кое-где в вышине шумели бурные потоки.
Недомогание Валанкура на несколько дней задержало путешественников в Божё. Все это время Сен-Обер со свойственным ему философским интересом изучал характер спутника. Перед ним предстала натура искренняя, пылкая и щедрая, восприимчивая ко всему возвышенному и прекрасному, хоть и излишне страстная и романтическая. Валанкур плохо представлял реальную жизнь. Взгляды его отличалось ясностью, а чувства – благородством. Осуждение недостойного поступка или одобрение поступка великодушного он выражал с равной горячностью. Порой Сен-Обер улыбался откровенности молодого человека, но редко пытался ее обуздать, не раз повторив про себя: «Этот юноша никогда не бывал в Париже». Сен-Обер решил не оставлять спутника до тех пор, пока тот полностью не поправится. Вскоре Валанкур восстановил силы настолько, что мог отправиться дальше, хотя и не верхом. Поэтому Сен-Обер предложил ему место в своем экипаже – тем охотнее, что узнал о принадлежности молодого человека к весьма достойной семье Валанкур из Гаскони. Приглашение было с благодарностью принято, и по дикой, но необыкновенно живописной местности все отправились дальше, в Руссильон.
Ехали неспешно, останавливаясь при виде особенно впечатляющего пейзажа. Часто выходили из экипажа, поднимались на недоступные мулам возвышенности и смотрели вдаль, бродили по холмам, поросшим лавандой, тимьяном, можжевельником и тамариском, или под сенью деревьев, между которыми то тут, то там виднелось длинное горное ущелье дивной красоты.
Время от времени Сен-Обер занимался сбором редких растений, а Валанкур и Эмили медленно шли вперед. Молодой человек показывал то, что казалось ему особенно интересным, и наизусть читал строки любимых латинских и итальянских поэтов. Порой, в паузах, он украдкой смотрел на ее лицо, а когда заговаривал снова, в голосе его слышалась особая нежность, хотя он и пытался скрыть свои чувства. Постепенно молчание становилось все более продолжительным, и Эмили старалась возобновить беседу, снова и снова восхищаясь лесами, долинами и горами, лишь бы избежать опасности многозначительного безмолвия.
Дорога неуклонно поднималась. Вскоре показались суровые ледники и горные вершины, покрытые вечными снегами. Путешественники часто останавливались и, присев на скалу, где могли выжить только падубы и лиственницы, смотрели поверх хвойных лесов и бездонных ущелий вниз, в долину – такую глубокую, что едва слышался шум протекавшего по ее дну потока. Над этими утесами возвышались другие – непостижимой высоты и фантастической формы. Одни вытягивались конусами, другие нависали над своим основанием огромными гранитными глыбами, покрытыми снегом, который угрожал обрушиться при малейшем звуке и принести в долину несчастье.
Вокруг, на сколько хватает глаз, природа поражала величием: окрашенными в эфемерные голубые тона или белыми от снега длинными линиями горных вершин, ледяными долинами, мрачными хвойными лесами. Особое восхищение вызывала безмятежная прозрачность воздуха, возвышавшая дух и дарившая покой сознанию. Для выражения не испытанных прежде чувств не хватало слов. Душа Сен-Обера переполнилась торжественным благоговением. К глазам то и дело подступали слезы, и чтобы скрыть их от спутников, ему приходилось отходить в сторону. Валанкур время от времени обращал внимание Эмили на особенно выдающиеся картины; ее же особенно поражала обманчивая прозрачность воздуха: трудно было поверить, что кажущиеся близкими объекты на самом деле находятся очень далеко. Глубокая тишина нарушалась лишь криками сидевших на скалах грифов и паривших в вышине орлов. Изредка далеко внизу прокатывался глухой гром. В небесах царила не замутненная ни единым облачком голубизна, а под ногами собирался густой туман.
Проехав много миль по необыкновенному краю, путешественники начали спускаться к Руссильону. Пейзаж стал более привычным. Хотя уставший от величия природы глаз с радостью отдыхал при созерцании мирной реки и раскинувшихся на ее берегах рощ и пастбищ, они то и дело с сожалением оборачивались назад. Сердце радовалось при виде приютившихся под кедрами скромных хижин, весело игравших детей, притаившихся среди холмов цветочных полян.
Немного ниже показался один из ведущих в Испанию грандиозных перевалов. Его укрепления и башни сияли в лучах закатного солнца, желтые вершины лесов золотили склоны, а над головой по-прежнему возвышались розовеющие снежные вершины гор.
Сен-Обер начал осматриваться в поисках небольшого городка Монтиньи, который жители Божё рекомендовали для ночлега, однако пока никаких признаков жилья видно не было. Валанкур помочь не мог, так как никогда не бывал в этой части Альп, но других дорог не наблюдалось, ни одного перекрестка не встретилось, так что в правильности выбранного пути сомневаться не приходилось.
Солнце дарило последние скудные лучи, и Сен-Обер постоянно торопил погонщика. После долгого утомительного дня он испытывал слабость и мечтал об отдыхе. Вскоре их внимание привлек длинный караван, состоящий из лошадей и тяжело нагруженных мулов. Он спускался по противоположному склону, то пропадая за лесом, то снова появляясь, так что судить о его численности было невозможно. Порой в лучах солнца блестело оружие; сидевшие в повозках люди были в военных мундирах, как и некоторые из тех, кто следовал в авангарде. Когда процессия скрылась в долине, из леса донесся стук копыт, и показался вооруженный отряд. Сен-Обер успокоился, поняв, что это перехваченные регулярным войском контрабандисты, переправлявшие через Пиренеи запрещенные товары.
Восхищаясь живописными горными пейзажами, путешественники потеряли так много времени, что теперь не знали, смогут ли приехать в Монтиньи до наступления темноты. Но неожиданно за поворотом показался грубый альпийский мост, переброшенный между двумя утесами, на котором стайка детей развлекалась тем, что бросала камешки в протекавшую внизу реку и наблюдала за фонтанами белых брызг в сопровождении гулкого, протяжного эха. Под мостом открывалась долина с ниспадающим с обрыва потоком и хижиной на скале, под соснами. Стало ясно, что городок уже близко. Сен-Обер остановил погонщика и обратился к детям с вопросом, далеко ли до Монтиньи. Однако шум воды заглушил его голос, а утесы выглядели настолько крутыми, что взобраться на любой из них, не имея опыта, казалось невозможным. Сен-Обер решил не тратить времени понапрасну и продолжил путешествие даже после того, как тьма окончательно скрыла дорогу – такую неровную, что идти пешком показалось предпочтительнее. Уже поднялась луна, но тусклый серебряный свет не смог помочь усталым путникам. К счастью, они услышали звон церковного колокола. Темнота не позволяла рассмотреть само здание, однако звуки долетали с лесистого склона с правой стороны. Валанкур предложил немедленно отправиться на поиски монастыря.
– Если монахи не смогут устроить нас на ночь, то во всяком случае подскажут, далеко ли до Монтиньи, и объяснят, как туда добраться.
Не дожидаясь ответа, молодой человек устремился в лес, но Сен-Обер его остановил.
– Я очень устал и хочу одного: как можно скорее прилечь. Пойдемте в монастырь все вместе. Монахи могут отказать вам, но, увидев нас с Эмили, наверняка сжалятся.
С этими словами он взял дочь за руку, приказал Мишелю сторожить экипаж и начал подниматься вверх по склону. Заметив нетвердую походку спутника, Валанкур великодушно предложил ему свою здоровую руку, чтобы опереться. Луна поднялась уже достаточно высоко, освещая тропинку и какие-то башни над вершинами деревьев. Следуя призыву колокола, путники вошли в лес. Теперь лунный свет скользил среди листвы и отбрасывал на крутую извилистую тропу лишь дрожащие отблески. Мрак, тишина, нарушаемая лишь колокольным звоном, и дикая местность повергли бы Эмили в ужас, если бы не спасал мягкий, но уверенный голос Валанкура.
Через некоторое время Сен-Обер пожаловался на усталость. Для отдыха выбрали маленькую зеленую полянку, где деревья расступились, впуская лунный свет. Сен-Обер сел на траву между Эмили и Валанкуром. Колокол умолк, и уже ничто не нарушало глубокую тишину, а глухое бормотание далекого потока скорее подчеркивало молчание природы. Внизу простиралась долина, по которой они только что ехали. Посеребренные луной камни и деревья слева представляли контраст с противоположными скалами, едва тронутыми светом. Сама же долина терялась в туманной дымке. Путники долго сидели, погрузившись в умиротворенный покой.
– Такие картины, – наконец заговорил Валанкур, – смягчают сердце, подобно нежной мелодии, и вселяют в душу восхитительную меланхолию. Кто хоть раз испытал это чувство, никогда не променяет его на самые веселые развлечения. Пейзажи пробуждают лучшие – высокие и чистые – чувства, располагают к великодушию, сопереживанию и дружбе. В такой час, как этот, я всегда еще больше люблю тех, кого люблю.
Голос его задрожал, и речь прервалась.
Сен-Обер молчал. Эмили ощутила на своей руке, которую сжимал отец, теплую слезу и поняла, о ком он думает. Она тоже часто вспоминала матушку.
Он с усилием поднялся и, подавив печальный вздох, проговорил:
– Да, воспоминания о любимых, об ушедших счастливых временах в такой час трогают ум, как далекая музыка в ночной тишине; они такие же нежные и гармоничные, как дремлющий в мягком серебряном свете пейзаж. – Помолчав мгновение, Сен-Обер добавил: – Мне всегда казалось, что в подобные минуты думается яснее, и только бесчувственные сердца не смягчаются под влиянием трогательных мыслей. И все же таких сердец немало.
Валанкур вздохнул.
– Неужели такое возможно? – удивилась Эмили.
– Пройдет несколько лет, дорогая дочка, и ты улыбнешься, вспомнив свой вопрос, – если, конечно, не заплачешь. Но, кажется, я немного отдохнул. Пришла пора продолжить путь.
Вскоре лес закончился, и на зеленой возвышенности показался монастырь, окруженный высокой стеной. Путники постучали в старинные ворота, и появившийся на стук монах проводил гостей в небольшую комнату, попросив подождать, пока сообщит настоятелю.
Наконец монах вернулся и проводил путников в кабинет, где за столом перед большой раскрытой книгой сидел сам настоятель. Он принял посетителей любезно, хоть и не поднялся с кресла, задал несколько вопросов и позволил им провести ночь в монастыре.
После короткой беседы путников проводили в трапезную, а один из молодых братьев вызвался помочь Валанкуру найти Мишеля и мулов. Впрочем, не успели они спуститься и до половины склона, как услышали голос погонщика. Тот по очереди звал то Сен-Обера, то Валанкура. Шевалье заверил его, что бояться нечего, устроил на ночлег в хижине у подножия холма и вернулся к друзьям, чтобы разделить скромный ужин, предложенный монахами.
Сен-Обер ослаб настолько, что не мог есть. Беспокоясь об отце, Эмили совсем забыла о себе, а молчаливый, задумчивый Валанкур наблюдал за обоими с глубоким вниманием и при малейшей возможности старался помочь больному. Сен-Обер, в свою очередь, замечал, с какой нежностью молодой человек смотрел на Эмили, когда та пыталась накормить отца или поправить подушку у него за спиной. Особенно важным ему показалось то обстоятельство, что дочь благосклонно принимала это восхищенное внимание.
После ужина все разошлись по своим комнатам. Эмили постаралась как можно скорее проститься с провожавшей ее монахиней, так как из-за переживаний с трудом могла поддерживать разговор. Она ясно видела, что отец слабеет день ото дня, и объясняла нынешнюю усталость не трудностями путешествия, а болезненным состоянием. Черные мысли заполонили ум, долго не давая уснуть.
Едва беспокойный сон все-таки пришел, его прервал звон колокола, и галерея, куда выходила дверь ее комнаты, тут же наполнилась звуком торопливых шагов. Эмили так плохо знала монастырские обычаи, что сразу встревожилась. Решив, что отцу стало совсем плохо, она поспешила на помощь, но пока стояла в коридоре, пропуская монахов, мысли ее пришли в порядок, и она поняла, что колокол призывал на ночную молитву.
Наконец звон стих. Снова воцарилось спокойствие, и Эмили не захотела нарушать отдых отца. Спать уже не хотелось, да и луна, заглянувшая в окно, так манила открыть его полюбоваться сказочным пейзажем.
Стояла тихая прекрасная ночь. Ни единое облачко не тревожило небесный покой, ни единый лист не дрожал на деревьях. В ночном безмолвии из часовни на скале донесся стройный монашеский хор. Священный гимн поднимался к небесам, а вместе с ним возвышались и мысли.
От раздумий о величии его деяний сознание обратилась к поклонению Господу в его величии и милости. Чего бы ни коснулся взгляд – будь то спящая земля или недоступные постижению сияющие высоты, – повсюду проявлялось могущество и всевластие божественного присутствия.
Глаза Эмили наполнились слезами безмерной любви и бескрайнего восхищения. Она ощутила ту чистую, превосходящую все человеческие понятия преданность, которая возносит душу над миром и погружает в иные сферы. Преданность, которую можно испытать в те редкие мгновения, когда, освободившись от земных забот, сознание стремится воспринять его силу в безупречности его созданий, а его милость – в бесконечности его благословений.
Разве не настал тот час,
Священный час, когда в безоблачную высь
Небес восходит светлый шар луны
И в тишине торжественного мира
Знак посылает, что пора к божественному уху
Свой голос обратить? Ребенок малый
Знает это и из колыбели ручонки тянет,
Прося благословенья[4]4
Мейсон Уильям (1724–1797). Карактак.
[Закрыть].
Вскоре монашеский хор стих, но, желая сохранить благоговейное состояние, Эмили еще долго смотрела на заходившую луну и тонувшую во мраке долину, а потом вернулась на узкую монастырскую кровать и погрузилась в спокойный сон.









































