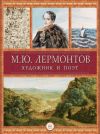Читать книгу "Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики"
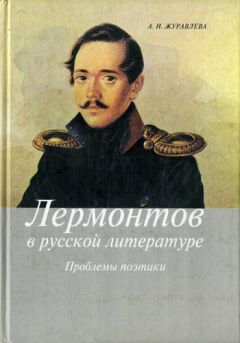
Автор книги: Анна Журавлева
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
На путь ему, выбежав из лесу, волк,
Крутясь, и подьемля щетину…
Ср. у Пушкина:
Из темного леса навстречу ему…
Характернейший балладный амфибрахий, один балладный настрой в обоих случаях, только не волхв, а волк…
Отметим, однако, что Баратынский здесь явно оспаривает философию пушкинской баллады. Собственно, Пушкин сам уже ставит под сомнение типичную для романтической баллады необходимость для человека считаться с предвещанием, предупреждением таинственных сил: князь послушал волхва, но угроза исполнилась. Вместе с тем историческую и государственную роль, которую сбирался исполнить Олег, осуществить ему дано было, и, следовательно, таинственные силы, подавшие знак непосредственно перед походом Олега, в этом его оберегли и пощадили. Замечу, что помимо идеи скорей общего закона, чем прихотливого, даже коварного всевластия таинственных сил традиционной баллады здесь ощутима и цивилизаторская, национально-государственная позиция Пушкина.
«Возражение» же Баратынского касается типичной классической балладной ситуации, оно, можно сказать, инверсировано по отношению к ней: грозное, пугающее предвещание баллады заменено, напротив, благим предупреждением: «дружелюбной заботы полна» о человеке природа. Для Баратынского (и здесь его отличие от классических форм романтизма) таинственное – сфера природы, и в этом смысле оно не «сверх» а именно что естественно. И, лишь изменив своей природной, родственной всему бытию сущности, человек оказывается беззащитен: ему «нет на земле прорицаний».
Но в «Приметах» помимо диалога с Пушкиным, подчеркнутого стихом и словесными красками, возникает и другая аналогия, не стилевая и смысловая, а структурная. При всей разнице фактуры (материала, стиха, словаря, общего тона) стихотворение Баратынского имеет определенное сходство с такими стихами Лермонтова, как «Ветка Палестины».
Начатое как типичное «обращение к вещи» (ср., например, пушкинский «Цветок») серией риторических вопросов, стихотворение Лермонтова затем словно дает на них серию предположительных вариативных ответов, каждый из которых, в сущности, представляет собой зерно, живой фрагмент сюжета балладного типа, если не свернутый сюжет (как в «Приметах»), а все стихотворение превращается как бы в цепочку таких драматически сопоставленных, не реализовавшихся в подробном повествовании баллад, возникших в потоке чисто лирической медитации. «Ветка Палестины» ярко демонстрирует характерные для Лермонтова баллады, растворенные в чистой лирике, которая, однако, благодаря этому приобретает особый привкус, как бы подспудно включая в себя тревожную и таинственную атмосферу романтической баллады (о чем еще будет речь впереди).
Собственно говоря, «обращение к вещи», «вопрошание вещи», «беседа с вещью» или рассказ о вещи как жанр и предполагают такую потенциальную множественную сюжетность, но характерная балладно-экзотическая окрашенность самих этих сюжетов, на мой взгляд, здесь уже позволяет соотнести балладность Баратынского с балладностыо Лермонтова: к тому же у обоих – балладность без баллады.
Можно, пожалуй, сказать: ни у кого драматизм баллады не выражен так ярко, как у Лермонтова, и вместе с тем именно в его поэзии русская лирика классического периода по-настоящему рассталась с каноном баллады, растворив ее в себе и обогатившись ею. Однако лермонтовская эволюция баллады, самого балладного понимания судьбы, таинственных сил, вступающих в отношения с человеком в балладных сюжетах, не меняет. Романтическая конфликтность сознания и трагизм мироздания в стихотворениях этого типа у него вполне сохраняются.
Баратынский же не принимает в балладе балладной тревожности и угрозы. «Приметы» демонстрируют характерный для Баратынского рациональный подход к таинственному. Это не всемогущее зло, а опасность и беда, к которой человек может приготовиться (он только не может их игнорировать, не может и не должен не считаться с самой их перспективой). Само понятие судьбы у Баратынского иное, чем для всей традиции Жуковский – Пушкин – Лермонтов.
Как известно, для античной традиции понятие судьбы еще важней, чем для романтиков. Но оно коренным образом отличается от романтического. Фатум таинствен, и достоинство человека в том, чтоб принять его и подчиниться. Отношение романтического сознания к судьбе – это, так сказать, «скандал мирозданию», вызов и готовность к гибели.
Баратынский, как мы видели, в «Приметах» утверждает природность таинственного, изначальную сопричастность человека миру через природу. И потому в мире Баратынского человек природен, а не конфликтен. Думается, такая позиция оказалась возможной как раз потому, что в отличие от Пушкина и Лермонтова Баратынский на удивление деполитизирован. И именно деполитизированному сознанию гораздо легче принять апологию старинного, архаического опыта человечества.
Рационалистичность Баратынского, как представляется, идет не столько от традиции просветительского XVIII в., сколько от пройденного и преодоленного романтического опыта. Приятие мироздания как бы на ином витке размышлений о нем. Трагизм бытия, ощущение которого столь важно в поэтическом мире Баратынского, есть результат разрыва человека со своей природной сущностью, отпадения от мира.
Таким образом, «внеличностный романтизм», как не очень удачно обозначила И.М. Семенко необычность Баратынского в своей прекрасной работе о его поэзии4, все-таки едва ли внеличностный. Скорей лирический герой Баратынского – в отличие от большинства романтических героев – «неконфликтен», и «счет», который предъявляет несовершенству и трагизму земного бытия европейский романтизм и его русская ветвь, музой Баратынского не предъявляется. Думается, ее лица необщее выраженье прежде всего в этом.
Удивительный дар Баратынского при несомненном трагизме и всеобъемлющей рефлексии стремится тем не менее именно гармонизировать мир посредством искусства:
Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей:
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.
___________________________________________________
1 Серман И.З. Михаил Лермонтов. Жизнь в литературе. 1836–1841. Иерусалим, 1997.
2 Несмотря на отсутствие достаточных документальных свидетельств, думаю, прав А.М. Песков, объясняющий разрыв с Киреевским не литературными, а чисто бытовыми причинами, какой-то светской сплетней, поссорившей их. См. Летопись…
3 Дерюгина Л.B. О жизни поэта Евгения Баратынского // Е.А.Баратынский. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1997.
4 Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. М., 1970.
Глава 4
Элегии и лирические монологи
Как мы видели, в поэзии Лермонтова жанр аллегории претерпевает глубокие изменения и, по существу, совершенно перерождается. Постепенно складывается лирика особого типа: с небывало большим значением художественного подтекста, богатая ассоциациями, требующая активного и творческого восприятия. Сюда относятся такие стихотворения Лермонтова, как «Парус», «На севере диком», «Утес», «Тучи», поздние баллады.
Вместе с тем в лирике Лермонтова на протяжении всей жизни поэта развивается и совершенствуется жанр лирического монолога, медитативный по своему характеру. Отказ от конкретной образности (хотя бы и в такой очень рационалистической форме, как аллегория) и победа монолога-рассуждения – закономерное явление в поэзии любомудров. Явление это – непосредственный результат их литературной теории и тех целей, которые они перед собой ставили. По существу, в их поэзии формируется новый жанр лирического стихотворения – философский монолог. Разумеется, само понятие жанра в изучаемый период изменяется по сравнению с тем, каково оно было в применении к лирике конца XVIII – начала XIX вв. Монолог – очень свободная, даже в известной мере расплывчатая форма, но именно эта неопределенность, допускающая большое разнообразие, делает его характерным явлением для русской литературы того времени. Это – любимый жанр молодого Лермонтова. Но лермонтовский монолог – явление существенно новое по сравнению с монологом любомудров. Поэзия Лермонтова уже в самые ранние годы сплавлена единством лирического сознания. В сущности, она может быть прочитана как своеобразный лирический роман одного героя, повествование о становлении духовного мира человека 30-х годов. Но это специфическое свойство лермоновской лирики присуще ей именно как целостному единству. Совершенно понятно, что в каждом отдельном лирическом стихотворении, взятом изолированно, оно не может быть уловлено вполне. Тем не менее и внутри одного стихотворения какие-то черты могут предстать в совершенно особом значении, если их рассматривать в свете этого представления об общем характере лирики Лермонтова.
Мы уже говорили о том, что в ранней лермонтовской аллегории поэт выступает как герой, организующий сюжет стихотворения. Аллегория при этом теряет характер общеморалистической сентенции и становится обобщением индивидуального жизненного опыта. В несравненно большей степени это характерно для лермонтовских философских монологов. Ярко выраженный личностный характер размышления отличает Лермонтова от любомудров. Даже в лучших философских стихотворениях Шевырева высказанная в них мысль лишь постольку соотнесена с субъектом размышления, поскольку это обусловлено законами лирики как рода, то есть это отношение условно и остается как бы вне текста, за рамками стихотворения.
Почти все исследователи отмечали биографизм ранней лермонтовской лирики. Это качество столь определенно выражено, что литературное наследие поэта ученые с большим основанием рассматривают как важный источник при создании его научной биографии. Биографизм лермонтовской лирики имеет не только социально-бытовое, но и собственно литературное объяснение. Именно таким образом на первых порах проявилось характерное для всего творческого пути Лермонтова стремление к максимально полному и максимально непосредственному отражению в поэзии своего личного, индивидуального духовного опыта. Необычайная, можно сказать, бесстрашная откровенность, которой Лермонтов остался верен в своей лирике до конца жизни, пробивается и в его ранних стихотворениях. При вдумчивом чтении она ясно ощутима даже в таких стихотворениях, которые на первый взгляд кажутся (и не без основания) вполне «литературными», написанными в духе байронического романтизма.
Иногда стремление Лермонтова быть биографически точным в своем творчестве приводит к курьезам. В стихотворении «На жизнь надеяться страшась» первые строфы представляют собой описание разочарований, постигнувших героя в жизни. С романтической таинственностью говорится о предопределенном судьбой отказе от любви и славы во имя «тайных дум». И вдруг в пятой строфе читаем:
Всмотритесь в очи, в бледный цвет; —
Лицо моё вам не могло б
Сказать, что мне пятнадцать лет.
………………………………………..
И скоро старость приведет
Меня к могиле —
Я взгляну
На жизнь – на весь ничтожный плод —
И о прошедшем вспомяну.
Это неожиданное напоминание о точном возрасте автора (15 лет!) не только не вынуждено какой-либо сюжетной необходимостью, но, напротив, оно разрушает впечатление, созданное предыдущими стихами. Мы обратили внимание на крайний случай, каких совсем не много и в ранние годы поэта. Но этот промах симптоматичен. В нем особенно очевидна та угроза для лирики, которую таит в себе бытовая достоверность, биографическая деталь. Подлинно художественное выражение конкретно-личного эмоционального, интеллектуального, социального опыта, освобожденного от мелких натуралистических подробностей, стало постоянным качеством лермонтовской лирики лишь начиная с 1836–1837 гг. Жанр философского монолога в чистом виде характерен преимущественно для ранней лирики, но он во многом оказался школой для автора «Смерти Поэта», «Думы», «Как часто пестрою толпою окружен», «Не верь себе».
Как уже говорилось, в философском монологе Лермонтова, в отличие от философского монолога любомудров, мысль как бы имеет свое индивидуальное лицо. Она не вообще истинна, но несет на себе печать того индивидуального сознания, которое ее породило. Лермонтов достигает этого тем, что он стремится не просто сообщить мысль, изложить ее, а показывает ее в возникновении и движении. Иначе говоря, философский монолог Лермонтова содержит не мысли, а размышление.
Хотя многие из этих монологов озаглавлены как послания, но они сильно отличаются от их традиционной формы. Послание предполагает нечто законченное, оно должно в какой-то степени быть итогом размышлений или переживаний, изложением событий (духовной или внешней жизни), уже обдуманных и оцененных. У молодого Лермонтова нет ничего законченного и решенного. И это «текучее» размышление он стремительно записывает, не давая ему времени остановиться и застыть. На этом пути у Лермонтова были свои победы и поражения. Ранняя лирика Лермонтова представляет глубокий интерес не только как материал для духовной биографии поэта, но и как этап развития русской поэзии. В ее слабостях отразились не вполне преодоленные трудности «смутного времени» в русской поэзии. Ее неудачи и несовершенства – ошибки в поисках новых путей, новых задач и новых способов их разрешения, а не только промахи незрелого таланта.
«1831 – го июня 11 дня» для исследователей одно из наиболее интересных стихотворений, так как оно раскрывает нам творческую лабораторию молодого Лермонтова. Попытаемся проследить, как оно строится.
Поэт начинает с доверительной и как бы заранее приготовленной для исповеди фразы:
Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала.
И далее в первых строфах Лермонтов развивает одну из наиболее заветных своих тем:
Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века, но жизнию иной…
Входит мотив творчества, понимаемого не как «писание стихов», но как созидание мира, живущего по иным законам, чем окружающий. По законам красоты и правды поэт строит жизнь «небесную» (идеальную) в противовес пошлой и мрачной «земной». Это рожденное гражданским негодованием противопоставление мира поэзии миру реально существующему не означает замкнутости поэзии в себе. Оно вызвано острым неприятием сложившихся в обществе отношений.
Начало стихотворения кажется несколько затрудненным, так как, очевидно, всегда трудно начать импровизацию. Вся первая строфа не имеет вполне ясного смысла (не формально, грамматически, а с точки зрения реализации общего замысла). Во второй, развертывающей рассказ о жизни, созданной воображением, снова, с той мерой неопределенности, которая похожа на музыкальную, повторяется (теперь уже с некоторым прояснением) тема первой строфы.
Пять начальных строф – простой непосредственный пересказ мыслей, еще не потребовавший тропов. В шестой появляется первое сравнение:
Не много долголетней человек
Цветка; в сравненье с вечностью их век
Равно ничтожен.
Это сравнение – ходовой книжный оборот. Оно появляется здесь почти случайно, это не поэтический образ, а, скорее, идиома. Но за ним в размышление вторгаются картины, по видимости не имеющие прямой связи с изложением. В седьмой строфе появляется река. Почему поэт дает именно эту картину? Пока еще между ней и ходом мысли не видно четкой связи. Она необходима лишь потому, что возникла в воображении. Возникла, конечно, не случайно, но связь еще не осознана, как это часто бывает в реальном потоке мыслей.
Девятая строфа – как будто отдельная зарисовка, вставное лирическое пейзажное стихотворение. Но оно уже более осознанно связано с основной темой медитации, этот образ из мира природы – аналогия переживаний поэта.
Я холоден и горд; и даже злым
Толпе кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь иль сумрак там – ей все равно. —
так кончается девятая строфа. В десятой картина природы рисуется почти теми же словами, дается как бы параллельное развитие темы неожиданного, тайного, скрытого за внешним значения. Аналогия не проводится прямо, она возникает сама, она не названа, на нее лишь дается намек:
Темна проходит туча в небесах,
И в ней таится пламень роковой;
И кто заглянет в недра облаков?
Зачем? они исчезнут без следов.
Три следующие строфы развивают мысль о любви такого напряжения, что обыкновенными людьми она не может быть понята и рождает трагедию неразделенности. В этот рассказ вводится уже прямое сравнение, развернутое в картину, но тесно спаянное с основной темой:
Так в трещине развалин иногда
Береза вырастает молода
И зелена…
……………………………………
Но с корнем не исторгнет никогда
Мою березу вихрь: она тверда;
Так лишь в разбитом сердце может страсть
Иметь неограниченную власть.
В пятнадцатой строфе – опять о внутреннем, о себе. В шестнадцатой появляется новый образ – пустыня, простор.
Как нравились всегда пустыни мне.
Люблю я ветер меж нагих холмов,
И коршуна в небесной вышине,
И на равнине тени облаков.
Ярма не знает резвый здесь табун,
И кровожадный тешится летун
Под синевой, и облако степей
Свободней как-то мчится и светлей.
Внешне появление картины почти никак не мотивировано. Поэт просто говорит «Как нравились всегда…» – и этого достаточно для развернутого пейзажа, целого маленького стихотворения. Но в общем контексте медитации строфа очень важна. Она дорисовывает образ, намеченный раньше. Природа входит в стихотворение как мир живой, движущийся, вольный. Река, например, дается через деталь, существенно важную для поэта. В ней выделено только то, что это – «быстрая вода». То, что в природе происходит мгновенно, нам показано в становлении, дается как процесс:
Я наблюдал, как быстрая вода
Синея, гнется в волны, как шипит
Над ними пена белой полосой.
Поэт видит мир в стремительном движении: ветер в степи, коршун в небе, не знающий ярма табун, мчащиеся облака и их скользящие по земле тени и даже вокруг неподвижных, «гордых гор» (не простая неподвижность, а неколебимость, вечность) – все в бурном движении.
Начатое как самоанализ, стихотворение превращается в дневник одного дня, быть может, одного часа, но содержание его не внешние события и не пересказ каких-то мыслей, а попытка записать само размышление. Вначале стихи эти имеют четко очерченный предмет: внутренний мир, душу поэта. Мысль как бы вытянута в одну линию, затем появляется какой-то намек на аналогию, потом развернутое сравнение, наконец, как это бывает в жизни, мышление становится не линейным, а объемным. Человек думает не о чем-то одном, а как бы параллельно о разных, но внутренне, конечно, связанных вещах. Лермонтов стремится записать этот поток мыслей. Начинается чередование двух тем: пятнадцатая строфа о себе, шестнадцатая – о природе, в семнадцатой – обе темы сплетены, восемнадцатая – о природе, девятнадцатая – о себе и т. д. «31-го июня 11 дня» – это своеобразная и, вероятно, одна из первых в русской литературе попытка передать «объемность» человеческого мышления.
Искусство имеет свои законы. В музыке возможно одновременное развитие нескольких разных мелодий, более того, там полифония – одно из важнейших выразительных средств. В поэзии нельзя буквально передать «объемность» нашего мышления. Так называемый «поток сознания», буквально воспроизводящий человеческий способ мышления, принципиально невозможен в литературе. Погоня за натуралистической достоверностью ведет к разрушению искусства, но цель такого эксперимента – слепок, копия человеческой мысли – все же не достигается. Все успешные попытки достоверно передать сложность человеческого мышления, его нелинейность, объемность, основаны на признании этой условности литературы. Л. Толстой пишет лишь о существенном в размышлении своих героев и даже среди побочных, «периферийных» мыслей выбирает важное и значительное с определенной точки зрения.
Но поэтов все же иногда мучает непреодолимость условности. Жалобы на бессилие слова во многих случаях идут именно отсюда. Однако в этом кажущемся бессилии и заключается сила языка, могучего средства обобщения. Есть великая мудрость в том, что, когда мы думаем, четко формулируется лишь основная мысль, а вокруг нее вьется рисунок сопровождающих, остающихся в тени. Мышление нуждается в самоограничении и дисциплине, только при этом условии создается возможность целенаправленной работы человеческого ума. Линия интеллектуального романа основана на этом свойстве. В «Герое нашего времени» как бы преодолевается тоска из-за неспособности слова воссоздать процесс мышления в его реальной полноте. Слово могущественно и послушно выражает необходимые оттенки мысли. На смену попыткам буквального воспроизведения жизни и процесса мышления приходит анализ действительности. Таков же, в общих чертах, и путь Лермонтова в лирике.
В ранней лирике Лермонтова наряду с наиболее характерным для него в этот период жанром философского монолога встречаем немало элегий, ничем почти не отличающихся от массовой романтической элегии, широко представленной в журналах того времени. Элегии (с прямым авторским указанием на жанр или, чаще, без него) составляют примерно третью часть всех лирических стихотворений Лермонтова, написанных в 1828–1836 гг. К этому же жанру принадлежат и так называемые «романсы» и «мелодии». На родство их с элегией справедливо указал Б.М. Эйхенбаум: «Вместо элегии, развитие которой после победы, одержанной ею в начале двадцатых годов, стало уже невозможным, являются романсы и «мелодии» – термин, которым широко пользовались английские поэты в своих национальных циклах («Ирландские мелодии» Т. Мура, «Еврейские мелодии» Байрона), а у нас – Подолинский и позже Фет, отмечая этим, по-видимому, установку на интонацию»1.
В элегиях молодого Лермонтова ощущается несравненно большая зависимость от литературных образцов того времени, чем в его философских монологах. Это, как правило, элегия, близкая к английским образцам и напоминающая скорее о Байроне, чем о Жуковском. Пейзаж в них не «унылый», а бурный и мрачный, оттеняющий мятежный и угрюмый характер героя, находящегося во вражде с миром. Несмотря на то, что в центре этих стихотворений – традиционный для элегии разочарованный герой, характер разочарования отличается от обычных элегий. Это не разочарование человека с тонкой душой, загубленного роковыми обстоятельствами жизни, но гнев и возмущение человека, считающего себя стоящим над толпой, пошлой и мелочной. Как правило, герой элегии и есть лирический субъект стихотворения. Но иногда Лермонтов стремится мотивировать исключительность героя. Появляется элегия-рассказ о герое. Типично в этом отношении стихотворение «Наполеон» («Где бьет волна о брег высокой»). Здесь применен сложный композиционный прием «двойного отстранения» поэта от героя. Лермонтов рассказывает о певце, рассказывающем о Наполеоне, в конце – появляется тень Наполеона, истинного героя элегии, как бы дважды в ней отраженного. Кратким монологом Наполеона элегия и завершается:
«Умолкни, о певец! спеши отсюда прочь,
С хвалой иль язвою упрека:
Мне все равно; в могиле вечно ночь
Там нет ни почестей, ни счастия, ни рока!
Пускай историю страстей
И дел моих хранят далекие потомки:
Я презрю песнопенья громки;
Я выше и похвал, и славы, и людей!..»
Было бы ошибкой полагать, что «Наполеон» – историческая элегия. Хотя герой ее – реальное лицо, но он несомненно понадобился Лермонтову как наиболее «байронический» персонаж истории (разумеется, речь идет о существовавшей в ту эпоху традиции восприятия этого образа), наиболее подходящий субъект того социально-психологического комплекса, который Лермонтов стремится выразить в своей поэзии этого времени.
В некоторых его юношеских элегиях встречаемся с мотивами противопоставления счастливой жизни простых людей на лоне природы духовным мытарствам разочарованного героя, отравленного, однако, цивилизацией. Такова «Элегия» 1830 г. («Дробись, дробись, волна ночная»). Среди ранних стихотворений Лермонтова мы встретим и несколько типичных унылых элегий («Цевница», «Весна»2 и др.). В зрелом творчестве Лермонтова элегия в ее массовом романтическом варианте не встречается. Вообще элегия испытывает на себе влияние других жанров лермонтовской лирики, иногда впитывая в себя характерные для них черты, чаще – сама растворяясь в них, изредка – включаясь в более широкий контекст стихотворения в качестве своего рода сложного поэтического образа. Такое вкрапление элегии видим в «Смерти Поэта», в стихотворении «Как часто пестрою толпою окружен». «Смерть Поэта», начиная от строк: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной…» – и до заключительной инвективы, имеет совершенно иную интонацию, иную систему образов, чем обрамляющий эту часть монолог, исполненный одновременно и гнева и размышлений. Свою обличительную проповедь Лермонтов прерывает типичной меланхолической элегией. С нею в стихотворение как бы входит светлый поэтический мир убитого. Композиционно этот прием сходен с тем, который применяет Пушкин, рассказывая о гибели Ленского. Но вместо легкой и грустной иронии Пушкина по отношению к романтику Ленскому Лермонтов вводит своего героя (Пушкина) в ореоле возвышенного романтического певца. При всей биографической неточности такого истолкования в контексте этого стихотворения лермонтовское решение было проявлением высшего художественного такта.
Сходное назначение имеет и элегия, включенная в стихотворение «Как часто пестрою толпою окружен».
Развитием и своеобразной трансформацией традиционного жанра была знаменитая лермонтовская элегия «И скучно и грустно». По характеру поэтического образа она принадлежит к лирике автологического типа. Перед нами прямое лирическое высказывание. Стихотворение поражает необычайным лаконизмом, почти аскетической простотой формы, полностью порывающей с метафорическим принципом построения образа, с использованием поэтических символов. Вместе с тем чрезвычайная сжатость не лишает стихотворение очевидной философской глубины, широты художественного обобщения. Перед нами своеобразная энциклопедия традиционных элегических мотивов. Почти каждый стих – совершенно самостоятельная мысль:
И скучно и грустно и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Начало стихотворения обещает элегию о душевном одиночестве. Следующая строка – неожиданность:
Желанья… что пользы напрасно и вечно желать?
Поэт как бы увлечен новой внезапно пришедшей мыслью. Но и следующий стих – о другом:
А годы проходят – все лучшие годы!
Второе четверостишие начинает как будто бы тоже совершенно новую тему:
Любить… но кого же?., на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно…
Но внутренне эта тема связана с началом стихотворения – мотивом духовного одиночества.
После всего этого вопрос:
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и все там ничтожно.
После жалобы на одиночество, размышления о тщетности невыполнимых желаний, о невозможности глубокой любви, естественно, мысль обращается в себя – и ужас перед собственной опустошенностью заставляет взглянуть на жизнь. Горький вывод с неизбежностью следует из всего рассуждения:
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка,
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка!..
При всей внешней отрывочности стихотворения внутренне оно весьма последовательно в развитии мысли. В этом отношении по принципу построения оно противоположно тому, как строится ранний философский монолог Лермонтова, с характерным для него стремлением вместить все ассоциативные ходы мысли, выразить всю ее прихотливость. Вместе с тем за этой элегией несомненно стоит опыт философского монолога. За каждой строкой «И скучно и грустно» ощущаются десятки опущенных стихотворных строк. Перед нами как бы вершинные точки размышления, самый ход его – вне текста. Для этой элегии характерна своеобразная пунктирность размышления.
Сжатость, нагота мысли, сдержанность и самоограничение – все эти черты стиля элегии как будто свидетельствуют о ее родственной связи с поэтической системой пушкинской лирики тридцатых годов. Отчасти это впечатление справедливо. Но лермонтовская элегия имеет несомненное качественное отличие, новаторский характер. И эти ее свойства связаны с внутренней эволюцией Лермонтова, выразившей новый этап русского художественного сознания. Во-первых, ново здесь становление «диалектики души». «И скучно и грустно» – важная веха на этом пути3. Во-вторых, совершенно иной, чем у Пушкина, тип соотношения стиха и речи. Стих в этом стихотворении как бы производная величина от речи, кажется, речь делает в стихе, творит со стихом что хочет. Творит, кажется, и сам стих. Однако стих вполне выдержан, только он очень необычный – и без того длинная амфибрахическая строка наращена еще одной стопой: Их села и нивы за буйный набег… Прибавить стопу, три слога – получится: Их села и нивы за буйный и дикий набег… – как раз лермонтовский размер.
Строка получается и удлиненной, просторной – длинные фразы русской речи строятся и располагаются в ней свободно, удобно, не экономя слов. И, с одной стороны, свежей, новой, не отягощенной литературными реминисценциями и репутациями – что, очевидно, ощутилось бы в уже традиционном тогда четырехстопном амфибрахии. С другой же стороны, какие-то следы жанровой (стилевой) памяти балладного амфибрахия (а уже есть не только «Песнь о вещем Олеге», но и «Приметы» Баратынского: «Пока человек естества не пытал // Горнилом, весами и мерой…»), очевидно, остаются и взаимодействуют с темой стихотворения – оно о судьбе собственной души, какой видится она в эту минуту. Явно с привкусом некой фатально предопределенной обреченности и не всегда в ладах с логикой («Что пользы желать»)…
Благодаря этой необыкновенной свободе стиха лермонтовское стихотворение и кажется таким мгновением душевной жизни, точно описанным, полно и непосредственно выраженным и до конца подлинным – за счет разрыва с мгновением предшествовавшим и последующим. Необычайно живой, хорошо слышимый голос в момент крайне дурного настроения – явление естественное, каждому знакомое. Отличными стихами выражена декларация настолько гипертрофированно нигилистическая, что обязывала бы автора, собственно говоря, отказаться первым делом от собственного дальнейшего творчества. Но подлинность и последовательность не всегда одно и то же. (В данном случае – к счастью для нас, читателей Лермонтова.) Нам остается, понимая относительность заявлений, слушать голос, которым они выражены. Потому что голос – лермонтовский, и живой редкостно. И потому что в поэзии голос никогда не есть только техническое средство для тех или иных заявлений, скорей наоборот: заявления – повод прозвучать голосу. И когда голос и заявление расходятся, в конечном счете остается и верх берет именно голос – во всяком случае, для тех, кто умеет слушать.