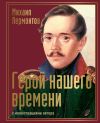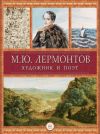Текст книги "Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики"
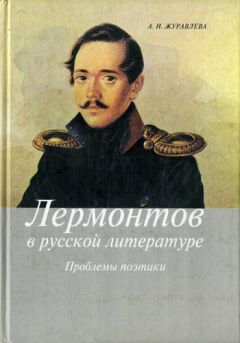
Автор книги: Анна Журавлева
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 5
О поэтах кружка Станкевича
Кружок Станкевича – феномен русской умственной жизни, особенно ярко, наглядно обнаруживающий неуловимость значения явлений, привычно записываемых русским сознанием по ведомству литературы, только традиционными средствами историко-литературного изучения.
«Россия будущего существовала лишь между несколькими мальчиками», – не без патетического преувеличения сказал о студенческих кружках 30-х гг. Герцен. Но отражение кружка в умственном движении, в стиле жизни русской интеллигенции последующих двух десятилетий, да, пожалуй, и в формировании самого этого чисто русского понятия – бесспорный факт. Можно сказать, что поэтом и летописцем кружка Станкевича стал Тургенев, в повестях и романах которого явление описано с иронией, самокритической рефлексией, но и с нежностью.
Одновременно уже в литературоведении XIX в. сложилось понятие «поэты кружка Станкевича», и традиция, согласно которой эти поэты так и рассматривались затем в единстве. Между тем если в истории русской общественной мысли кружок Станкевича действительно представляет собой некоторое единство, достаточно монолитное, чтобы его можно было характеризовать в целом, то поэтическое творчество каждого из его членов дает гораздо меньше оснований для объединения. Едва ли не первой сделала попытку сказать не об общности, а о различиях поэтов кружка Л.Я. Гинзбург: «Красов и Клюшников сосредоточены на душевной жизни человека. Вместо философской рефлексии Станкевича их занимает рефлексия психологическая. Красов и Клюшников профессиональнее Станкевича, и на них больше давит старая элегическая традиция»1. Таким образом, хотя и не вполне определенно, исследовательница связывает влияние элегической традиции с повышенным интересом к психологии, характерным для Красова и Клюшникова в отличие от Станкевича.
На мой взгляд, именно стремление изобразить подвижность внутреннего мира души, свойственная Клюшникову и Красову, позволяет говорить о том, что они заимствовали этот поэтический принцип в элегии Баратынского и Пушкина. Но именно это в свою очередь делает их более доступными для стилевого влияния массовой романтической элегии 30-х гг. По существу, стилевое влияние было вторичным, однако оно оказалось гораздо сильнее и заметнее первичного.
Влияние это настолько сильно, что по первому впечатлению читателю нелегко выделить стихотворние Клюшникова или Красова из общего стихотворного потока, наводнявшего журналы 30-х гг. Лишь при внимательном изучении творчества каждого из этих поэтов мы можем обнаружить свидетельства поисков ими своего пути в литературе, хотя и нельзя сказать, что такие поиски привели к бесспорному успеху. Эти авторы сумели сказать свое слово в формировании нового, последекабрьского общественного сознания. Но их поэтическое своеобразие было как бы смыто широким потоком эпигонской литературы, против которого не устояли их скромные дарования.
Литературная эпоха Лермонтова, как известно, была эпохой кардинальных и стремительных сдвигов и изменений в традиционной (и достаточно устойчивой в предшествующий период) жанрово-стилистической системе поэзии. Этот перелом отразился в творчестве Лермонтова; более того – именно в нем он прослеживается наиболее отчетливо. Упреки в «протеизме» сопровождают Лермонтова с момента его первого появления на литературной арене. И упреки небезосновательные, если исходить из литературных нормативов той эпохи русской поэзии, окончание которой и было ознаменовано появлением Лермонтова.
Смешение самых разных и строго дифференцированных, несовместимых прежде жанрово-стилистических пластов, столь характерное для Лермонтова, свидетельствует прежде всего о том, что различия перестают осознаваться как существенные, утрачивают смыслоразличительное значение. Эти различия, актуальные прежде как элементы определенной системы средств поэтической выразительности, теряют, таким образом, свою функциональность. Теоретически такое смешение может быть результатом сознательной установки – при создании особо эксцентрического или иронического стиля, нарушающего узаконенную систему смыслоразличения. Но у Лермонтова и в лермонтовскую эпоху сдвиги в стиле и жанрах поэзии вызывались иными причинами – и были, так сказать, скорее негативны, чем позитивны в плане сознательного творческого задания.
Такая ситуация формально близка той, которая зачастую характеризует литературных эпигонов в их отношении к образцу. (Эта проблема обстоятельно изучена в работах Л.Я. Гинзбург.) То, что значимо и потому внутренне необходимо в большом стиле, то у эпигона повторяется в силу внешней необходимости следования образцу. Эпигонство – это догматизация стиля. Стиль автоматизируется, оторвавшись от образной смысловой основы, некогда вызвавшей его к жизни, становится у эпигонов немотивированным – отсюда неизбежная утрата критериев смысловой точности.
Лермонтовская литературная эпоха была, как уже говорилось, периодом, когда подводил итоги русский и европейский романтизм. Именно в это время больше, чем когда-либо раньше, романтизм обрастает эпигонами, становится «общим местом», литературной тривиальностью – разумеется, в «массовом» своем варианте, количественно, что не исключает еще в эту эпоху возможность качественного его развития и обогащения. Складывается «общеромантический», эпигонский стиль. С другой стороны, начавшийся уже процесс прозаизации русской литературы приводит к разрушению относительно стабильной и замкнутой прежде системы средств поэтической выразительности – разрушению в масштабе более широком, чем только романтическая поэзия. Можно, видимо, говорить об эпигонах «поэтичности» в это время – тех, кто прогрессирующей прозаизации вообще и поэзии в частности противопоставлял «традицию» – будь то «идиллическая» чувствительность сентименталистов, «возвышенность» классицистов или «неистовость» романтиков.
При этих обстоятельствах эпигонское смешение утративших функциональность стилей и жанров и лермонтовский «протеизм» – явления формально близкие и, так сказать, хронологически совпадающие, хотя в одном случае задачей является стремление сохранить отживающий канон, в другом, напротив, – создать принципиально новую поэтическую конструкцию. Условно говоря, в эпоху литературного эпигонства Лермонтов строит свою принципиально новаторскую поэзию в каком-то смысле «методами эпигонства».
Вместе с тем (и это, надеюсь, очевидно) эпигонство, вообще говоря, не творческая установка, а результат. И сопоставление Лермонтова с его современниками, стремившимися, по-видимому, к достижению близких литературных целей, как нельзя лучше демонстрирует: качество результата прежде всего определяется все-таки мерой дарования. Творчество поэтов кружка Станкевича, современников и сверстников Лермонтова, оказалось по отношению к его философской лирике тем, что Аполлон Григорьев называл «допотопной формацией», то есть первоначальным и не достигшим художественного совершенства наброском решения сходной творческой задачи.
Романтизм возникает в России как поэзия личности, стремящейся к духовному раскрепощению. Но в самом этом методе были заложены некоторые противоречия, полагавшие предел его возможностям в достижении цели – раскрытии внутреннего мира индивидуальной человеческой личности. Характерное для романтизма отсутствие социальной и бытовой конкретности обрекало психологический романтизм на неизбежное повторение основных, наиболее характерных для него ситуаций и типов героя (в романтической поэме), порождало настроение-штамп (в лирике).
После 1825 г. романтизм декабристского типа тоже, по существу, исчерпал свои возможности. Романтики прославляли героическую исключительную личность. Но герой их всегда стоит над историей. Его поражение никогда не осознается как следствие определенных исторических закономерностей, оно – случайность. Поэтому герой непременно торжествует нравственно. Это всегда победитель, хотя чаще всего – трагический. И вот к русским бунтарям пришло поражение. Это было крушением надежд на освобождение, крахом оптимистических заблуждений о всесилии героической личности. Перед обществом встала задача осмыслить уроки поражения. Сама жизнь поставила на очередь дня «интеллектуальный героизм», дерзание человеческого разума, стремящегося проникнуть в законы бытия, постичь ход истории. Естественно, в этих условиях пафосом литературы должно было стать исследование жизни. Но эпигонство в 1830-е гг. достигает небывалых размеров, и повторения давно открытых истин, гладкопись, штамп уже ощущаются как порок, угрожающий самой современной поэзии.
Романтический штамп, окончательно оформившийся в эпигонской поэзии 1830-х гг., начинал складываться еще до 1825 г. Поэзия любомудров, их борьба за создание философской лирики – одна из ранних попыток преодоления узости «элегической» и «балладной» школы романтизма, попытка, предпринятая в рамках самого романтического метода.
Общность философской платформы и вытекающее отсюда сходство взглядов на роль и назначение поэзии, а также родственность художественной проблематики – все это позволяет, как уже отмечалось в научной литературе, утверждать, что поэты-любомудры в 1830-е гг. имели своих продолжателей в кружке Станкевича. Прежде всего здесь имеются в виду сам Станкевич и К. Аксаков. Их поэтическое творчество может быть сопоставлено с поэзией умершего к тому времени Д. Веневитинова и продолжавших литературную деятельность С. Шевы-рева и А. Хомякова.
Молодой Аксаков, в отличие от Станкевича, видел в литературе свое призвание. (Имеется в виду творчество Аксакова до 1842 г. – года, который он сам считал для себя переломным. Этот рубеж в поэтической биографии Аксакова совпадает с границей того периода русской литературы, который условно называют «30-е годы» [1825–1842 гг.], то есть от поражения декабристов до гибели Лермонтова, появления «Мертвых душ» и ряда историко-литературных фактов, знаменовавших формирование и расцвет «натуральной школы»). Об этом свидетельствует особая, личная нота, которая звучит в его стихах о поэзии – тема, столь характерная и важная для всех любомудров и почти не затронутая Станкевичем, видимо, не ощущавшим себя художником.
Как и все любомудры, Аксаков убежден в пророческой сущности искусства, в его высокой миссии и в роковом разладе художника с обыденностью. Эти темы сочетаются у него с чувством сомнения в своих личных силах:
Зачем я не могу среди народных волн,
Восторга пламенного полн,
Греметь торжественным глаголом!
И двигать их, и укрощать,
И всемогущим правды словом
Их к пользе общей направлять.
В этом стихотворении сформулирована, собственно, та самая программа, которая через несколько лет с такой социальной остротой прозвучит в лермонтовском «Поэте». Но у Аксакова, в отличие от Лермонтова, конфликт между идеалом и реальным положением поэта – это не трагедия времени, а результат его, поэта, личной слабости и несовершенства. Вместе с тем за личной драмой отчасти ощущается и другая: извечно существующий, по мнению романтиков, разрыв между пророческим постижением истины и ограниченной возможностью ее выражения. Муки слова и стремление выразить добытую философскую истину в сколько-нибудь адекватной ей словесной форме – постоянная тема аксаковской лирики.
Как много чувств во мне лежат
Глубоко,
Как много дум меня манят
Далеко.
И много б я сказать хотел
Но нет, молчанье – мой удел.
О, в этом мире много слов —
Конечно! Язык богат, но не таков
Язык сердечный. Нет, он в слова неуловим,
Так не понять меня другим!
(1835 г.)
Но твердо я верю, что день тот наступит,
Когда разрешится бессильный язык,
В устах заколеблется мощное слово,
И миру я тайны свои прореку.
(1835 г.)
Да, я один; надежды разлетелись;
Не передать, не высказать себя!
(1836 г.)
Одного прошу у судьбы моей,
Одного я жду утешения:
Дайте высказать мне сердцам людей
Все страдания, все мучения.
Дайте слово мне, дайте слово мне! —
И тогда мой дух успокоится,
И торжественно миру целому
Новый, чудный мир откроется.
(1836 г.)
Жалобы на бессилие слова, на невозможность передать «невыразимое», столь характерные для романтического искусства, связанного с немецкой идеалистической философией, в поэзии любомудров имели, помимо общеромантического, еще и вполне конкретный смысл. Дело в том, что поставленная ими задача создания философской лирики и поэзии, полной глубоких мыслей, требовала серьезных преобразований в области художественной выразительности. Не случайно и поэты-любомудры, и их наследники в 1830-е гг. так много теоретизируют. Самым последовательным теоретиком нового течения в романтической поэзии был Шевырев2. В отличие от Д.В. Веневитинова, который интересовался более общими проблемами эстетики и литературы, Шевырев размышляет именно над трудностями, встающими перед стихотворцем-философом.
Одно из основных положений шевыревской теории стиля – беспредельная свобода стихотворной формы и ее затрудненность, шероховатость как непременное условие возможности передать сложные философские размышления поэта. У Шевырева мы постоянно встречаем нападки на благозвучие, гладкость, музыкальность, изящество стиха. В своей поэтической практике Шевырев старался следовать созданной им теории. Естественно, стремление полностью подчинить стих потребностям выражения определенной философской мысли прежде всего вело к отказу от жанровых канонов. (Разрушение и вытеснение канонических жанров лирики – процесс, последовательно развивавшийся в первой половине XIX в. в творчестве поэтов самых разных направлений. Однако это не мешает тому, что в художественной системе каждого из них названное явление могло быть вызвано различными причинами.) Введение прозаизмов и соседство слов, ранее принадлежавших разным поэтическим стилям, также характерно для шевыревской лирики.
Одна из форм, активно использовавшихся в лирике любомудров, – аллегория. Она часто встречается у Веневитинова, много у раннего Шевырева. Однако впоследствии сам Шевырев отказался от аллегории, считая, видимо, эту форму слишком узкой и регламентирующей мышление. В самом деле, в аллегории возможна лишь мысль, выраженная в логически четкой форме. Поэтому форма аллегории наиболее характерна для классицизма. В развитой романтической системе и в реализме она либо существенно трансформируется (у Лермонтова, например, как уже говорилось, на основе аллегории складывается новый тип лирического стихотворения с многозначным символическим образом – «Утес», «На севере диком», «Тучи» и др.), либо встречается лишь эпизодически. В последнем случае аллегория как бы утрачивает свою связь с литературной традицией и воспринимается как экспромтная форма, подсказанная увиденной в жизни конкретной ситуацией («Телега жизни» у Пушкина).
Ни у кого из любомудров – как и из их продолжателей в 1830-е гг. – не найдем столь отчетливо, как у Шевырева, выраженной враждебности к гармонической музыкальности стиха. Но стремление, не считаясь с жанровым каноном, создавать свободную стихотворную форму было свойственно им всем. В этом отношении не составляет исключения и К. Аксаков. Более того, встречающиеся у него ритмические перебои, пропуск рифмовки не могут быть восприняты как результат простого неумения. Хорошо известно, что к 30-м гг., благодаря огромным достижениям целой плеяды русских поэтов и прежде всего Пушкина в области стиховой речи, стихотворческая техника была настолько хорошо разработана, что писать более или менее гладко мог едва ли не любой культурный человек. В этих условиях слишком явная шероховатость стиха скорее должна считаться не случайной, а значимой.
Иначе обстоит дело с поэтическим словоупотреблением. В связи с разрушением замкнутых стилистических систем, присущих поэзии начала века3, в 30-е гг. утрачивается точная стилевая характерность слова, и потому в произведениях самых разных по своим установкам поэтов мы постоянно встречаем смешение слов высоких и прозаических. Такое смешение может быть и сознательным, как у Шевырева, но в большинстве своем оно, видимо, не осознавалось поэтами. Подобное смешение встречается и у поэтов кружка Станкевича. Но вероятнее всего, что у них оно появилось непроизвольно.
Если о принципах словоупотребления у Аксакова нельзя сказать ничего определенного, то «дефекты» его стиха, как мне кажется, были результатом характерного для школы любомудров пренебрежения внешней упорядоченностью формы. И Шевырев, и полемизировавший с ним Станкевич4, в сущности, одинаково относят форму к явлениям чисто внешнего порядка, рассматривая ее как средство выражения, а не как способ существования поэтической мысли. Это в высшей степени существенная черта, определившая характер философской лирики школы любомудров. Все они как бы исходили из предположения о том, что не существует принципиального различия между философской и поэтической мыслью. Задача поэта – возможно более яркое изложение той или иной мысли. Аллегория – одна из форм поэзии «прямого изложения». Но все же это форма слишком «украшенная» для той задачи, которую ставили перед собой любомудры. Поэтому она вытесняется непосредственно монологической формой «прямого изложения», если в аллегории метафора составляет самую основу образной системы стихотворения, то в таком лирическом монологе она становится скорее явлением поэтической речи, наравне с эпитетом и сравнением.
У Веневитинова аллегория до конца занимает определенное место в его творчестве. Шевырев отказывается от нее довольно рано. У К. Аксакова лишь одно стихотворение безоговорочно может быть отнесено к числу аллегорий – «Ручей». Характерно, что это самое раннее из дошедших до нас произведений Аксакова. У Станкевича аллегорий не встречаем совсем. Отказ от конкретной образности (хотя бы и в очень рационалистической форме, как в аллегории) и победа монолога-рассуждения – закономерное явление в творчестве поэтов школы любомудров. Это непосредственный результат их литературной теории и тех целей, которые они перед собой ставили.
Однако не только общность некоторых определяющих поэтических принципов позволяет считать К. Аксакова продолжателем любомудров. Лирика Аксакова сближается с веневитиновской и кругом проблем, которых она касается. Как у всякого поэта, у него есть и любовная лирика, и стихи на случай, но не они определяют его поэтический облик. Наиболее характерные стихи Аксакова – это стихи о творчестве и философские медитации в духе шеллингианской концепции мира.
Все исследователи единодушны в мнении, что кружок Станкевича унаследовал и продолжал развивать философские идеи любомудров. С этим нельзя не согласиться. Но дело в том, что лишь у Аксакова и в меньшей степени у Станкевича эти философские идеи стали непосредственным предметом отражения в поэтическом творчестве.
У Веневитинова центральное положение занимает проблема искусства, тема художественного творчества как единственного способа постижения мистической тайны мироздания. В творчестве Аксакова тема поэта звучит, как мы видели, несколько более сниженно. Подобно всем романтикам-шеллин-гианцам, он отводит искусству исключительно важную роль в жизни, в познании истины. Но в его стихах о поэзии речь идет уже не только о философских прозрениях художника, но в некоторой степени и о сложностях ремесла поэта, не только об извечно существующем разрыве между истиной и всегда неполным ее постижением, но и о реальной трудности «материализации» идеи, сложности поэтического выражения мысли. Для Веневитинова искусство было как бы «магическим кристаллом», сквозь который он смотрел на все явления жизни. И таинственные законы, по которым живет все существующее, и все личные связи человека в мире, его отношения с друзьями, с возлюбленной, с обществом – все так или иначе связано с поэзией, искусством или сводимо к нему. У Аксакова, в отличие от Веневитинова, есть и другой мир. Не только творчество, но и непосредственное созерцание природы возбуждает в нем чувство причастности к тайне мироздания, ощущение приближения к истине:
Природа, я знаю, ты тайны хранишь
Под пестрой своею завесой,
На наши вопросы упорно молчишь,
Да мы не нарушим святыни.
О, дай мне проникнуть в волшебный твой мир,
В мечтаниях часто он снится —
И жадно из урны волшебной твоей
Источника знаний напиться.
(«Стремление души», 1834 г.)
И вдруг, погрузяся в мечты, я исчез
И весь перелился в природу —
Лучами луны я спускался с небес
На тихо бегущую воду,
И всю наполняя природу собой,
Я с нею летел в бесконечность —
И таинств завеса редела пред мной,
Доступной казалась мне вечность.
(«Фантазия», 1834 г.)
Ощущение разлитой по всему мирозданию единой истины, чувство осмысленности природы и жизни во всех ее проявлениях характерны для мировосприятия Аксакова и выражены во многих его стихотворениях. При таком понимании жизни сохраняющееся у Аксакова благоговейное отношение к поэзии до некоторой степени теряет смысл. У Веневитинова искусство – соединительное звено между человеком и мировыми законами. У Аксакова эта роль искусства не выражена ясно, и таким образом как бы утрачена естественная мотивировка того преклонения, которым оно окружено. Искусство превращается из посредника между человеком и истиной, из инструмента познания в своеобразный фетиш. Человек, отстранившийся от мелочных забот повседневности, может созерцать истину непосредственно. Такой взгляд на мир декларирован в стихотворении «Кидее»:
Везде твое я слышу дуновенье,
Случайное скрывается пред ним;
И важное отвсюду выступает,
И тайный смысл явлений обнажен;
Твой строгий свет все в мире обнимает,
Неумолимо озаряет он.
Однако было бы неверно считать, что благодаря отсутствию промежуточной ступени между природой, в которой существует истина, и человеческим сознанием поэтическое мышление Аксакова становится более конкретным, чем у его предшественника Веневитинова. Аксаков последовательно идет путем философского логизирования, на который вступили любомудры. Их способ познания жизни и ее законов – это, образно говоря, освобождение вещей от плоти; философское постижение жизни заключается, по их мнению, в вычленении из нее абстракций, в отсечении случайного. В этом они оставались метафизиками. Не только Пушкин, но и Тютчев, зрелый Лермонтов вели поиски закономерного, общего в бесконечном и нечленимом многообразии взаимодействующих и взаимопроникающих конкретных явлений жизни. Здесь пролегла главная дорога русского искусства. Тропинка же, проложенная любомудрами, вела поэзию в сторону все более абстрактных и рассудочных построений. Не случайно никто из прямых наследников Веневитинова не развивал его наиболее интересных открытий в области художественной формы. У Аксакова мы нигде не встретим приема «контрастной живописи», у него нет и «сжатых слов», вызывающих разнообразные ассоциации и как бы отбрасывающих друг на друга отблеск своих значений. У самого Веневитинова это были находки, во многом совершенные вопреки его собственным поэтическим принципам. На том пути, каким шли любомудры, эти маленькие открытия никак не могли развиться. Да у Аксакова их и нет. Они были подхвачены или, вероятнее всего, вновь совершены в совсем иной поэтической системе – у Лермонтова.
Поэзия Станкевича в общих чертах имеет большое сходство с аксаковской. Но тенденции, свойственные лирике любомудров, в ней выражены менее ярко. Мне кажется, отличие Станкевича от Аксакова состоит прежде всего в том, что лирика Станкевича имеет иной адрес, иную направленность. Аксаков пишет для читателя, поэтому он больше озабочен выбором общеинтересного и важного, с его точки зрения, предмета. Он стремится к законченному выражению своих мыслей, он хочет быть понят не только узким кругом друзей-единомышленников, но и вообще думающим читателем. Не считая себя поэтом, он пишет как бы для себя и близких. Поэтому, с одной стороны, для не посвященных в интеллектуальную жизнь кружка поэзия Станкевича выглядит гораздо более скудной, чем для тех, кто может прочитать его стихи в контексте философских споров, которые автор вел со своими друзьями. С другой стороны, поскольку многое из написанного вообще не предназначалось для посторонних, естественно, что у Станкевича больше, чем у Аксакова, узко биографических, интимных стихов.
Читая Станкевича и Аксакова, мы, несмотря на различие между ними, чувствуем себя в одном поэтическом мире. Красов же принадлежит к миру совершенно иному. У него мы нигде не встретим непосредственной передачи философских размышлений. Безусловно, кружок сыграл большую роль в формировании его представлений о поэте, о задачах искусства, о современном состоянии общества. Но это были именно предпосылки, влиявшие на его общий творческий облик. В целом же вся сложная идеологическая, интеллектуальная жизнь кружка осталась за рамками его поэзии. Красов, видимо, по самому складу своей личности был склонен к эмоциональному восприятию мира. Если в поэзии Аксакова и Станкевича четко прослеживается некоторая теоретическая установка и литературная традиция, то лирика Красова – явление несравненно более стихийное. У него явно не существует литературной теории, ощущения школы, он пишет, «как пишется», стремясь лишь возможно ярче выразить владеющие им поэтические переживания. Однако это вовсе не означает большей, по сравнению, например, с Аксаковым, оригинальности его лирики. Наоборот, красовская поэзия – более характерный образец массового романтизма 1830-х гг. Не ставя перед собой никаких сознательных задач в области художественной формы, Красов гораздо свободнее обращается к опыту самых разных поэтов. В его лирике много штампов, которыми он пользуется, видимо не ощущая их «цитатности». Такие штампы постоянно встречаются в журнальной поэзии 30-х гг.
Однако в поэзии Красова мы сталкиваемся и с другим, более своеобразным явлением. Это – сознательное употребление образов заведомо литературного происхождения. Иногда Красов пишет как бы стихотворение-реплику, вступая в диалог со своим предшественником, создавая свою вариацию на его тему. Таково стихотворение «Вечерняя звезда», в котором использован мотив элегии Пушкина «Редеет облаков летучая гряда». Красов повторяет пушкинские выражения, по-своему их комбинируя. Сама лирическая ситуация здесь почти не изменена. Иначе обстоит дело в «Романсе Печорина». Ссылка на «первоисточник» дана уже в заглавии. Красов пытается передать не только настроение, психологическую характерность лермонтовского героя, но дает прямые цитаты из печоринского монолога. Вместе с тем сложный лермонтовский герой несколько упрощен, он написан в сугубо романтической манере. Точно переданные слова Печорина соседствуют с выражениями, более уместными, пожалуй, в речах Грушницкого:
Как блудящая комета,
Меж светил ничтожных света
Проношуся я.
Их блаженства не ценил я;
Что любил, все погубил я…
Знать, так создан я.
Годы бурей пролетели!
Я не понял, верно, цели,
И была ль она?
Я б желал успокоенья…
Сила сладкого забвенья
Сердцу не дана.
Образ, заключенный в первых строчках, очевидно, восходит к знаменитой пушкинской характеристике А.Ф.Закревской:
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.
Образ, поразительно яркий и точный в стихотворении Пушкина, будучи вложен в уста Печорина, звучит странно, почти комически (учтем еще нелепое в данном контексте слово «блудящая»…). Здесь мы видим явление, характерное для 30-х гг. Блистательный образ найден Пушкиным для того, чтобы с афористической точностью передать судьбу прекрасной женщины – человека больших страстей, замкнутого в искусственной, «расчисленной» сфере светской гостиной. Слегка изменив этот образ, Красов пользуется им как готовой формулой, совершенно не ощущая его неуместности в своем стихотворении. Точно так же строка о «силе сладкого забвенья» плохо передает «холодное отчаяние» лермонтовского героя, скорее возвращая нас к мироощущению героев Жуковского. Между тем сам образ
Печорина важен Красову именно потому, что поэт видит в нем выражение трагедии своего поколения. Печорин для Красова не просто популярный литературный персонаж, а в подлинном смысле «герой нашего времени». «Романс Печорина» – это уже не обыкновенная вариация на литературную тему. Здесь чужой персонаж использован Красовым как своеобразная маска лирического героя. Печорин, Клара Моврай, наконец Дездемона (сквозной женский образ в лирике Красова) – отнюдь не простое заимствование или перепев, а своеобразный способ типизации, примененный Красовым.
Мне кажется, что эта интересная форма теснейшим образом связана с процессами, происходившими в поэзии 30-х гг. Именно в ту эпоху идет бурное освобождение лирики от особого «поэтического» языка, «для которого решающее значение имели отстоявшиеся формулы, корнями уходящие в культовое мышление, в народное творчество, исторически развивающиеся и передающиеся от поэтической системы к поэтической системе»5. Обращение Красова к литературным образам – это его способ вызвать у читателя нужные ассоциации. Если прежде поэты добивались их возникновения с помощью «поэтических слов», то Красов прибегает к более крупным смысловым единицам – к образам известных литературных героев. Они играют здесь роль, приблизительно аналогичную той, какую прежде играли образы мифологии и античной истории.
Как видим, поэзии Красова не свойственны философские абстракции, он чужд рассудочности. Несмотря на употребление романтических штампов, он, безусловно, ищет каких-то средств поэтического (а не «логического») осмысления современности. Может быть, именно выражением этого направления было его постоянное обращение к такой не характерной для других поэтов кружка форме, как романс или песня. Несмотря на то что в большинстве стихотворений этого типа поэт пользуется фольклорными мотивами и некоторыми присущими народному творчеству средствами выразительности, не следует преувеличивать их значения. Литературная традиция тут несомненна, это вовсе не попытка представить народную точку зрения на мир. Подобно всем романтикам, Красов использует фольклор как своеобразную экзотику, как источник ярких поэтических образов. В этом смысле песни Красова принципиально отличаются от кольцовских.
Литературное наследие Клюшникова – по крайней мере то, что известно нам теперь, – невелико. Среди поэтов кружка Станкевича по характеру своей лирики Клюшников ближе других к Красову. Он также удален от стилевой традиции любомудров. Основной жанр его лирики – элегия, но не в классическом, пушкинском варианте, а в гораздо более «размытой» форме, свойственной массовой романтической поэзии 30-х гг., естественно, это давало широкую возможность для проникновения в лирику Клюшникова романтических штампов. Так, элегия «Меланхолик» по жизненному содержанию, которое стремится обобщить автор, – духовная биография передовой университетской молодежи той эпохи, на практике испытавшей огромный разрыв между гуманистическими идеалами и безмерной скудостью реальных возможностей «высокого служения». Это достоверная летопись невыдуманных разочарований целого поколения молодых людей. Между тем здесь что ни строчка, то традиционная формула романтиков. Даже самый сюжет фатальным образом совпадает с избитой схемой эпигонски-романтических элегий. «Воспоминания о протекшей юности» (пользуясь ироническим выражением Пушкина), когда «взор отдыхал на розах» и «любви жилищем» казался герою свет, сменяются описанием последовавших разочарований:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?