Текст книги "Бог тревоги"
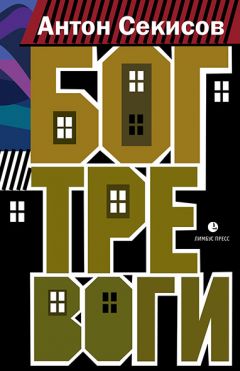
Автор книги: Антон Секисов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Леха продолжал говорить о темной материи вокруг нас, называя всякий раз новый процент, как будто ее количество менялось ежесекундно и об этих изменениях ему приходили уведомления в телефон. Меня же беспокоил вопрос, почему моя нога никак не могла почувствовать твердое основание и булыжники увиливали из-под ботинка, как волны. Солнце стало закатываться, и закатное небо напоминало огромную глотку, продираемую крепкой травой.
Я вдруг понял, что наша компания выглядит немного комично – все в черных куртках или плащах, в черных очках, шли в ногу, как военные на параде, из колонки у Лизы играл гангста-рэп, а запах травы разносился по всей набережной. Чтобы не выглядеть глупо, я снял очки и, вместо того чтоб сунуть их в карман, положил на забитую мусором урну. Теперь приходилось защищаться от жалившего глаза солнца свободной рукой. Мы прошли мимо шемякинских сфинксов, обращенных оскаленными черепами к тюрьме «Кресты», возле которых был мой новый дом. И, несмотря на все недостатки жилья, я все же должен был благодарить бога, что жилье это не внутри, а всего лишь возле «Крестов».
Тем временем со мной случилась резкая перемена. Сначала я покраснел. Впрочем, и остальные слегка покраснели, но покраснели странно, как будто краска стыда брызнула на лицо, но прошла не по тем сосудам, проступила в форме ломаных линий Кандинского, а у Венсана и вовсе расплылась аккуратной свастикой. Теперь я забеспокоился, что Венсана могут упрятать в тюрьму за пропаганду нацизма из-за таких вот странных пор лица, а заодно и нас всех за компанию.
Время стало мучительно замедляться: Венсан не успел еще договорить одну недлинную фразу, а я уже успел понять ее суть, оспорить с разных сторон, получить в ответ тезисы, привести свои контртезисы, сплести многоветвистый диалог, разросшийся до нескольких альтернативных диалогов, рассыпать все аргументы снова, чтобы по-новому их собрать. Но тут я заметил, что все эти ветви – иллюзия. Мои мысли не развивались и даже не шли по кругу, а уносились из лба. Мозг свистел, как пробитый сразу во многих местах мяч. Тут я заметил, что и у Никонова тоже что-то со лбом. Он стал совершенно мягким.
Да и весь его облик – кожа стала тихонько разматываться, как рулон, хотя вроде и сохраняла прежние очертания. Белый лоб и щека, тоже белая, трепетали как флаг на ветру. Но дело было не только в лице – плащ теперь напоминал черную спираль для поимки мух. Вот почему в окрестностях нет живых насекомых! Все померли на его плаще! Зачем Лехе носить на себе кладбище насекомых?
Венсан все еще говорил – как же медленно он ронял слова, как медленно ступали его ноги. Я решил убежать. Но мое тело плыло в потоке тел спутников, как кусок ваты по небу. От досады и нетерпения я искусал губы, я сгрыз весь рот, превращавшийся в мокрую ранку. Небо совсем раскраснелось. Начался так называемый час между собакой и волком, самый жуткий час, и чувство было такое, как будто кто-то царапается в кишках. В это время меня принялась тормошить Лиза.
– Давай, включайся! У нас тут «Машина образов».
– Какая еще машина? – Я испуганно заозирался по сторонам, ожидая увидеть поблизости какую-нибудь дьявольскую пыточную машину или машину из серии фильмов «Безумный Макс».
– Нужно смотреть на Неву и говорить эпитеты, – объясняла Лиза. – Любые, какие придут в голову. Ты просто смотришь и называешь ассоциации. Я говорю понятно?
– Нева… мокрая, – прошептал я, пытаясь вытереть пот со лба, и вдруг увидел, как из Невы ко мне потянулись пятипалые грязные руки.
Этого я уж не мог стерпеть и с криком бросился прочь от набережной. Перебежал в неположенном месте, не слыша гудков и замечая только, что кто-то бежит за мной. Я подозревал, что это была Лиза, но видел вместо ее лица одну только прыгавшую у виска гигантскую вену.
Хотелось позвать на помощь, но вокруг никого не было, кроме китайцев с печеным картофелем вместо лица, над головами которых, как пращи, свистели камеры. Они не пожалеют своих дорогих устройств, чтобы разбить мне голову. А я беззащитен, я не в состоянии поднять руку, чтобы прикрыть лицо. Гигантская вена спросила меня: «Господи, ты себя видел?»
Наконец заметив магазин алкоголя, я влетел в него, схватил коньяк и, растолкав посетителей, протиснулся к кассе. Руки шли ходуном, и я никак не мог достать кошелек.
«Боже ты мой», – снова сказала вена, и я отшатнулся, упав на стенд с жвачкой. Азиат с безразличным лицом пробил мою бутылку. Не отходя от кассы, я опустошил ее и пошел за второй. В магазин спустился и Леха. Я обратил внимание, что его рулон лица уже замотался.
– Нева мокрая, – с издевкой повторил он. – Назови так свою первую книгу. «Город на мокрой Неве».
Я кивнул и вспомнил только теперь, что со мной нет моей сумки с лампами.
* * *
Мы отправились навестить Марата на Южном кладбище. Нас вез туда писатель Кирилл Рябов, приятно округлый парень, похожий на доброго медвежонка из советского мультика. В последние годы он нигде не работал, не пил, не жил, а только производил прозу – в отличие от него самого, энергичную, злую и крепкую. Оставалось гадать, в каких уголках своей мягкой седой головы он хранил всех маньяков-коллекторов, насильников и садистов-отцов в алкогольном делириуме – типичных героев его книг. И теперь, когда я смотрел на него в прямом солнечном свете, казалось, что в его голове нет черепа.
Кирилл уже много лет не покидал окрестностей родного района Озерки по каким-то странным причинам, похоже, мистического порядка. Раньше, если его собирались позвать куда-то за пределами Озерков, он оправдывался работой. Но когда лишился ее, не придумал ничего лучше, чем всякий раз производить какое-то невнятное бормотание, сводившееся к обещаниям все объяснить в переписке, от которой он впоследствии уклонялся.
У меня было две основных версии – либо он находился под сильным влиянием гения Озерков и боялся выйти из-под его защиты, либо сам Кирилл был давно мертв и теперь, как многие призраки, не мог покинуть места смерти. Но вот он сам разрушил свой многолетний миф ради поездки на кладбище к лучшему другу.
С нами поехал и Михаил Енотов, перебравшийся из Москвы в Петербург с полгода назад по тем же смутным причинам, что и мы с Костей.
Костя, как обычно, имел вид человека, только что выпущенного из Черного вигвама, в котором провел последние тридцать лет, – заторможенно двигался, оглядываясь по сторонам с рассеянным видом. Енотов задумчиво гладил бороду, пытаясь напустить на себя грозный вид. И это было легко, учитывая его внешность типичного посетителя клуба исконно славянских единоборств «Витязь». Он был единственный знакомый мне (и не исключено, что единственный существовавший) традиционалист и монархист из плоти и крови. Иногда я думал, что он всерьез готов убивать и умирать за эти давно списанные идеи. Один раз, когда я сказал что-то насмешливое о монархизме, он ответил мне – помню, мы сидели на берегу Москвы-реки, было тепло, был нежный рассвет, и уже обволакивало приятное похмелье, – что ему, возможно, придется убить меня в случае гражданской войны. И все-таки он был один из лучших моих друзей.
Но эту суровую древнюю маску временами, и даже очень часто, срывало с лица, обнажая лицо школьного хулигана, готового на что угодно – пукнуть на зажигалку, сорвать с себя или кого угодно штаны – ради общего смеха класса. Ключ, отмыкавший эту железную маску, – каламбуры. Особенную радость ему доставляли каламбуры с привлечением англицизмов. Например – shitевр. Такой каламбур мог довести его до слез, он мог начать задыхаться от смеха.
Поездка на могилу к Марату была запланирована давно, и я хорошо представлял, какой должна быть эта поездка в первые дни ноября к петербургскому писателю-маргиналу с несчастливой судьбой, умершему трагически, на операционном столе, из-за врачебной ошибки. Писателю, которому едва наскребли на клочок земли на бедном окраинном кладбище.
Я представлял себе гигантское голое поле. В канавах гниют цветы, бешеный ветер носится, ломая кресты, а иной раз и опрокидывая гранитные камни. Все засажено мертвецами гораздо плотней, чем спальные муравейники, вглубь и ступить нельзя без особой сноровки – так что уже пожилым и всегда пьяным его друзьям такой поход не под силу. А в том, что мы будем пьяными, и уже с утра, сомневаться не приходилось. Сама могила будет запущенной, поросшей колючими, крепкими, несмотря на время года, сорняками, в которых застряли пустая бутылка из-под кефира и пустая сигаретная пачка, брошенная посетителями соседних могил или принесенная ветром с мусорки. Но мы уже будем не в состоянии все это убрать, а только водрузим поверх беспорядка пару гвоздик и пойдем обратно.
Но все оказалось иначе. Был солнечный, чересчур теплый день – столбик термометра едва не достиг пятнадцати градусов. Приятный лесной воздух, желто-оранжевые деревья еще держали листву при себе, было свежо и тихо, а на могиле Марата – чистой, очень ухоженной – лежали венки. Небольшой резервуар был засыпан белыми камушками, напоминавшими мелкие зубки. Я перебирал эти зубы, согревал в руках, а потом клал назад.
Я вспомнил, как при знакомстве с Маратом меня очень встревожил его взгляд, какой-то полустарушечий. Может быть, из-за кожи, чуть-чуть свисавшей мешочками на щеках, в первую встречу он напомнил мне желтого лилипута из крымского цирка. Тот лилипут разворотил мою детскую психику.
Мать взяла мне билет на выступление лилипутов-гастролеров, заехавших и в наш курортный город. Мне досталось место в первом ряду. Я и не подозревал тогда, что в эстрадных шоу это расстрельное место. Лилипут-импресарио насильно выволок меня – не просто нелюдима, а больного тяжелой социофобией человека – на сцену. Каких только унизительных экспериментов карлики не успели поставить на мне под равнодушный, как шум морских волн, смех зала. Запомнил один – как мне надели мешок на голову и заставили прыгать через скакалку. Я до сих пор помню черноту мешка, он грубый, как куль для картошки, но пахнет в нем приторными цветочными духами. Я провел с мешком на голове прорву времени, а скакалку, как оказалось, почти сразу убрали, и я просто прыгал с мешком, веселя туристов.
«Прыгай, прыгай», – шептал мне лилипут не женским и не мужским, нечеловеческим голосом. Когда мешок с головы сняли, я увидел маленькое лицо с треснутой, отмирающей кожей, инопланетянин, полуребенок-полустарик, полустарик-полуребенок. Что-то потустороннее в голосе и во взгляде. И Марат отдаленно напомнил крымского лилипута, но это не пугало меня, а, напротив, через детскую травму он легко вошел в мое сердце.
В последний раз мы сидели в пирожковой у метро «Владимирская», с мозаикой, напоминавшей о витражах готических храмов, была полная тишина, и клиенты жевали свои пироги беззвучно, с каким-то, как я теперь думал, скорбным почтением. Я сказал Марату, что он пожелтел, а он предъявил тогда самую неприятную из улыбок, снова напомнившую о крымской эстраде и цирке карликов.
Марат говорил очень долго, это было полноценное завещание. Он говорил торопливо, как человек, счастливо продавший дачу, и вот он трясет перед лицом покупателя огромным комом ключей, втолковывая, какой ключ что открывает. Но ключей очень много, он очень торопится, чтоб поскорее завершить сделку, к тому же он сам не помнит о назначении и половины из них, а покупатель, я, ежесекундно на что-нибудь отвлекается. Он объяснил, как спускаться в ад и как возвращаться целым обратно, но я ничего не слушал, а ковырялся в ногтях, думал о каких-то идиотических пустяках. Кажется, не мог выкинуть из головы мужчину в цилиндре из вагона метро, который, когда мы встретились взглядами, подмигнул мне и почтительно приподнял головной убор. Запомнился только один совет: я, нежный москвич, должен переехать в Санкт-Петербург. Только здесь я смогу писать. Только здесь я смогу стать счастливым – но, конечно, не простым солнечным счастьем обывателя, а изощренным счастьем городского невротика, помещенного в свою родную невротическую стихию.
Я положил возле холмика две гвоздики и почувствовал на мгновение, как защипало в глазах, и успел подумать: неужели сейчас я пущу слезу или вовсе расплачусь на глазах у друзей – и даже обрадовался немного, выходит, что я не наваждение, мне свойственны чувства реальных людей – но это ощущение продлилось не дольше секунды и безвозвратно прошло. И больше никаких особенных чувств, во всяком случае способных пересилить чувство сонливости из-за непривычно раннего пробуждения, – не возникло.
Мы начали вспоминать истории о Марате. Кирилл припомнил, как Марат оказался в следственном изоляторе. Он попал туда за кражу полного собрания сочинений Достоевского, принадлежавшего тестю. Марат не работал, писал очередную книгу, которой не суждено было выйти, тесть и не думал поддерживать начинающего писателя. Семье было нечего есть, и Марат решился на воровство. Тесть написал заявление, и спустя пару дней в квартире безработного установщика дверей Марата выбили дверь, его сбили с ног и надели наручники.
А теперь Марат лежит рядом с тестем. А еще по левую и по правую сторону от Марата лежат люди по фамилии Николаев и Сергеев. Николаевым звали героя его последней книжки. А прототипа героя звали Сергеев. Теперь они все, все лежат тут.
Постепенно меня начали убаюкивать трагикомичные истории из жизни покойного, которые, как обычно, всплывают одна за другой, если только кто-то начнет их рассказывать, но вдруг я услышал негромкий хрип, раздавшийся снизу. Его услышал не только я. Кирилл, который был в самом начале истории о том, как Марат полез с кулаками на председателя Союза петербургских писателей, внезапно остановился.
Какое-то время мы провели в тишине, избегая смотреть друг другу в глаза, но звук больше не повторился. Звук шел явно не из могилы, но я вспомнил, что мертвецам свойственно издавать самые разные звуки. Посетители кладбищ иногда слышат рычание, лай, хрюканье и даже мольбы, но все это объясняется какими-то сложными физическими процессами во время разложения.
Я снова оглядел груду камешков, напоминавшую склад детских молочных зубов, и вдруг как будто рентгеновским зрением увидел тело Марата в его нынешнем состоянии. И я увидел все с безупречной отчетливостью, которая в обычное время недоступна моим глазам, слабовидящим и астигматичным.
Я почувствовал тошноту и присел, пытаясь сдержать в себе все, желавшее освободиться. Рентгеновское зрение исчезло так же внезапно, как и появилось, и, сделав несколько глубоких вдохов, я понял, что уже прихожу в себя. Нужно было немного пройтись, и я вышел на перекресток с мусорным баком и ангелом над одной из могил. У ангела в руке была короткая шпага, призванная, по всей вероятности, карать всех желающих посмеяться над фамилией, которая была выгравирована под ним – а фамилия эта была Подмышев.
Мне не очень хотелось смеяться, даже улыбку было не выдавить, я выплюнул желчь, сделал пару глотков воды под нервное и, пожалуй, слишком навязчивое шелестение березы, когда что-то заставило меня обернуться на девяносто градусов. Я увидел высокую, очень прямую фигуру среди могил. Это был живой человек с лицом, размякшим от скуки, стоявший у чьего-то надгробия.
В юности я часто ходил по кладбищам и научился распознавать людей, которые пришли не скорбеть и не глядеть на венки именитых покойников, а с какими-то странными целями, которые лучше и не пытаться у них выведать.
Я заметил, как что-то белое шевельнулось между могил. Виляя хвостом, показалась белоснежная маленькая собака, похожая на болонку, но покрупней. Должно быть, появилась новая мода: выгул на кладбище, или то обстоятельство, что в Петербурге так мало парков и даже скверов, зато кладбищ хоть отбавляй, и тенденция, увы, такова, что они будут шириться, – вынуждает местных жителей пользоваться кладбищами для прогулок, игры в лапту и другие подвижные игры, а также для выгула домашних животных. А может, это был символический жест, и он привел пса навалить на могилу.
В любом случае, меня это не касалось, если речь не шла о могиле Марата, но все-таки в этом типе с собакой было что-то резко отталкивающее. Наверное, все дело было в глубоких противоречиях, слишком заметных на его белом лице. Очень густые усы в сочетании с гладко выбритыми щеками и подбородком. Кудрявые, почти полностью поседевшие волосы, не считая остаточной черноты ближе к черепу, в сочетании с очень уж юным, почти детским лицом. А советский голубой плащ из секонд-хенда и свободные шаровары, пузырящиеся возле колен, не оставляли никакого сомнения – передо мной был настоящий санкт-петербуржец. И этот санкт-петербуржец смотрел на меня с непонятным вызовом, пока его собака беззвучно копалась в земле.
Я понял, что если не отведу глаз, то напрошусь на реплику, а мне совсем не хотелось заводить разговор, было понятно, что пользы от этого разговора не будет.
Тем временем друзья уже продирались по колючим кустам за мной, и я пошел им навстречу. Не знаю из-за чего, но мне не хотелось, чтобы они заметили типа с собакой.
* * *
Обратно мы ехали втроем с Костей и Михаилом Енотовым. Мы, трое тридцатилетних мужчин, покинувших город Москву как поле боя, обстоятельно обсуждали наш новый быт, швабры и тряпки, и сковородки с антипригарным покрытием. Я думал о драматичном надломе, который кроется в тридцатилетии.
Отпраздновав тридцать лет, Костя решил бросить карьеру рэп-певца и отправиться в Иностранный легион, он много тренировался и учил французский язык, а Енотов готовился к выезду в ДНР, в ополчение к Стрелкову. Но в итоге оба героических плана сменились планом переменить город, уехать жить в Петербург.
Уверен, что дело тут не в нерешительности, отсутствии должной смелости у моих друзей. Просто так сложилась ситуация, такова, может быть, современная жизнь, в которой у жителя мегаполиса нет маневра для смелого шага. Стоит ему примерить доспехи Ахилла, и он обязательно поскользнется на первой попавшейся банановой кожуре. Эпос превращен в фарс еще до того, как в нем написано первое слово.
Консерватор сказал бы на это, что современный житель мегаполиса даже и не достоин мужского звания. Он слаб, бесхребетен, а всему виной тот нервно-паралитический яд, что был растворен в самом воздухе девяностых. И потому Россия обречена. Но обречен и весь мир, утративший иммунитет к легчайшему потрясению, что уж говорить о настоящей катастрофе, которая, разумеется, неизбежна. Прогрессист не мог бы оставить эту реплику без ответа и сказал бы: «И хорошо. И слава богу, что современный мужчина преодолел еще одну ступень, отделяющую его от обезьяны. Ведь в этом геройстве мужчина уподобляется шимпанзе, колошматящему себя в грудь с утробным ревом. Это не обреченность на гибель, а единственный шанс на спасение».
Консерватор и прогрессист могли бы спорить до посинения, в то время как неторопливо крутились бы счетчики голосования за ту или иную позицию (за консервативную – побыстрее), но истина, как известно, пролегает где-то посередине. Это вроде бы самоочевидная вещь, но истина – это удар молнии, не каждый способен его пропустить через себя и уж тем более удержать. А если кто и способен, то выглядит он после такого, как древняя черепаха без панциря, – таковы, например, Владимир Познер или Андрей Кончаловский.
6
После визита к Лехе Никонову я понял, что нужно притормозить и выработать стратегию, основанную на рекомендациях арабского шейха Снегирева. В противном случае я быстро присоединюсь к толпам обманутых, сломленных Петербургом романтиков, удирающих от страшного каменного великана прочь, в свою родную пещерку.
У меня появился стол, точнее конторка, которую я приставил к жирному пятну на стене. Теперь это пятно приняло форму младенца с огромным лбом. В его лбу кипели мысли о том, как погрузить мир в кровавый хаос. Если долго вглядываться в пятно, то можно было заметить, что в нем есть глубина, есть коридор с грязно-бежевыми стенами, по которому можно войти. Я отвернулся, чтобы не предпринять это путешествие.
Единственным украшением моей конторки стал порыжевший снимок, сделанный советским фотоаппаратом «Зенит». На нем мой отец сидит на корточках и делает вид, что у него зачесался висок, а на самом деле демонстрирует бицепс. Он всегда был в костюме и даже ходил в нем за грибами в лес, но тут он в майке без рукавов и трениках. Я стою возле него, готовый расплакаться от обиды. Детских снимков с другим выражением у меня нет. А отец стеснительно улыбается.
Следующим утром я выбрался погулять к набережной. На фоне серого грандиозного неба цепь облаков складывалась то в беременное кошачье брюхо, то в череп и ребра скелета, то в целую сцену из античной трагедии – эринии преследуют спасающегося от них в храме Ореста. Это небо заставляет работать на полную мощь ту самую машину образов из позавчерашнего кошмара, неудивительно, что поэты плодятся здесь, как чумные больные в Европе XIV века.
Петропавловская игла среди этой облачной массы превращалась в иголку, затерявшуюся в постельном белье и бесконечно колющую, не дающую спокойно лежать, побуждающую вскакивать поминутно, чтобы наводнять пустые листы письменами.
* * *
Мы с Костей вели себя очень тихо, но в квартире царил круглосуточный шум и стон, издаваемый самой квартирой. Иногда он зарождался сам по себе, но чаще всего его инициировал Костин кот по кличке Марсель, прибывший из Москвы с небольшой задержкой. В Москве это был самый покладистый из всех котов, но при переезде с ним что-то произошло: подобно москвичам, приезжающим погулять в выходные в Санкт-Петербург, он разрешил себе не церемониться.
Вот он тяжело стучит лапами, пробегая по длинному коридору – датчик света (в этой жуткой хибаре был датчик света, включавший и выключавший почерневшую голую лампу) реагировал на него, как на полноценного человека. Вот Марсель с глубоким сосредоточением начинает отделять кусок обоев от осыпающейся стены. Вот он заходит ко мне в комнату деловой тяжелой походкой. У него придирчиво-строгий начальственный вид, с которым он коротко обозревает меня и мой беспорядок. Я чувствую, что сейчас будет сделан выговор. Кажется, что я абитуриент на вступительном экзамене. Но вот экзаменатор запрыгивает с ногами на стол, а следом на шкаф, сует в пустой пакет голову, начинает его неаккуратно жевать. Он жует пакет, он отдирает куски обоев и с этим куском обоев в зубах не теряет разочарованно-строгого выражения.
Говорят, что коты ведут себя независимо потому, что им не хватает мозгов для услужливости. И сперва я думал, что кот Марсель типологически схож с высшими государственными чиновниками, которые добились таких успехов исключительно за умение создавать солидное впечатление. Хотя в голове у них царит жутковатая пустота, и только однообразную мысль о еде, как перекати-поле, гоняет ветер. Но Марсель возвышался над этой логикой – он с негодованием отвергал парадигму отношений хозяина и его питомца, Марсель был тайновидцем, прозревавшим своими круглыми внимательными глазами все неисчислимое множество параллельных миров. Иногда он оглашал квартиру тоскливым воем: бао, бао-о! Марсель вкладывал в этот стон очень много тоски – он еще не подозревал, что это был идиллический период его жизни.
Я был восхищен Марселем, я был нежно влюблен в это большое животное, но в глазах Кости я старался показать мое насмешливое к нему отношение.
– Костя, твой кот такой жирный, что в Азербайджане он спит на Баку. Стоп, кажется, я эту шутку не так рассказываю.
Но Костя все равно улыбался. Ведь он не слышал меня. Он стоял, болтая руками, и ждал, как оставленный реквизит, к которому все никак не вернутся.
Марсель и Костя – двое зрелых мужчин, игнорировавших реальность. Костя целыми днями слонялся по коридору, выбитый из колеи потерей лучшей комнаты. Большую часть времени он готовил и мыл посуду, что-нибудь тер, сортировал мусор, безостановочно систематизируя жизнь. Стоило мне зазеваться за столом с тарелкой, как она уже исчезала из-под меня, отмывалась и отправлялась в сушилку, стол протирался сухой тряпкой, пол под ногами – шваброй, и я не успевал покинуть кухню, а от моего присутствия уже не оставалось следа.
Наведя порядок в этих владениях Дагона, Костя укладывался на пуф с одной и той же толстенной книгой, которую читал в течение многих месяцев, бесконечно возвращаясь назад к вроде прочитанным, но не оставившим в памяти никакого следа кускам.
* * *
Пошла вторая неделя пребывания в Петербурге, но пока в моей жизни не произошло никаких перемен. Кроме панической атаки на набережной у Эрмитажа, не случилось ничего интересного. Я не написал ни одной строки.
Я думал над своим первым романом, а кроме того, как только я решил переезжать, сразу возник и формальный повод. Женя звал меня в Петербург для совместной работы над новым сценарием. Он говорил, что дело прибыльное и верное. Он хотел написать фильм-притчу о рэп-музыканте, который заключает пари с Сатаной. Сам он не был уверен, что в одиночку осилит формат притчи, и потому привлек к работе друзей, меня и Енотова. Енотов должен был отвечать за религиозную составляющую, а я – за линчевские ситуации, возникавшие с главным героем. Например, сиамские близнецы повторяют с интонацией проповедников: «Раньше этот кетчуп был острее». Кто-то говорит самую обыкновенную сериальную реплику и при этом запихивает в рот гигантский багет. Для меня это было легче легкого: городские безумцы, самые подходящие для этого типажи, всю жизнь увивались вокруг меня, как мухи вокруг бездомной дворняги. Но пока дело с места не двигалось.
Идеи романов толпились в моей голове, но ни в одной из них не было потенциала. Гроздья стоваттных светодиодных ламп били в меня, как свет театральной рампы в артиста, позабывшего все свои реплики.
Кроме того, помехи в работу вносил кот Марсель.
Как только я усаживался за конторку, он бросал свое тайновидение и переходил к проделкам. Марсель с равнодушием наблюдал за всеми другими моими занятиями, но вот сосредоточенного сидения за ноутбуком он не выносил. Всякий раз Марсель запрыгивал на колени и вцеплялся в меня своими мускулистыми лапами, как будто удерживая от письма. А вдобавок пускал нить слюны на тачпад, сразу же растекавшуюся мерзкой лужицей.
Вероятно, Марселя мучила зависть, что он не может записать свою корреспонденцию из других миров. А я хоть и мог записывать что угодно, другие миры мне не нашептывали ничего – таково лишь частное проявление тотально несправедливого устройства этого мира, мира, в котором мы с Марселем до времени заточены.
Я выпроваживал его и закрывал дверь, но на этом ничего не заканчивалось. Я знал, что он сидит под дверью и напряженно ждет. Через какое-то время он напоминал о себе тоскливым воем, продиравшим до самых кишок не хуже самых пронзительных песен в жанре блюз-рок, и приходилось пускать его вновь, чтобы все повторилось с зеркальной точностью.
Теперь уж я понимал, что воспринял совет Снегирева слишком буквально. Если мне хотелось бы написать серию благонамеренных постов в фейсбук, рассчитанных на шестьдесят – сто лайков, то в этом случае следовало повиноваться ему беспрекословно. Но чтобы освободить сердце от слоновьей кожи и жира, которым оно заплыло, чтобы запустить внутри такую воронку, которая, вырвавшись из меня, унесется, круша и сдвигая с места миры, следовало сделать по крайней мере пару шагов из зоны комфорта. Нельзя сделать революции, не потеряв пуговицы на пиджаке, как однажды обмолвился Эдуард Лимонов.









































