Текст книги "Бог тревоги"
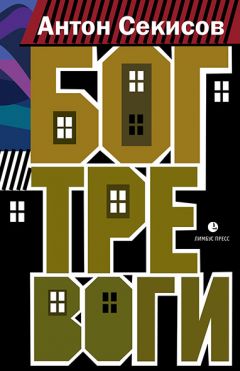
Автор книги: Антон Секисов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
7
Уже на следующий день я решил прыгнуть в петербургскую жизнь с головой, как в купель погожим крещенским вечером. Я поставил будильник на девять утра, чтобы не упустить жизни, ведь, как однажды сказал мой дед: «Потерял утро – потерял день», или, как сказал боец смешанных единоборств Хабиб «Орел» Нурмагомедов: «Я никогда не встречал успешных людей, которые спят до обеда». Но проснулся я и того раньше. Часов в семь, когда тьма за окном была совсем непроглядной, раздался звонок в дверь.
Я никого не ждал. Открывать я и не думал. За дверью стоял представитель мрачного мира Выборгской стороны, мира недействующих заводов и заброшенных тюрем. Нам здесь никто из представителей этого мира не был нужен. Но звонки не переставали, и я упрямо лежал, глядя в масляное пятно над конторкой.
Я услышал, как в коридор выползло бледное Костино тело, на которое, в отличие от Марселя, датчик света не реагировал. Костя был уже у двери, когда до меня дошло: к нам пришли с обыском. Недавно я опубликовал в инстаграме спорную в нравственном отношении фотографию – баннер со светловолосым ребенком, рекламировавшим продукцию Великолукского мясокомбината. Кто-то пририсовал ему на лице небольшую свастику, и я подумал, что это немного забавно. Уже не помню, почему мне так показалось, хотя ничего забавного в этом нет. И чтобы окончательно убедить меня в том, что ничего смешного ни в изображении свастики, ни в ее тиражировании в социальных сетях нет, ко мне нагрянул наряд оперов рано утром.
Я попытался вспомнить, есть ли в доме что-нибудь запрещенное. Запрещенные книги на полке? Что-то сектантское наверняка мог припрятать в шкафу Моисей. Я вспомнил мрачную шутку хозяйки про хранение трупов в кладовке. Люди, воздвигшие зиккураты из втулок, могли оставить здесь все что угодно. Зайдя с обыском по одному делу, опера заведут еще пару новых.
Я метнулся к двери, но в коридоре было пусто и тихо. Костя уже осторожно влезал в постель, чтобы не потревожить раскинувшего лапы Марселя. Я спросил его, кто звонил. Костя, не успевший надеть линзы, скользнул по мне пустыми глазами.
– Я не стал узнавать. Там что-то не то.
– Что значит не то? – спросил я, холодея.
Я услышал, как дрожит от вибрации моя маленькая неустойчивая конторка. Ее привел в движение телефон.
– Не знаю, – проговорил Костя. – Но мне показалось, что если спрошу, кто там, то мне отвечу я сам, понимаешь?
С этими словами Костя накрыл голову одеялом. Марсель, которого все же слегка потревожили, теперь угрюмо глядел на меня.
– Когда-нибудь они перестанут, – сказал я Марселю и закрыл за собой дверь. Через несколько минут мне написала Рита: «Открой, пожалуйста, это курьер».
Этажом ниже меня дожидался пухлый и робкий на вид парень с романтической шевелюрой в духе поэта Байрона, даже не верилось, что это он мог так нахально трезвонить в дверь. Он вручил мне букет подсолнухов и открытку. Сегодня был мой день рождения, а я совсем позабыл. Сердце скакало в груди: Рита была еще слишком юна и не понимала, что тридцатилетние обессилевшие невротики – не лучшая аудитория для сюрпризов.
* * *
Тот день не задался сразу. День открытия себя миру, день прыжка в ледяную прорубь обернулся прыжком в гнилую черную яму без дна. Чтобы снять последствия стресса, я налег на крепкое уже с полудня. Мне попался под руку словацкий бальзам «Татра ти», который пьется очень легко, как чай, несмотря на свои пятьдесят с лишним градусов.
Так что на чтения стихов в «Ионотеке», куда меня пригласил Максим, я пришел уже пьяным страшно и необратимо. Максим вписал меня в число выступающих по доброте души, и я даже выполз на сцену, но так и не смог извлечь из себя никаких связных звуков. Пошатавшись у микрофона, я вернулся в зал. Почему-то у меня была растворена ширинка. По-видимому, это было далеко не худшее выступление в «Ионотеке», и даже в тот вечер, потому что я удостоился скромных аплодисментов.
Затем я долго и трудно проталкивался ко входу, как будто прорубал путь через толстый лед, а оказавшись на улице, сел на четвереньки и пополз в направлении Лиговского проспекта, и кто-то сел на меня верхом. Для полной гармонии оставалось испражниться в луже и изваляться в этой луже и в этих испражнениях. Хотелось по-пьяному голосить.
Вообще-то такое поведение мне не свойственно, сколько бы я ни пил, но, вероятно, близость Максима, который всегда заражал меня нездоровой энергией, и воодушевление от переезда, от выхода в люди, сыграло со мной злую шутку.
Но оскотинивание продолжалось. Меня долго пыталась то оседлать, то поднять с земли девушка (по всей вероятности, девушка, я не запомнил лица и вообще ничего не запомнил, кроме куска бледно-белой плоти, на секунду выглянувшего из-под куртки), заливавшаяся шакальим смехом. Но вместо того чтобы отпугнуть, этот смех приободрил меня. Устремившись вослед за белым куском, я оказался в подвальном студенческом общежитии, в комнате без окон, без ламп. Это была пещера, где пахло потом и плотью, что-то среднее между сауной и скотобойней, и я долго бегал по коридору голым, в чьей-то крови, кричал и стучался в двери, пока меня не вытолкал на улицу какой-то сошедший с гравюр Гойи мохнатый клок с торчащими отовсюду руками.
Я должен был, жалея свой организм, вызвать такси, чтобы через десять минут уже быть дома, но почему-то не сделал этого и пошел пешком.
Поднялся порывистый ветер, снявший со своих мест и приведший в беспорядочное движение все, что было легче среднего человека. Разъяренно выплескивалась из своих гранитных пределов вода, крутились вокруг оси бачки урн, как Колесо удачи. Такой ветер мог сорвать с черепа кожу и вырвать яблоки из глазниц, но на мое пьяное раздувшееся лицо он оказывал тонизирующий эффект, и с каждым порывом я чувствовал обновление, как от огуречной или любой другой освежающей кожу маски. За все время пути я встретил только двух человек: один был в капюшоне, под которым что-то чернело, уж точно не обыкновенная человеческая физиономия, а второй был без капюшона и шапки, с упрямым железным лицом, подернутым ржавчиной, он шел, наклоняясь вперед, и был с трудом отличим от подгоняемой ветром полой статуи. На втором мосту я встретил статую сфинкса, морда которого, под покровом дождевых капель, показалась, напротив, очень живой, ржавчина напоминала сетку прыщей, а влага – человеческую испарину.
Внезапно я вспомнил один из советов, полученных от Марата. Он сказал, что мне следует навестить фиванских сфинксов на Университетской набережной. Так и действует алкоголь: безжалостно репрессируя клетки мозга, какие-то из них он может неожиданно воскресить, причем те, что числились давно умершими.
Но для чего мне следует их навестить, вспомнить не получалось. Может быть, из-за отличного вида, который открывался на Адмиралтейский район. А может, это было одним из тех мест писательской силы, которых в Петербурге и так предостаточно, хотя иногда такие места следует называть не местами силы, а местами отъема всяческих сил. В любом случае, я вписал эту мысль в телефон, чтоб не забыть, – может, и навещу этих сфинксов при случае.
Вернувшись под утро домой, я застал Костю на кухне. Он печально жевал тыкву с булгуром в компании дамы, подцепленной, вероятно, там же, где я подцепил свою, может, и не существовавшую даму. О своей спутнице он, кажется, подзабыл. Я заметил, что букет подсолнухов, который я бросил утром на стол, стоял в графине.
– Из-за этих цветов у нас заведутся жуки, – сказал Костя. Марсель в это время играл шнурками на кедах дамы. Дама стеснялась его отогнать, да и как было отогнать такого солидного господина.
Я попытался смыть с себя грязь этого вечера аллергенной вонючей водой, стоя в насквозь проссанной ванной. После чего проскользнул в свою комнату и зачем-то заперся на замок. Перед сном меня посетила мысль о Марселе.
Это был самый серьезный, основательный кот из всех, что я знавал. Но серьезность кота не такая, как человеческая. Думаю, если б Марсель не был кастрирован еще в молодые годы и если бы коты могли заводить семью, Марсель стал благополучным, серьезным отцом, воспитавшим достойных наследников – в котовьей системе координат. Тем же тоном, что отцы наставляют детей прилежно учиться и следить за чистотой ногтей и обуви, он бы наставлял детей копаться в коробках, грызть пластиковые пакеты, драть занавески и делать все другое, что полагается основательному коту.
* * *
В квартире на Комсомола завелась моль и мелкие, круглые, как пуговицы, жуки. Как все мировое зло, они пришли в наш мир через женщину. Жуки выползли из цветов. Моль переселилась из шубки, в которой была Костина незнакомка. Возможно, что переселение не было добровольным – кто бы сам променял сытую жизнь в шубе на это нищенское жилище, где единственный переносчик шерсти – Марсель, но и это мишень трудная.
Марсель глядел на ползущие пуговицы без интереса. Жуки как низкая форма жизни мало интересовали его. Даже людям было трудно надолго удерживать на себе его внимание. Его ждал поединок с бездной. Муза дальних странствий играла на арфе для одного него.
Прошедший вечер убедил меня в том, что хотя и не нужно закрываться в себе, отдаваться стихийным порывам тоже не следует. А следует найти середину между отшельничеством и куражом. И выходить из зоны комфорта с той осторожностью, что присуща лесным странникам, пересекающим заболоченные участки, ощупывая при помощи посоха каждую пядь перед собой.
И я начал с того, что стал изучать район, район улицы Комсомола, в котором мне пришлось поселиться. Этот район был не предназначен для жизни. Во всяком случае для теплокровных существ. Для мокриц, ужей, жуков, выползших из подсолнухов и расплодившихся до масштабов большой деревни, не исключено, что это место было аналогом человеческого Биаррица.
В окрестностях не водилось продуктов, только ларек шавермы, где подавали больных голубей в лаваше, приправленных квашеною капустой. Все супермаркеты заменяла лавка с сухими кормами и пивом. Там можно было купить алкоголь и ночью, но для этого следовало пройти многоступенчатый ритуал.
Сперва продавец будет глядеть с оскорбленной добродетелью, и можно легко проследить, как через эту добродетельность медленно проступает мефистофелевская улыбка. Он будет допрашивать, устраивать лихорадочные объяснения, объясняться в любви и преданности, но с горечью разводить руками, скорбно, с витиеватыми извинениями прощаться, потом догонять под дождем и снегом, перепрыгивая через лужи с бутылкой в руках, которую ты полчаса безуспешно пытался выторговать. Вполне подходящий герой для моей соседки по поезду, искавшей драмы на ровном месте.
По правую руку был морг, по левую – судмедэкспертиза, а в соседнем подъезде магазин «Все для крещения», прямо напротив тюрьмы «Кресты». Мне хотелось узнать, каков полный набор крестильных ингредиентов, но этот магазин никогда не бывал открыт, похоже, его закрыли еще до моего рождения.
Если долго идти против пыльного ветра со стороны Невы, то в конце концов можно выбраться к магазину «Пятерочка» возле Финляндского вокзала.
Это была худшая из «Пятерочек», которые я знавал, а бывал я во многих окраинных и некоторых провинциальных «Пятерочках». Она вся, как снегом, была осыпана луковой шелухой, песок лез из каждого уголка, заледеневшая грязь намертво приросла к морозильным камерам. Работники зала слонялись по узким дорожкам, не работая, а только перегораживая путь покупателям. Из наушников очень отчетливо, как из динамиков, доносилась воинственная песнь на арабском языке, может быть, призывавшая к немедленной и максимально жестокой расправе со всеми неверными. Их начальница – злая косматая мужиковатая тетка – впустую орала на них. Я покупал редис, свеклу, лук, картошку, редьку – но все оказывалось несвежим, редис был недостаточно или вовсе не остр, редька пахла гнилым мясом, все остальное было просто залежавшимся и невкусным.
Между метро «Площадь Ленина» и Финляндским вокзалом циркулировали огромные массы людей, накатывавшие, залезавшие в давке друг другу на головы, но никто из этого потока не выбивался на улицу Комсомола, в ее ледяной обездвиженный мир. Он напоминал самые безжизненные уголки пустыни, по которым вместо перекати-поля носились опаленные клоки шерсти неизвестного происхождения.
Странным образом все детали, за которые цеплялся взгляд на улице Комсомола, сразу обретали особенную значительность, какую любая деталь обретает во сне. Изредка попадавшиеся прохожие тоже выглядели как персонажи из сновидений. Они не отвечали мне на приветствия, а просто равнодушно таращились, пока я не пройду мимо. Женщина с громадной облысевшей дворнягой, дальним родственником дога, вдруг прижимала палец к губам, когда я здоровался с ней. Другая женщина держала над головой крышку от унитаза вместо зонта, хотя дождя и в помине не было. Мужчина с перекрученной, перепутанной бородой и футляром для инструмента в руке медленно шел задом наперед, чуть выпятив зад, как будто зад заменял ему глаза, и он пытался осязать задом дорогу. И, в общем, это было не так уж глупо – в тьме улицы Комсомола глазами разглядишь не больше, чем задом. Иногда на пустой дороге я различал скрип коляски, детской или же инвалидной, но его источник никогда не удавалось определить.
Однажды у меня с дачи пропал пуховик, в котором я ходил там и зимой, и летом. Пуховик был с большой прорехой на ребрах. Теперь я каждый вечер видел, как он несется по небу, и каждый вечер в эту прореху светила одна и та же мутноватая и как будто припухшая луна – единственный осветительный прибор на улице Комсомола.
8
Прошла неделя, настали настоящие холода, я шел по Фонтанке, по непроницаемому дубовому льду желтоватого оттенка, и сверху мел мелкий ненатуральный снег, я шел в гости к писателю и массажисту Валере Айрапетяну, чтобы поздравить его с рождением ребенка.
Правда, хотя ребенок появился на свет, поздравления были преждевременными. Он родился на несколько месяцев раньше срока и теперь лежал в инкубаторе, еще не младенец, а скорее хрупкий младенческий силуэт.
Валера сидел за столом, бритый и неподвижный, сложив на стол огромные белые руки. Прическа у него была аккуратная, как у отличника, а вот волосы на руках выглядели растрепанными. Руки, которые отмассировали тысячи толстых и дряблых тел, а в пору сельской юности забили сотню-другую баранов, высвободив из них тонны крови. Помню, как он сгреб этими руками Эдуарда Лимонова и начал что-то внушать о женщине, с которой они оба в разное время спали. «Старый пират» с «разящим античностью ртом» был смят, как обеденная салфетка, в его объятиях. Он вынужден был растерянно блеять: «Вы меня с кем-то спутали». И охранники Лимонова потерялись. Всех подмял под себя веселый энтузиаст Валера.
Когда Валера сообщил мне про ребенка, я вспомнил его рассказ о практике в абортарии. Валера был ассистентом врача, который вырывал из женщин формирующиеся плоды (у некоторых даже были скелетики) и шлепал в мусорные пакеты, как гнилые яблоки. И вот созданное самим Валерой хрупкое существо лежало в большой пробирке с иллюминаторами, и он не мог оказать ему никакой помощи.
Я чувствовал себя его вторым недоношенным сыном без кожи. Мне нужно лежать с трубкой, под лампами, как яйцу, отгороженному от мира несколькими слоями, за толстым стеклом инкубатора, похожим на очки полуслепца.
Валере было неприятно говорить о том, что происходило с его одновременно рожденным и нерожденным сыном, он перевел разговор на баклажаны с чесноком, которые приготовила его мать, и полез в холодильник за новой банкой. Я заметил, что в холодильнике у него, как и прежде, стоит банка с пиявками, которые зачем-то нужны ему в массаже.
Тогда я сказал ему, что недавно мы навестили могилу Марата. Валера был спокойно и глубоко религиозен. И когда он рассказывал мне про обстоятельства смерти Марата, которые в очередной раз показали, что смерть никакой не венец жизни, а еще один нелепый бессмысленный эпизод среди череды нелепых бессмысленных эпизодов (просто анестезиолог не посмотрел кардиограмму сердца, неправильно рассчитал дозу наркоза, и вот изношенное подъемом из ада и погружением в ад сердце Марата не выдержало) – в конце всей этой истории Валера назидательно сообщил, что на все воля божья.
И теперь он повторил эту фразу, всякий раз приводившую меня в раздражение. Хотя ничего особенного в ней не было, просто расхожая фраза, которую говорят, когда нечего больше сказать, а молчание почему-то невыносимо – наподобие «таким вот образом» или просто короткого «вот». Но чувствовалось, что в Валерином случае за ней стоит спокойная убежденность в правоте таких слов, он смотрел на эти ставшие шелухой слова незамутненным взглядом ветхозаветного иудея или христианина первых веков. Он твердо верил в рай и ад, возможно, и в круговую систему Данте, и уж точно в воскресение, в спасение и Страшный суд.
Недавно он перекрестился из армянской церкви в русскую православную и говорил теперь, что на службе в него вошла другая Сущность, как удар, подобный столпу света. Почему-то мне было очень трудно все это выслушивать, наверное, я просто ему завидовал, ведь я ничего подобного и близко не ощущал.
Но помимо прочего я ему не верил. Наверное, чтобы впустить в свое сердце чистую веру, нужно сперва себя обмануть, оглупить, сделать примерно то, что устраивают на реконструкторских фестивалях люди, которые отключают айфон и весь день таскаются в лаптях, и пьют брагу, и заставляют стегать себя плетью, пока не поверят, что они в самом деле крепостные крестьяне, и на дворе XIX век, и жизнь снова проста, как три копейки, – никаких неврозов и фобий, а только плати оброк, целиком вверив свою судьбу барину.
Я смотрел на его руки, привычные к двум субстанциям – массажный крем и баранья кровь, – и видел, как они смешиваются, образуя кровавые комки слизи. Эта слизь – само существо жизни, в коконе этой кровавой слизи младенец приходит в мир. И я представил Валеру в накидке из грубой материи, ведущего на поводке барашка на иудейский праздник в Иерусалим, где тому перережут глотку во славу Божию.
* * *
Распрощавшись с Валерой, я отправился к Жене. Конечно, я предпочел бы уклониться и от описания этой встречи, и описания Жени вообще. Герои и так разрастаются, как грибы, и обстоятельства тоже, но действие едва сдвинулось с мертвой точки. К тому же я чувствовал, как Женя, еще толком не появившись в тексте, уже взламывал весь мой строй, всю мою манеру. С персонажем, который не просто отказывается исполнять свою роль, но всю реальность, не только художественную реальность, ограниченную этим текстом, а реальность как таковую считает только игрой своего ума, трудновато сладить.
Ко всему прочему он считал, что и я, и все окружающие – его обретшие плоть идеи, возникнувшие у него в сумасшедшем доме, задним числом вписанные в его жизнь, приобретшие форму людей для простоты восприятия. Как у древних греков гром обретал форму мускулистого старика Зевса, а плодородие почвы – форму задастой грудастой Деметры, так и мы воплощали его склонности и пороки. Максим был тщеславием Жени, Михаил Енотов – духовными поисками, Костя – мечтательностью и ленью, я – застенчивостью, мнительностью его натуры. Женя никогда не высказывал подобных идей, но я чувствовал в нем эту убежденность, и временами казалось, что именно так все и обстоит.
У Жени были для этого основания. Женя основал издательство, в котором нас всех, в том числе и Марата, публиковал, создал несколько групп, в которых пели рэп Костя и Михаил Енотов, даже из Москвы в Петербург он сбежал первым, проложив для нас всех дорогу. Может быть, если б не Женя, мы все так и лежали бы кучами теплой глины, не нашедшими в себе сил ни на какое движение.
Женя снимал комнату в пятикомнатной коммуналке на Кирочной. Еще одну комнату занимала приветливая, хотя и чересчур назойливая хозяйка, в другой жил врач-педиатр без одной ноги, который держал маленького крокодила. Остальные две комнаты были заколочены досками – в обеих произошла череда страшных событий: поножовщина со смертельным исходом, повешение, пожары, в которых сгорели заживо дети, – целые трагедии рода, оказавшегося во власти древнего рока, преследовавшего их из поколения в поколение: в общем, обыкновенная петербургская коммуналка.
Женя сидел на табурете посреди комнаты, в черной толстовке с капюшоном, надвинутым на глаза. У Жени было два состояния – лихорадочно-деятельное или, напротив, скорбное и угнетенное. И сейчас было время второго состояния.
Мы обменялись рукопожатиями, Женя снова присел и стал почесывать свое серое невыспавшееся лицо. Он чесал щеки, лоб, глотку. Чесотка сразу перекинулась на меня. Из-за воды на улице Комсомола у меня воспалилась кожа, и теперь зуд начинался от самого легкого возбудителя.
Я пересказал ему разговор с Валерой, ту часть, что касалась религии, а про ребенка предпочел ничего не говорить, сочтя эту тему чересчур щекотливой. Женя терпеливо слушал меня, хотя в его взгляде не было ничего, кроме мертвящей больничной скуки. Два фантома, порожденных его фантазией, вышли из-под контроля, нанесли какой-то плоской необязательной чепухи – тяжело, тоскливо. Тогда я решил рассказать и про Валериного ребенка, уж эту информацию он не имел права выслушивать с таким выражением, но он опередил меня, неожиданно заговорив не о сыне Валеры, а о младенцах в целом.
Он сказал, что давно мечтает попробовать первый кал младенца. По словам некоего врача, этот кал обладает уникальными целебными свойствами. Первый кал младенца почти ничем не напоминает обычное говно – у него даже нет запаха. Оно похоже на шоколад из инобытия, совершенно неземная субстанция. Богатые старики с младенческой кожей лица, пересаженными чужими сердцами и селезенками охотятся за этим первым говном с остервенением изголодавшегося хищника.
Оборотистые врачи давно устроили на говне младенцев бизнес. Женя уже почти договорился с медсестрой, слушательницей его группы, чтобы она дала отведать ему ложку младенческого говна. Но все же ему было очень досадно, что он узнал об этом только вчера, ведь совсем недавно у Валеры родился сын, не получилось использовать шанс, который фактически сам плыл в руки. Хотя, если вдуматься, было не очень понятно, как Женя реализовывал бы такой шанс, как договаривался бы сперва с Валерой, а потом с медперсоналом больницы. Этот вопрос чересчур деликатен, чтобы действовать напрямик, тем более в сложившихся обстоятельствах, о которых, Женя, возможно, не знал.
После этого монолога повисла неловкая тишина, которую я попытался прервать разговором о сценарии. Я хотел выяснить, что конкретно мне следует делать и в какое время, но Жене было явно не до того. Зацепившись за слово «время», он выдал длинную запутанную тираду об условности прошлого и будущего, о том, что последовательность событий – это уловки мозга, и его подруга как-то порезала себе вены, и вся кровь сперва вытекла на ковер, а потом затекла обратно. Я понял, что пока работу над сценарием следует отложить. Да и у меня образовалась очередная помеха.
* * *
Сняв монашеский балахон, выполнявший роль шторы, я обнаружил, что несколько соседей из дома напротив жили лишь тем, что следили за мной и моей каморкой. Лысый мужчина с круглыми вздернутыми плечами, которые напоминали две отдельных маленьких головы, сидел возле кактуса и смотрел в бинокль.
Скукоженная немолодая дама в совершенно пустой, хорошо освещенной комнате стояла, царственно опершись рукой на подоконник, и глядела на меня не шевелясь, как рептилия. Я старался не принимать это слишком близко к сердцу, но все-таки было странно, что в мире, набитом доверху развлечениями, они выбирали просто следить, как парень в домашних штанах сидит за столом, пытаясь бороться со сном и с однообразной книгой, которую он читает из самолюбия – «Фольклор в Ветхом Завете» Джеймса Фрэзера.
* * *
Но один случай выбил меня из колеи. В тот вечер я заскучал по Рите. Может быть, все началось с того, что меня укусил жук, занесенный с ее подсолнухов, а может, так преломилась тоска по Москве, по дому. Я вспомнил силуэт ее тела с синеватым отливом от лба Гумилева, ее паутину на животе, в которую она ловила меня, но так и не сумела поймать, ее хитрые монгольские глаза, ее нежность, растерянность, когда она думала, что забеременела, ее белый птичий пуховичок. Мне захотелось ей немедленно позвонить. Но я знал, что это самая глупая мысль за много недель. Это при том, что целый рой отборных в своей тупизне идей атаковал меня ежесекундно. Куда разумнее было включить кинофильм из разряда «Рыжая нимфа запихивает дилдо глубоко внутрь ее евразийской подружки».
Но было лень что-то искать, да и в этом жанре мне почти никогда не удавалось найти, несмотря на кажущийся очень широким ассортимент, подходящего зрелища. Я прибег к помощи воображения. Его силы недостает, чтобы сплести хотя бы элементарный сюжет, но хватает, чтобы представить Риту в черном белье, ее паутину на животе, длинный и изогнувшийся лик Гумилева, нависающий из-за ее плеча, как змей-искуситель.
Приспустив штаны, я вдруг увидел, что окна напротив заняли оба моих постоянных зрителя, но сверх того еще двое – две молодые мужские фигуры в окнах на этаж выше моих.
Я задрал штаны и схватился за книгу, не найдя ничего лучше, как сделать невозмутимый вид, сообщающий им: все, что могло быть увидено, – это просто прелюдия к чтению. Через минуту я снова взглянул в окно. На месте двух мужских фигур появилось восемь. Все таращились на меня и одна даже что-то показывала. Медленно встав, не теряя важности и неторопливости, свойственных человеку, севшему скоротать вечер с толстой книгой, я погасил все лампы и, усевшись на четвереньки, пробрался в комнату Кости.
От массы тела слегка накренился пол, и Костины гири стали кататься по комнате, врезаясь друг в друга, как машинки на автодроме. Соседи из дома напротив продолжали стоять и ждать зрелища. Из моего укрытия я мог как следует разглядеть скупой интерьер их комнат, их простые равнодушные лица, которые свидетельствовали: они явно не собирались бросать наблюдение и идти по своим делам. Так что остаток вечера пришлось провести на полу, перебравшись на Костин матрас под неодобрительное урчание Марселя.
* * *
Костя нашел, что противопоставить миру Выборгской стороны. Каждый вечер я слышал из его комнаты громкий скрип половиц и страшное пыхтение. С комода падали вещи, как будто кто-то накинулся сзади и душит его, и Костя пытается вырваться в предсмертной агонии. Каждый день он устраивал бой с тенью, на всякий случай надев капу – вдруг тень решит ответить ему. Каждый день, тщательнее, чем мумия, замотав свое тело, чтобы не допустить ни малейшей прорехи для внешнего мира, для атмосферы улицы Комсомола, он уходил на пробежку.
Иногда я просыпался с чувством своей невероятной силы. Сейчас я сяду за стол, за свою прихрамывающую конторку, и напишу пять – десять страниц, от которых будет исходить такой жар, что можно обжечь руку. Я садился за стол прежде, чем надеть линзы, сходить в туалет и почистить зубы. Я набирал вслепую первую фразу. В нее, в эту самую обычную фразу, уходила вся моя сила. Больше я не хотел писать. Голос свыше мне ничего не нашептывал, зато были слышны на минимальной громкости чьи-то другие голоса, время от времени сливавшиеся в один. Он не сообщал мне ничего нового, а только то, что я знал гораздо лучше него: что мне уже много лет, но я растрачиваю года неталантливо и без сердца, если и были зачатки того и другого, то ссохлись давно, как та бабка в окне, как цветок алоэ. И перемещение из города в город, что я прекрасно знал и без него, тут ничего не изменит. Город – это же просто набор зданий и площадей, а все остальное – Дух города, городской Миф, это просто слова, произносить и писать которые людей в разные времена вынуждала скука.
Я бродил по комнате, в нее попадал мутный, отраженный от противоположного дома свет и таким образом в комнату проникали зрители из окна напротив. Нужно было уже наконец совершить усилие над собой: установить карниз и повесить шторы. Похоже, что мой предшественник Моисей тоже не имел штор и творил здесь нечто занятное, чем прикормил половину жильцов противоположного дома. И теперь я испытывал что-то вроде зрительского давления, как новичок реалити-шоу с витиеватым названием «Улица Комсомола, 13В, второй этаж, квартира восемь».
Но даже карниз и занавески не изменили бы положения, я все равно чувствовал бы их присутствие, их терпеливое и неподвижное ожидание, ожидание валунов.
* * *
Спустя много лет я оказался в Кунсткамере. В последний раз был там еще школьником, с мамой и отчимом, и не запомнил ни одного экспоната. Теперь я долго смотрел на детей в формальдегидном растворе, достаточно долго, чтобы их невозможно было стереть из памяти. Вместо кожи у них была ткань, уже давно младенцы стали тряпичными куклами. Вот только волосики сохранились. Хотя, должно быть, они сохранились бы и без всяческих ухищрений.
Я надолго застрял в зале с африканскими племенами. Текст про инициацию понравился мне до такой степени, что я переписал его целиком. Вот он:
«Еще вчера мальчишки весело гоняли по двору красноголовых ящериц и забавлялись шумной игрой, а сегодня из священного леса пришла страшная маска и увела их с собой. Кончилось детство, пришло время посвящения во взрослые – инициации. В священном лесу детей проглотит чудовище, они умрут и возродятся уже совсем другими людьми. На их телах в память об этой смерти останутся узоры из шрамов-насечек. Трудное это испытание: хочешь стать настоящим мужчиной – терпи и боль, и голод, и усталость. На того, кто не прошел инициацию, ни одна девушка не посмотрит, его и в сорок лет будут считать ребенком, и ни на одно важное собрание не позовут, и в тайное общество не примут».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































