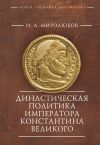Текст книги "Валерия. Триумфальное шествие из катакомб"

Автор книги: Антуан де Вааль
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава IV
В катакомбах
Папа Фабиан разделил в 250 году Рим на семь церковных областей, во главе каждой области стоял диакон, который имел притом и надзор за кладбищами (Coemeteria), назначенными для каждой области. Целийский холм (Coelimontium), где находился дворец Руфина, был причислен ко второй области, кладбище которой находилось возле Аппиевой и Латинской улиц.
Валерия желала, чтобы ее мать похоронили в катакомбах возле Аппиевой улицы, которая была непосредственно под надзором папы и получила свое название от святого папы Каликста.
В старом Риме умерших хоронили ночью; согласно предусмотрительному распоряжению Ирины труп Сафронии должен был быть вынесен тихо, без всякой пышности. Но это не помешало большому числу бедных и стариков собраться в передней, чтобы выказать своей добродетельнице любовь и благодарность. Когда Ирина в сопровождении двух служанок появилась, чтобы от имени Руфина и его дочери раздать им милостыню, она испугалась, увидев между ними и Рустику, жену одного могильщика из Транстиберинского городского квартала. Хотя эта женщина только четыре дня тому назад родила, она все-таки пришла со своим младенцем и слепой матерью, и когда Ирина кротко упрекнула ее за это, молодая женщина ответила:
– Мы ни за что не могли остаться дома: мы должны еще раз поцеловать руку той, которая сделала нам столько добра!
Ирина поспешила ввести этих двух женщин в комнату к телу покойной, и глубоко было видеть, как мать с новорожденным ребенком на руках и слепая старуха стояли на коленях возле смертного одра и выражали свою печаль и благодарность.
Только после долгого сопротивления взяла Рустика платок, который предложила ей Ирина, чтобы она укрылась им на обратном пути от холодного ночного воздуха. Как часто под грубой раковиной бедности можно найти драгоценный жемчуг благороднейшего образа мыслей!
Руфин вместе со своей дочерью подошел еще раз к покойнице, чтобы с горячими слезами запечатлеть на ее лбу прощальный поцелуй. Потом он покрыл, согласно обычаю, драгоценным покрывалом из тирского пурпура лицо по римскому обычаю открыто лежавшего на смертном одре тела. По окончании молитв церкви, вознесенных священниками, шествие, к которому кроме Руфина и его дочери присоединились только Ирина и самые близкие родственники, тронулось, освещенное факелами, которые несли рабы дома.
Несмотря на позднее ночное время, везде перед соседними дворцами и домами стояли группы людей. Никто не посмел сказать ни одного слова сожаления из страха к государственным шпионам, находившимся везде поблизости.
Спускаясь с возвышения Делийского холма, траурное шествие встретилось с толпой молодых людей, кутивших в тот вечер в одной из гостиниц этого квартала. Опьяненная вином, готовая всегда к ночному безобразию, бурная компания двинулась вперед, чтобы отнять у провожатых факелы. Во главе ночных гуляк стоял юноша, с которым мы в продолжении нашего рассказа скоро опять встретимся, – сын префекта государственной канцелярии.
– Клянусь Бахусом! Покойникам не нужны факелы, чтобы найти дорогу под землю, – говорил он своим товарищам, – но, если мы желаем дать серенаду моей красавице Телезилле, то нам нужны свечи.
С этими словами он попытался вырвать у одного из рабов факел, но к нему подошел один из числа немногих провожатых, опустил с размаху руку на его плечо и сказал с трогательной строгостью:
– Городской префект Руфин провожает свою жену в могилу, не мешай тихому торжеству!
Эти слова и глубокая печаль, с которой они были сказаны, геройская смерть Сафронии, как и высокий пост говорившего, разогнали пристыженную и испуганную компанию.
Предводитель в замешательстве, заикаясь, извинился, и все разошлись.
Миновав бани Каракаллы, шествие подошло, не встречая больше препятствий, к Аппиевым воротам, которые теперь носят название святого Севастиана. Там ждала толпа христиан, особенно бедных, чтобы проводить умершую в катакомбы святого Каликста.
Ночь была чудно хороша. С тихого неба смотрели звезды, как взоры ангелов, на ночную процессию; тихий покой веял везде в пещерах, и листья деревьев, подобно набожным детям, не осмеливались шептаться, дабы не нарушить благоговения-молитвы. Но мрачно смотрели находившиеся по обеим сторонам улицы языческие надгробные памятники на христианское погребальное шествие, – тщеславная, гордая пышность и хвастовство живых над прахом и тлением, для которых не было надежды блаженного воскресения.
Клирики, находившиеся во главе шествия, начали пение псалмов не на печальный, а на радостный мотив, какой был предписан при погребении мучеников. О, как часто в течение трехсот лет раздавалось это святое пение в тишине ночи на Аппиевой дороге, когда христиане провожали тела мучеников с места казни и из Фламиниева амфитеатра в катакомбы. Но скоро придет время, когда римский народ, когда пастухи Албанских и Сабинских гор, когда пилигримы из Этрурии и Кампании длинными рядами под звуки святых радостных песен придут на богомолье к славным гробам мучеников, чтобы при них праздновать победу креста над миром. Да, в то время когда гордые надгробные памятники с их хвастливыми надписями уже превратятся в развалины и над раскопанными и обворованными могилами будут подниматься вверх только пустые, плющом обвитые руины, будут приходить даже из стран, куда еще никогда не ступала нога римского воина, – из неизвестных частей света, – набожные пилигримы по Аппиевой дороге, чтобы в вере, любви и надежде помолиться у гробов мучеников.
Настоящий вход в катакомбы святого Каликста плотно прилегал к Аппиевой улице, возле надгробного памятника христианского семейства Корнелиев. С тех пор как земля, под которой находились катакомбы, была конфискована Диоклетианом, христиане сделали себе другой тайный вход, заросший деревьями и низкими тернистыми кустарниками.
Там ожидал покойницу могильщик Минций из Транстиберинского квартала вместе с подчиненными могильщиками.
Вследствие узости помещения тело должно было быть снято с носилок и так перенесено вниз; Руфин взял дорогую ношу на руки и, поддерживаемый Минцием и его товарищами, понес в глубину.
Пройдя низкие со сводами галереи песочных ям, шествие двинулось по длинным галереям подземного города – к могиле, где Сафрония должна была найти место отдохновения. Там ждал в среде своих священников и диаконов епископ Мельхиад, чтобы лично совершить погребение мученицы.
С церковными молитвами подняли могильщики тело и поместили его в открытую могильную нишу; Валерия же вылила дорогие духи из принесенного сосуда на тело умершей, так что подземелье наполнилась благоуханием.
До сих пор Руфин, язычник, мог присутствовать на святом торжестве, и все его глубоко трогало; процессия в тишине ночи на Аппиевой дороге при пении псалмов, шествие через галереи подземного кладбища и набожное благоговение, с которым христиане исполняли погребение.
Но теперь началась святая литургия. С какой печалью сознал он, что должен быть исключен из любви, которая собрала христиан вокруг могилы его супруги! О, теперь он чувствовал, какая пропасть отделяет его от Сафронии и детей. На минуту он попробовал поднять свое сердце и разум к прежним богам, но не сумел исторгнуть из своей души ни капли благоговения к идолам.
На разных памятниках префект читал с немалым удивлением имена тех лиц, которых он при их жизни знал и о которых никогда не думал, чтобы они были христиане. Все они были из числа тех, которых он ради их благородных деяний и ума особенно уважал. Некоторые из них были с сенаторским званием и потомки самых старых поколений римской аристократии.
Странствуя по галереям катакомб, Руфин приближался иногда к нише, в которой христиане были собраны у гроба Сафронии: как чудесно и трогательно было для Руфина их пение, доносившееся через галереи катакомб до его слуха, то приближаясь, то опять удаляясь! Как его потом тянуло к ним, чтобы вместе с ними молиться у гроба своей жены!
Когда святая литургия кончилась, Руфина еще раз проводили на место погребения, чтобы сказать дорогой усопшей последнее «прости», прежде чем могильщики закроют гроб мраморной плитой.
Валерия со всей пылкостью детской любви молилась Спасителю за отца.
Когда Руфин нагнулся над трупом своей супруги и приложился губами для последнего прощания к ее холодным рукам, тогда услышала дочь из уст отца слова, наполнившие ее сердце сладчайшим блаженством:
– Дорогая жена, да будет твой Бог скоро и моим!
Могильщики подняли мраморную плиту к могильной нише и укрепили ее известью: римская христианская церковь вложила в свою сокровищницу катакомб новую драгоценность.
Не хватило времени, чтобы вырезать на надгробном камне надпись; это было больно для Руфина, и, между тем как могильщики исполняли свою работу, он взял из их инструментов острое железо и нацарапал в извести соседней стены надпись: «Милая Сафрония, ты всегда будешь жить в Боге».
Префект повторил этим только слова и выражения, которые он перед тем читал на многочисленных памятниках, однако, вписывая их теперь сам, размышляя о них и употребляя их по отношению к своей жене, он был тронут этими словами особенно: это было исповедание его личного убеждения, это «semper vives Deo» – «всегда ты будешь жить в Боге». Эта вера же в единого Бога и в вечную жизнь наполнила его сердце светом, утешением и неизвестной ему доселе радостью. Слезы текли у него из глаз по щекам, и в волнении он написал под надписью, повторяя свое исповедание и утверждая слова:
– Да, Сафрония, ты будешь жить!
Между тем как всесокрушающим временем и варварскими руками сломаны памятники, и надписи гробниц почти все исчезли, слова, нацарапанные Руфином в извести, остались и поныне и рассказывают нам об утешении души, которая из борьбы между природой и благодатью, между ночью неверия и светом веры вышла победительницей.
Молитва Сафронии перед престолом Божьим начинала исполняться.
Когда могильщики кончили свою работу, верующие оставили место погребения с прощальным приветом: «Мир праху твоему!», чтобы через галереи катакомб опять выйти на поверхность земли.
Только что взошло солнце над Альбанскими горами и озолотило своим блеском легкие облака, которые тихо и мирно, наподобие стада овечек под защитой пастуха, двигались по длинному небесному своду, и солнце смотрело на Рим, на главный город мира, с его бесконечным и безрадостным стремлением к приобретению и наслаждению и освещало памятники на Аппиевой дороге, под которыми все гонения и стремления, все страсти, радости и страдания, любовь и печаль покоились в вечном молчании.
Валерия заметила, как ее отец царапал на штукатурке гробницы надпись: с возрастающим вниманием слагала она букву за буквой и угадывала уже с полуслова все, прежде чем слово было написано; при каждом следующем слове ее сердце билось радостнее и слезы блаженного счастья текли по ее щекам. Не нужно было просящего взгляда девицы, чтобы побудить епископа Мельхиада поговорить на обратном пути с Руфином об учении христианства. Времени было достаточно, чтобы объяснить основные истины нашей святой религии в такой степени, в какой они тогда входили в обучение о крещении, и Мельхиад имел в Руфине настолько прилежного, насколько и умного ученика.
Но когда при прощании папа высказал надежду в скором времени свершить крестное знамение на лбу префекта и этим торжественно поднять его в число катехуменов к приготовлению для принятия святого крещения, тот все-таки еще испугался этого решительного шага и открытого разрыва с римской государственной религией.
Достаточно, думал он, что он в сердце почитает Бога христиан; когда его государственная должность и лучшие времена позволят, тогда он охотно исполнит желание епископа.
Мельхиад возлагал всю надежду на влияние Валерии на ее отца, хотя он с боязливым предчувствием говорил себе, что для медленного и постепенного приготовления к принятию христианства, может быть, не хватит времени. И святой старик предчувствовал верно.
Только вышло в прошлую ночь погребальное шествие из дворца префекта, как чиновник с несколькими сыщиками ворвался в жилище и наложил запрещение как на множество письменных сочинений, так и на ключи префектуры.
Вблизи Палатина Валерия попрощалась со своим отцом и пошла вместе с Ириной по дороге через мост в Транстиберинский квартал, чтобы навестить роженицу Рустику, так как они боялись, что вчерашний выход и холодный ночной воздух могли повредить доброй женщине.
При входе в свое жилище Руфин был озадачен известием, переданным ему управляющим, о ночном обыске дома.
Префект побледнел: он знал, какую цель имеет обыск дома; Максенций решил его погубить.
И теперь уже послышался в передней комнате шум и стук оружия; в следующий момент ворвались в покои центурионы и солдаты, очевидно ожидавшие его возвращения.
Но и в Руфине поднялось чувство самосознания римского патриция, возвышенное еще мыслью о мученической смерти его супруги.
– Я знаю, почему вы пришли, – сказал он. – Я последую за вами, но оставьте цепи. Ни сенатор Арадий Руфин, ни префект Рима не позволит себя сковать, прежде чем будет осужден.
– Хотя мне приказано отвести тебя скованным в Мамертинскую тюрьму, – ответил судебный чиновник, – однако если ты добровольно последуешь, то я не стану употреблять силу.
Дорога мимо Колизея по Священной улице (Via sacra) через триумфальную арку Тита и через форум была довольно длинна, чтобы привлечь массу народа к печальному зрелищу того, как ведут городского префекта в тюрьму. Однако страх перед тираном сдерживал людей, и только выражение их лиц выдавало внутреннее волнение из-за такого нового насилия.
В судейском присутствии Мамертинской тюрьмы уже ожидал прибытия узника претор со своими заседателями. Даже Ираклий явился под предлогом высказать свое мнение о почерке конфискованных письменных сочинений, как префект государственной канцелярии, в сущности же, чтобы управлять ходом процесса. С коварным злорадством обратил он свой взор на узника, которого, окруженного сыщиками, представили суду.
После обычных вопросов начался допрос подсудимого о его прежнем отношении к Константину и нескольким полководцам оного. Потом из конфискованных бумаг было предложено несколько писем, почерк которых Ираклий, сравнивая их с поздравительными письмами императору, признал за почерк Константина.
Содержание этих писем, которые претор приказал прочитать, было, конечно, в высшей степени компрометирующим для префекта города: об этом Ираклий, который велел написать их тайно писарю государственной канцелярии, позаботился. Руфин же, возмущенный до глубины души, заявил теперь протест против этих писем, которых он никогда не получал и которые должны были быть подложными.
– Кто написал эти письма? – говорил он, смотря на Ираклия взором, которого тот не мог вынести. – Это может сказать судьям префект государственной канцелярии, а может быть, он даже знает, каким образом они попали в мои бумаги?
Эти слова узника привели на мгновение в замешательство трусливого грека, однако он скоро оправился и с хладнокровием попросил претора внести подробно в протокол через нотариуса выражения подсудимого, коварно прибавляя:
– Как доверенный слуга божественного Максенция, я стою слишком высоко, чтобы эта стрела из рук государственного изменника могла коснуться меня. Такая отговорка делает преступление подсудимого совсем достоверным.
Не давая Руфину больше защищаться, претор объявил приговор, которым изобличал префекта в государственной измене против жизни императора и приговорил его к смерти, а имущество его к конфискации.
По знаку Ираклия тюремщик со своими сыщиками хотел уже наложить руку на узника, но Руфин выпрямился и сказал им:
– Подождите! За мной еще слово! Император желает моей смерти, – говорил он претору, – и воля его – закон, по которому ты меня судишь. Фиглярство с письмами вы могли бы оставить. Я должен умереть, потому что добродетель моей жены была слишком высока для безбожного тирана, и достойный такой жены, я смело пойду навстречу смерти. Но пусть Ираклий передаст своему господину, как последний поклон своего бывшего соратника: преступления не держат троны! В преступной гордости ты все божье и человеческое право топчешь ногами, но твои ноги поскользнутся на этой почве!
Позвольте мне высказаться! – говорил Руфин строго сыщикам, когда претор и Ираклий, взбешенные смелой речью подсудимого, единогласно велели им увести узника. – Невинная кровь, которую ты проливаешь, Максенций, – продолжал Руфин, его глаза блестели, и, грозя, поднял он свою правую руку к небу, – вопли вдов и сирот, нужда обворованных и изгнанных, стон угнетенного народа, все это взывает о мести, узурпатор, и от этой мести не защитят тебя твои преторианцы. Со срамом и позором кончишь ты жизнь, ты и все трусливые рабы, служившие твоим страстям – и близок уже час возмездия!
– О! – вскричал Ираклий сыщикам. – Разве вы можете переносить эти оскорбления величества? Берите его! В самую глубокую подземную темницу этого государственного изменника! Вон, вон!
Тюремщик и его слуги бросились на Руфина, связали и увели его.
С мрачной досадой на лице ушел Ираклий домой. Он утолил свою месть: человек, которым он был обижен, предан смерти, однако, вместо того чтобы чувствовать теперь удовлетворение, его как привидение преследовала предсказанная угроза, как привидение. Напрасно он старался убедить себя, что падение городского префекта было уже решенным делом императора, напрасно он ускорял свои шаги; страшная тень не отставала от него и постоянно нашептывала ему последние слова приговоренного:
– Близок час возмездия!
Глава V
Жертва
На дороге из катакомб домой Валерия присоединилась к Ирине. Та тоже с величайшей радостью узнала о превращении, которое совершалось в Руфине, и обе женщины обдумывали вместе, как поступить, чтобы растение, пустившее отростки веры, могло развиваться в тиши, безмятежно защищенное от уличной пыли общественной жизни и всепоглощающих забот и занятий службой.
Разговаривая таким образом, обе женщины перешли мост и достигли Транстиберинского квартала, который был в то время, как и теперь, населен преимущественно беднейшим классом. По некоторым улицам с трудом отважился бы пройти патриций, а тем более приличная дама; однако обе женщины были желанными для тамошних бедняков; с уважением и любовью приветствовали их со всех сторон.
Могильщик Минций жил со своей супругой Рустикой и слепой матерью в убогом жилище, но все там было чисто и опрятно. Приветливо смотрело солнце через окно, перед которым стояли цветущие астры, и на растущих впереди кустах поспевали красные райские яблоки. Ворон, которого Минций выучил говорить, повторял время от времени:
– Здравствуй, Рустика! Добрый день, Рустика!
Роженица сидела уже у ткацкого станка и умелой рукой перебрасывала челнок через нитку; возле нее в люльке дремал грудной ребенок. Слепая мать пряла, выделывая из прялки пальцами правой руки нитки, и намотанный на веретено клубок ниток опускался вниз и подымался вверх в непрерывном кругообразном движении: она работала с такой уверенностью и проворством, что нельзя было заметить ее слепоты.
– Я целых четыре дня ленилась, – сказала Рустика улыбаясь, когда Ирина упрекала ее в еще утомительной теперь для нее работе у ткацкого станка, – я должна это наверстать. Когда я устаю, то смотрю на этого маленького балагура в люльке: тогда я думаю, что сижу в Вифлееме у ясель, в которых лежало такое же дитя – бывшее Богом, и как сладка тогда работа.
Молодая женщина оставила на минуту работу и устремила с матерински-радостной улыбкой темные выразительные глаза на спящего младенца.
– Я положила, – продолжала Рустика в благочестивой словоохотливости вследствие своего счастья, – моего первенца мысленно у подножия ясель и просила Пречистую Матерь Марию обращать иногда на него милостивый взгляд: ведь он должен запечатлеться в молодом сердце, как священная печать. И Иосиф, охранявший так верно божественное дитя, будет охранять и моего младенца.
С этими словами Рустика отбросила от изголовья покрывало и показала обеим женщинам со счастливой улыбкой картиночку, которая была приклеена на задней стороне люльки у изголовья ребенка и изображала пещеру в Вифлееме.
Эта трогательная сцена была прервана приходом Минция. Увидев Валерию, он остолбенел и переменился в лице. После краткого размышления он отозвал обеих женщин в сторону и сказал в замешательстве:
– Мне кажется, благородная Валерия, что твой отец желает твоего скорого возвращения домой.
– Мой отец? – спросила девушка, бледнея. – Менее как за полчаса мы простились с ним у Палатина. Говори, что с ним случилось?
– Один из твоих слуг, – сказал могильщик уклончиво, – встретил меня на улице и спросил, не знаю ли я, где его госпожа. Из этого я заключил, что тебя ищут.
Загадочный ответ побудил обеих женщин скорее распроститься. Поспешно зашагали они вниз по улице; озабоченно и с участием смотрел им вслед Минций, проводивший их на улицу.
– Бедная молодая госпожа, – говорил он сам с собою, – да пошлет тебе небо силы снести тяжелый крест, который оно возлагает на твои слабые плечи!
Минций, который с работы проходил по дороге домой через форум, был свидетелем увода Руфина в Мамертинскую тюрьму; с боязливой заботливостью искали слуги его дочь.
Кто может описать горе Валерии, когда она, входя в дом, узнала о новом ужасном происшествии! Несколько минут стояла она без движения и как бы окаменев, и, если бы Ирина не стояла возле нее и не притянула ее, утешая, к своей груди, она бы наверняка упала. Быть брошенным в тюрьму Максенцием, значило быть приговоренным к смерти, – вчера потеряла мать, сегодня потерять отца: могло ли ее постигнуть испытание тяжелее этого?
А если Руфин должен умереть, прежде чем сделается христианином! После долгих лет сопротивления сделал он наконец первый шаг к вратам исцеления: неужели смерть сломает мост, прежде чем он перейдет его?
Желание спасти отца, или, по крайней мере, спасти его душу, чего бы это ни стоило, было теперь единственной мечтой Валерии и даровало ей почти неестественную силу.
Ирина посоветовала ей прежде всего попытаться войти в тюрьму, подкупив сторожа.
Девушка наполнила кошелек золотыми монетами, и обе женщины поспешили через форум в Мамертинскую тюрьму.
Однако, как они ни просили, как ни умоляли, что бы ни предлагали, тюремный смотритель был непоколебим из боязни к Ираклию. Наконец он снизошел до совета.
– Обратись к Ираклию, префекту канцелярии императора. Только с его позволения я впущу тебя к заточенному, хотя, – прибавил он не без сожаления к молодой девушке, – для тебя самой было бы лучше не идти к нему.
При имени Ираклия Ирина испустила невольный вздох. На этого человека Валерия не могла много рассчитывать.
– Знаешь ли ты этого префекта канцелярии, Ираклия? – спросила девушка по пути матрону.
– К несчастью, я его слишком хорошо знаю, – ответила Ирина озабоченно. – Это не кто другой, как тот бездушный, который два года тому назад стоял во главе отпавших от веры во время преследования Диоклетиана, чтобы вынудить епископа Евсевия опять принять его, однако без предварительного покаяния, в лоно церкви. Ты знаешь, как они даже с вооруженной силой вторглись в церковное собрание и осквернили дом Божий братской кровью.
– Но, – спросила Валерия, – разве император не изгнал его вместе со святым отцом из Рима?
– Конечно, однако такой человек был очень нужен Максенцию, и он смиловался над ним через некоторое время, пригласил его в свою тайную канцелярию и несколько недель тому назад сделал его префектом оной.
Как ни естественно было отвращение, которое почувствовало благочестивое сердце Валерии к этому апостату, ей все-таки не было другого исхода, как обратиться к нему. Если Ираклий имеет такое большое влияние на императора, то одного его слова было бы достаточно, чтобы спасти ей отца, и она довольно доверяла своей детской любви и красноречию, чтобы просьбой и слезами смягчить этого человека. Ни она, ни Ирина не знали о той глубокой ненависти, которую питал царедворец к префекту города; обе не подозревали, что заточение Руфина было в то же время и местью Ираклия.
Девушка дошла, провожаемая Ириной, до его жилища, находившегося во флигеле императорского дворца, и вошла в дом одна.
– Могу ли я видеть благородного Ираклия, префекта канцелярии императора? – спросила она привратника.
Привратник окинул ее важно сверху донизу и после короткой нерешимости ответил:
– Господин приказал никого не впускать к себе.
– Но мне нужно с ним говорить, – возразила настойчиво Валерия. – Прошу тебя, доложи ему обо мне.
Раб пожал плечами, не возражая ни слова, и облокотился небрежно о колонну входной двери.
Валерия вынула несколько золотых монет, и звук последних подействовал.
– Ты хотела говорить с моим господином, благородная госпожа, не правда ли? – спросил, сделавшийся вдруг вежливым, привратник, тогда как ловким движением одной руки взял предложенное ему золото. – Я провожу тебя к его сыну Сабину; попытайся, может быть, тебе удастся склонить его проводить тебя к отцу. Вон он стоит в передней с друзьями.
Робко приблизилась молодая девушка к группе молодых людей, которые в веселом расположении духа шутили и смеялись. На ее вопрос представился ей щегольски одетый и напомаженный юноша, в котором Валерия тотчас же узнала молодого человека, нарушившего в прошлую ночь таким надменным образом похоронное шествие. Вежливо кланяясь, Сабин спросил, чего желает госпожа.
Молодая девушка объяснила ему коротко, что она дочь городского префекта Руфина и по очень важному делу желает говорить с префектом императорской канцелярии.
– Так, значит, та мужественная дама, которая вонзила себе кинжал, твоя мать? – спросил Сабин. – Уже только ради интереса к этой новой Лукреции я охотно исполню желание ее прекрасной дочери. Правда, теперь не приемный час, однако отец сделает для тебя исключение.
Валерия была совершенно поглощена мыслью спасти своего отца; она только одно слышала из слов молодого человека: участие к ней и желание исполнить ее просьбу.
Довольная, что может удалиться из круга юношей, дерзкие взгляды которых возмущали ее сердце, последовала она за Сабином и через несколько минут стояла уже перед Ираклием.
Этому человеку было далеко за пятьдесят лет, сухое лицо его с маленькими проницательными глазами, тонкими губами и опущенными углами рта не имело ничего, что могло бы обнадежить Валерию.
Сабин представил молодую даму своему отцу и отошел на несколько шагов назад, любопытствуя, что привело дочь префекта города, строгая красота которой поразила его с первого взгляда, в его дом.
Валерия собралась с духом.
– Прости мне, благородный господин, – сказала она, – что я осмеливаюсь беспокоить тебя просьбой.
– Ты мне действительно очень мешаешь в моей работе, – ответил, угрюмо поворачивая голову, префект. Занят же он был размышлением, каких бы патрициев втянуть в вымышленный заговор Руфина: кто же мог более некстати помешать ему, как не дочь человека, который сегодня, в третий раз, его так чувствительно оскорбил? Голос совести, пробужденный угрозой префекта города, к счастью, удалось Ираклию заставить замолчать.
– Жизнь моего отца, благородный Ираклий, – продолжала девушка, – находится в твоих руках, ты можешь его спасти, если захочешь.
И Валерия начала так трогательно уверять в невиновности своего отца, просила так сердечно, так пламенно за его жизнь, что ее слова, как она думала, должны были смягчить камень. Даже Сабин, бывший скорее легкомысленным, чем нравственно испорченным, не мог скрыть своего к ней участия, когда Валерия бросилась наконец в ноги префекту, обняла его колени и со всем пламенем любви своего детского сердца взывала к жестокому человеку.
Однако тот делал вид, что совсем не обращает на нее внимания, и, когда ее настойчивая просьба наконец рассердила его, сказал с леденящим холодом, который мог лишить всякой надежды:
– Знай, что слезы женщин не имеют значения на весах справедливости. Итак, не мешай мне больше!
С глубоким вздохом отпустила Валерия колени префекта, поднялась с земли и направилась с опущенной головой и разбитым сердцем к дверям.
Сабин последовал за ней.
– Клянусь Юпитером, – сказал он, когда они остались одни, – старик дерзко выпроводил тебя. Однако, если бы ты принесла ему столько золотых монет, сколько слез, то будь я бегемотом, если он не позволил бы тебе, по крайней мере, навестить твоего отца в темнице!
– При мне есть кошелек с золотыми монетами, – сказала Валерия, краснея. – Смею ли я просить тебя вымолить для меня хотя эту милость у твоего отца?
Сабин подумал несколько минут, потом жадно схватил кошелек и, спрятав его за пазуху, ответил:
– Теперь мой отец не в таком настроении, чтобы я смел обращаться к нему с просьбой, но все-таки, я сам провожу тебя к тюрьме и постараюсь, чтобы тебя впустили к заключенному. После я уплачу своему отцу за мой поступок твоим подарком.
Валерия поблагодарила молодого человека с радостным возбуждением, она подавила подозрение, которое невольно возбудила в ней жадность, с какой Сабин схватил кошелек.
В передней обменялся сын префекта канцелярии несколькими словами со своими товарищами, встретившими его сообщение диким хохотом, потом пошел рядом с молодой девушкой через улицу Палатина к большой прекрасной лестнице, спускавшейся к форуму, и повел ее мимо выстроенной Цезарем базилики Юлии к Мамертинской тюрьме, находившейся у подножия Капитолия.
Дорогой он старался с вежливостью занимать Валерию и утешать ее надеждой, что на суде, наверно, выявится невиновность ее отца. Чтобы рассеять ее печаль, он рассказывал ей о своей поездке в Египет и о своем там пребывании: выразил удивление, что никогда не встречал ее на праздниках при дворе и в гостиных аристократии. И нашел невыносимым для молодой девушки увядать в теплице строжайшего уединения.
Валерия, занятая только мыслью и заботой об отце, едва следила за нитью разговора, она должна была собраться с силой, чтобы не ответить неприветливо на льстивые вопросы того, в чьих руках находилось исполнение ее заветнейшего желания.
Так как тюремный смотритель знал сына префекта канцелярии, то ничуть не задумался отвести Валерию по мнимому приказанию Ираклия к ее отцу для получасового разговора.
Редкая красота Валерии, ее печаль о судьбе отца после трагической смерти матери, теплота, с которой она благодарила его при прощании, пробудили в Сабине необычное участие к молодой девушке, и на обратном пути его преследовали различные мысли.
Он прошлой весной окончил курс в университете в Александрии, в Египте, и возвратился в Рим не за тем, чтобы посвятить себя серьезному стремлению к службе государства, как предполагал его отец, но чтобы получить в главном городе света полное удовлетворение в радостях и наслаждениях, которые Александрия доставила ему только наполовину. Между блестящей молодежью Рима сын богатого царедворца нашел скоро друзей, с которыми проводил ночи, играя в кости и в попойках. Таким образом, вследствие мотовства он был уже давно в натянутых отношениях с отцом и охотно развязался бы как можно скорее с родительским домом. Теперь в образе Валерии ему, казалось, улыбалось счастье. Разве было бы слишком дорого для Руфина ценой ее руки возвратить себе жизнь, должность и все богатства? И разве ему самому представлялась когда-нибудь более блестящая партия? Во власти его отца спасти заключенного, и Сабин надеялся при помощи своей матери заставить его ходатайствовать у императора в этом направлении. О неприятной встрече в прошлую ночь он больше ни разу не вспоминал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?