Текст книги "День шестой"
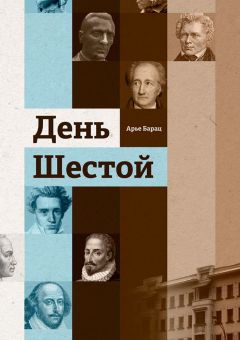
Автор книги: Арье Барац
Жанр: Общая психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Жорж капризничал и умолял Геккерна сделать хоть что-то. Но, что? Как сломить сопротивление строптивой красотки?
Геккерн согласился с тем, что ее можно попробовать припугнуть ревностью Пушкина, однако, сам предпочел другое: применив весь свой отцовский авторитет, предложить Наталье Николаевне серьезные отношения – развод с Пушкиным и брак с Жоржем.
– Пойми ты, – внушал барон своему любовнику. – Не важно, чем все это закончится на самом деле, важно прямо сейчас уложить ее с тобой в постель. Я боюсь за тебя, мой мальчик. Ты в ужасном состоянии.
– Ты прав, ты, как всегда, бесконечно прав. Если она не уступила до сих пор, то значит нужны новые неординарные средства, нужны неожиданные ходы. Я сделаю ей предложение!
– Нет, нет. В твоих устах это прозвучит как безумная фантазия, как жалкая истерика. Твоим предложением ее должен ошарашить я – умудренный опытом дипломат. Попытаюсь внушить ей, что брак между вами не только возможен, но и совершенно необходим для вас обоих. Надеюсь, это что-то изменит, и вот тогда уже на арену можешь выходить ты.
Теперь Геккерну оставалось только подыскать подходящий момент и подходящее место для своего плана.
* * *
В тот же день поутру Пушкин стал писать письмо Чаадаеву. Накануне он получил от него номер «Телескопа» с «Философическими письмами». С работой этой во французском оригинале он был знаком уже много лет, и уже много с Чаадаевым на эту тему спорил. Но на издание статьи счел своим долгом ответить письменно:
«Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что Схизма отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех…
Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератор – я раздражен, как человек с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал…
Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление. Надеюсь, что ее не будут раздувать».
Однако надежда была слабой, и посылать это письмо Пушкин не решился. Кто знает, как оно может использоваться недругами Чаадаева. Лучше подождать пока все уляжется.
Положив письмо в ящик стола, Пушкин заторопился к Яковлеву. В половине пятого первый выпуск Царскосельского лицея собирался у него, чтобы отпраздновать свою 25-летнюю годовщину.
* * *
– Господа, читал ли кто-нибудь из вас в последнем «Телескопе» «Философические письма» Чаадаева? – поинтересовался Александр Сергеевич.
– Я не читал, – отозвался Данзас, – но как раз вчера слышал, как отзывается об этом сочинении Софья Карамзина. Она сказала, что ничего более злобного и лживого о России никогда не слышала. Даже любопытно стало. Непременно прочту.
– По-своему подход его последователен, но очень уж однобок… Ума только не приложу, как Чаадаев умудрился цензуру обойти?
Подошли Корф и Иличевский. Началось застолье, сопровождавшееся чтением письма Кюхельбекера, отбывавшего ссылку в Иркутской губернии, в городке Баргузин. Всеобщую радость вызвало известие о его помолвке.
Потом из архива Яковлева были извлечены протоколы и стихотворения, посвященные прежним встречам выпускников.
– Когда мы праздновали 20-летие, то помнится шестерых из нас не досчитались, – заметил хозяин дома. – Александр Сергеевич это даже в своем посвящении отметил, до которого мы, наконец-то, добрались. Вот слушайте.
Яковлев стал читать:
«Шесть мест упраздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле,
Они разбросанные спят —
Кто здесь, кто там на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой,
И надо всеми мы рыдали.
И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой»
Обращаю внимание присутствующих, на то, что все мы, включая Александра Сергеевича, до сих пор, слава Богу, живы. Наши заздравные тосты явно помогают… И сейчас я предлагаю всем выпить за здравие Кюхельбекера и прочих отсутствующих братьев.
Все выпили шампанского.
– Ах, Дельвиг, Дельвиг, – произнес Данзас. – Помните, что он сказал, когда после лицея надел очки? —
– Нет! – разом ответило несколько голосов.
– Вот пусть Александр Сергеевич расскажет, я от него слышал.
Все посмотрели на Пушкина.
– Он сказал приблизительно так: в Лицее мне запрещали носить очки, зато все женщины казались мне прекрасными. Как же я разочаровался в них после выпуска…
– Знал бы он в ту минуту, каких степеней достигнет это его разочарование, – пробормотал Иличевский.
– Да уж, – согласился Яковлев. – С женой ему не повезло даже в большей мере, чем с третьим отделением.
– А что не так с его женой? – удивился Данзас. – Я кажется, что-то пропустил?
– Тебя не удивило, что уже через несколько месяцев после смерти Дельвига его Софья вышла замуж за брата Баратынского? – поинтересовался Иличевский.
– Положим, удивило. Но засчитать это за невезение в браке, извините.
– Ты, видимо, не знаешь всего. Вернувшись домой после разговора с Бенкердорфом, Дельвиг застал их вместе. То есть увидел свою Софью в объятиях Баратынского… Антона в тот день сразили две беды, а не одна. От одной он, может быть, еще и оправился бы, но двух не потянул.
Пушкин помрачнел.
20 октября (1 ноября)
Франкфурт
В этот день Мельгунов снова явился в библиотеку к самому открытию. Вчера он исследовал жизни Сервантеса и Шекспира, сегодня ему предстояло разобраться в судьбе того, кого Шеллинг назвал «первосвященником нового искусства», в судьбе Данте!
Обложившись несколькими биографиями поэта, в том числе «Жизнью Данте» Боккаччо, Николай Александрович начал свое исследование, вращающееся вокруг 1295 года.
Картина довольно скоро вырисовалась следующая.
Родился Данте в 1265 году. В восемнадцать лет он повстречал замужнюю женщину по имени Беатриче, которая в тот же миг стала «владычицей его помыслов». Оставалась она таковой и после своей смерти, настигшей ее в 1290 году. Через год Данте описал свою любовь в «Новой жизни», представив смерть Матроны как космическую катастрофу. Через некоторое время по настоянию родных он женился на Джемме Донати, однако через несколько лет оставил ее, и как свидетельствует Боккаччо, «уже никогда к ней не возвращался и, где бы ни находился, не допускал ее к себе, хотя прижил с ней несколько детей».
В 1307 году Данте начал писать «Божественную комедию», в которой Беатриче оказалась главной героиней.
Сам Данте относил свое видение, описанное в «Божественной комедии», к 1300 год. Однако, как понял Николай Александрович, вовсе не эта дата явилась для него переломной. Все говорило о том, что именно 1295 год фигурировал в жизни Данте как год роковой, как год, определивший всю его дальнейшую судьбу – судьбу человека и судьбу поэта.
Выяснилось, что в марте этого года во Флоренции поднялась смута, продолжавшаяся до середины лета, а что осенью Данте впервые вступил на политическое поприще.
Николаю Александровичу живо представилась картина начавшихся во Флоренции беспорядков. И на Пасху, и в день Св. Вальпургия смута была в разгаре, а значит, как раз в эти дни скромный флорентийский фармацевт решался, не взять ли ему ответственность за судьбу города, не пойти ли ему в политику?
После завершения беспорядков – 1 ноября 1295 года Данте принял пост одного из старейшин города. Сам Поэт связывает «начало всех своих бедствий» с облюбованным им для загробных странствий 1300 годом, годом в который он вступил в должность Приора. Однако Данте продолжал занимать этот пост еще почти два года. Только в 1302 году он был изгнан из Флоренции, и даже заочно приговорен к смерти. Таким образом, началом дантовских бедствий следовало признать дату его вступления в общественную жизнь, а не какой-то промежуточный этап политической карьеры.
– Все верно, – размышлял Мельгунов, массируя утомленные от долгого чтения глаза. – Подтверждается, что Мировой дух – это дух Евангельский. Царствие мое не от мира сего! «Одиссея мирового духа» развивается по Шеллингу, а не по Гегелю, она совершается не столько в политике, сколько в искусстве.
21 октября (2 ноября)
Петербург
С раннего утра в голове государя зудел мучительный вопрос: что делать с Чаадаевым? Ну что с ним делать?
Надо было принимать решение. Самое простое – отдать под суд – и в Сибирь. Или может быть, как советует Уваров, предать богохульника церкви, сослать в монастырь, в Соловки и держать там на воде и хлебе пока ум не просветлеет?!
Вчера, потратив на чтение «Философических Писем» почти час своего драгоценного царского времени, Николай I склонялся именно к этому решению.
Он читал и не верил своим глазам. Откуда, каким образом может забрести в человеческую голову такая нелепица, такой немыслимый вздор? Ну вот хотя бы это: «Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его современному состоянию, на нас не оказали никакого действия».
– Как можно сказать о России такой вздор? О России, единственной стране направляющей к порядку все человечество! —
Выводило государя из себя и другое: ужасающая нерасторопность Третьего отделения. В Москве уже почти целый месяц люди с пеной у рта спорят о дерзкой статье, но на столе самодержца она – стыдно сказать – оказалась только 20 октября!
Сочинитель должен сурово поплатиться. Уж он придумает для него подобающее наказание.
Государь поднялся и стал расхаживать по кабинету. Немного успокоившись, он вновь заглянул в «Письма»:
«Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили».
– Ну нет, – заключил государь, – это писанина – чистой воды безумие. Тут хлеб и вода не помогут! Это надо лечить! А журналистов и цензоров накажем примерно.
И Николай I «положил» свою резолюцию:
«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу».
Предвещая, что «Телескоп» будет закрыт к 20 октября, Андросов ошибся лишь на один день. Относительно предсказания судеб издателя и цензора погрешность также оказалась невелика.
Франкфурт
В это же утро Николай Александрович получил письмо от Мадонны. Она предлагала встретиться у дома Гете вечером в четыре часа.
Весь день прошел в необычайном волнении. Николай Александрович не мог сосредоточиться ни над книгами, ни над собственными очерками, которые готовил для «Московского наблюдателя». По счастью, дождя не было, и можно было просто в свое удовольствие бродить по Франкфурту.
На Гроссер-Хиршграбен Мельгунов пришел за 10 минут до назначенного времени и стал прохаживаться перед домом. Регина пришла ровно в четыре, и одарив Николая Александровича своей очаровательной улыбкой, ввела его внутрь.
Они поднялись на четвертый этаж. Регина открыла одну из комнат имевшимся у нее ключом, и они вошли.
– Вот она – комната Гете, – пояснила девушка. – Сейчас ее снимает одна вдова, которая дает мне ключи, когда уезжает, и вот как раз она уехала.
В небольшой комнате находились круглый стол, три стула, небольшой буфет, комод и кровать. На стенах висели три старинные гравюры.
– Вещей Гете, здесь, конечно, не осталось, – пояснила Мадонна. – Но комната его. Это точно. Садитесь. Переживайте.
Мельгунов уселся, с трепетом обводя взором стены.
– Я очень люблю здесь бывать, – продолжала девушка. – Я ездила в Веймар. Там все превращено в музей, и возникает какое-то отстранение, а здесь ты как будто у Гете в гостях. Вы со мной согласны? Ведь вы тоже были в этом музее в Веймаре.
– Как вы знаете?
– Я видела вас там этим летом. Я проезжала в экипаже мимо гостиницы Слона, а вы как раз выходили…
Мельгунов был ошеломлен.
– Но как вы меня узнали? Как запомнили?
– Вы приметный, крупный. Я хорошо запомнила вас, когда мы столкнулись с вами перед этим домом…
– А еще раньше мы встречались?
– Да, на Пасху, в Соборе святого Варфоломея.
– Невероятно. Так оно и было! Итак, Пасхальную ночь вы встретили в соборе святого Варфоломея, а где вы провели Вальпургиеву? Не здесь ли случайно?
Теперь пришел черед удивиться Мадонне.
– Как вы знаете? Я действительно была здесь. Вдова как раз уехала на неделю, и я пришла сюда ближе к ночи… Пробовала читать «Фауста», но не смогла. Слишком страшно было. Но как вы меня заметили?
– Я не заметил, хотя, признаться, был тут совсем неподалеку. Я просто догадался. Вы ведь очень необыкновенная девушка, а значит, если Пасху 1836 года от рождества Христова вы провели в Соборе, то Вальпургиеву ночь этого года вы непременно должны были провести здесь!
– Признаться, я не вижу связи. И при чем здесь 1836 год?
– В этом году совершался небывалый парад светил, в этом году Пасхальная ночь оказалась приурочена к Вальпургиевой.
– Вот как? И что это значит?
– Это значит, что в этом году Вальпургиева ночь выглядела так же, как и Пасхальная. Обе эти ночи приходились на воскресенье и были полнолунными.
– Так, так, – протянула Мадонна, приподнимая брови. – Ну и что с того?
– Пока я и сам толком не знаю – что. Тем не менее, я уже подметил, что для великих мастеров эти даты оказываются судьбоносными. Таким годом был 1768 год, когда Гете как раз смертельно заболел и лечился в этой комнате с помощью герметики, и когда он впервые пришел к теме «Фауста»…
И Мельгунов стал рассказывать Мадонне об идее Шеллинга и о том, как отметились эти года в судьбах Данте, Шекспира, Сервантеса и Гете.
Девушка слушала рассеяно, время от времени обеспокоенно вглядываясь в разгоряченное лицо Мельгунова. Похоже, что увлеченность ее собеседника всевозможными совпадениями казалась ей не очень оправданной.
– Действительно необычно, что Шекспир и Сервантес умерли в один день, – согласилась она. – Но что в этом такого судьбоносного для Одиссеи мирового духа? Вам не кажется, что со смертью эти писатели как раз прекратили свои творческие поиски и перестали оказывать какое-либо влияние на мир?
– Верно, в этом плане подобие Пасхальной и Вальпургиевой ночей на их творчество влияния не оказало, но я понимаю это так, что этим совпадением Мировой Дух как бы отдал им честь.
– Отдал честь? – кисло усмехнулась Регина.
– Ну, не знаю. Я до конца не продумал еще этот вопрос. Но случается, кстати, и наоборот. Например, с Джордано Бруно. Вы только послушайте: в 18-летнем возрасте он принял постриг и почти сразу стал увлекаться крамольными идеями, даже удалил из своей кельи статуи святых. Но в то же время он делал такие феноменальные успехи в учебе, что в 20-летнем возрасте его представили папе Пию V как самого перспективного юношу, чуть ли не как будущего Понтифика! Это случилось как раз в 1569 году…
– Я уже ничего не понимаю. Вы говорите о каких-то карьерных взлетах?
– Нет, что вы. Я лишь хочу заметить, что в том году церковь сделала на Бруно ставку, и только поэтому отомстила ему впоследствии. После разрыва с церковью в 1576 году, Бруно 16 лет скитался по Европе, где свободно проповедовал свою «религию Разума». В 1592 году он прибыл в Венецианскую республику, где ему также ничего не угрожало. Но Рим оказал давление на Венецию и заполучил крамольного философа. Семь лет инквизиция безуспешно добивалась от Бруно отречения от своей ереси, но в конце концов сожгла его так и «нераскаявшимся», в 1600 году… Вот и выходит, что Бруно повстречался с собственной смертью в 1569 году.
– Я не понимаю. Я не понимаю, как могут влиять на творчество и судьбы великих людей какие-то календарные совпадения. Это мне кажется по существу невозможным.
Мельгунов смутился. Возникло неловкое молчание.
– Но мы что-то тут с вами засиделись, – спохватилась Регина. – Пора уже.
– Я могу вас проводить? – робко спросил Мельгунов, когда они вышли на улицу.
– Нет, спасибо, – ответила девушка после некоторого колебания.
– В любом случае, спасибо вам за этот вечер. Я никогда его не забуду.
В ответ Регина улыбнулась Николаю Александровичу, но как ему показалось, как-то снисходительно.
Она привела в свое святилище не того человека, и теперь стыдится своей ошибки, – с горечью подумал Мельгунов, глядя вслед удаляющейся от него стройной фигурке.
24 октября (7 ноября)
Петербург
Все тщательно продумав, Геккерн стал каждый вечер появляться в доме Карамзиных, пока, наконец, не застал там Наталью Николаевну без сопровождения мужа.
Улучив момент, барон отозвал ее в сторону и вкрадчиво заговорил:
– Дорогая Наталья Николаевна. Мой сын болен, он уже пять дней как освобожден от службы и пребывает в очень скверном состоянии духа. Я серьезно опасаюсь за его жизнь. Но главное, я вижу, что он что-то скрывает от меня, чего бы я хотел у вас выяснить.
– Что именно вас смущает?
– Он что-то не договаривает, и я весьма опасаюсь за него. Вчера я видел вашего супруга, он не ответил мне на поклон, был явно не в себе. Я невольно связал эти обстоятельства и испугался, не могло ли между Жоржем и Александром Сергеевичем произойти какое-то столкновение? Я, признаться, очень опасаюсь.
– Мне об этом ничего не известно, барон.
– Уже и то хорошо. Я бы хотел сказать вам еще кое-что… Не мне вам рассказывать, как мой сын глубоко почитает и любит вас. Ваши чувства к нему для меня также не секрет. Но почему бы тогда не попробовать расторгнуть ваш нынешний брак и не вступить в новый?
– Мне кажется, вы еще более больны, чем ваш сын, – вспыхнула Пушкина. – Это невозможно.
– Нет, это как раз очень даже возможно, Наталья Николаевна. Когда я решил усыновить Жоржа, многие говорили мне то же самое, но нет ничего невозможного для чистых и возвышенных чувств, для них открываются все двери. Навестите моего сына, скажите ему «да», и вы увидите, какие чудеса я сделаю для того, чтобы узаконить ваши отношения!
– Я не верю своим ушам…
– Жорж не может жить без вас… Это великое чувство заслуживает того, чтобы на него ответить всем сердцем. Подумайте, мадам.
– Я этого не сделаю, передайте это, наконец, и ему. При всех моих симпатиях, которые я действительно испытывала до последнего времени к вашему сыну, есть пределы. Если общение со мной причиняет ему такие страдания, то его следует избегать… Передайте вашему сыну, что если все это будет продолжаться, я откажу ему в доме.
– Наталия Николаевна, вы делаете серьезную ошибку…
29 октября (10 ноября)
Москва
Рано утром слуга Петра Яковлевича Чаадаева доложил, что в дом пожаловали жандармы.
Подполковник Бегичев и полицмейстер полковник Брянчанинов представились хозяину и предъявили высочайший приказ об обыске и изъятии бумаг.
Чаадаев, конечно, был готов к такому повороту событий. Собственно большей крамолы, чем «Философические письма», в его доме не водилось, но кое-какие письма его близких друзей, содержащие неосторожные политические реплики, благоразумно вернул им заранее.
Жандармы забрали все оставшиеся в доме письма, все рукописные материалы, несколько книг. Зачем-то прихватили Брюлловский портрет Александра Ивановича Тургенева.
Заметив, что один из ящиков оказался доверху набит «Московскими Ведомостями», Чаадаев сухо заметил:
– Господа, вы явно переусердствовали, эти газеты – не бумаги, а бумага.
Уже не первый раз в его жизни власти бесцеремонно копались в его вещах. Как и прежде, были изъяты все рабочие материалы, так что он оказался не в состоянии продолжить свои заметки. Во время обысков Чаадаев всегда держался достойно, достойно он выглядел и на этот раз.
Однако, когда жандармы покинули его дом, Чаадаев неожиданно для себя ощутил тревогу и беспокойство, решительно выведшие его из равновесия. Что его ждет? Страх оказаться до конца дней в Сибири медленно вползал в его душу.
Часа два Чаадаев вспоминал, что было писано в изъятых у него статьях, и пришел к выводу, что в некоторых из них можно было отыскать даже и какие-то оправдывающие его моменты. Но под лежачий камень вода не течет – ему следует проявить усердие, выказать знаки сотрудничества.
У писца и у еще одной дамы оставались экземпляры нескольких не изъятых у него при обыске статей. Надобно немедленно послать Ивана Яковлевича забрать эти статьи, чтобы самому передать их властям. Надо торопиться, надо успеть выказать себя законопослушным гражданином, прежде чем государь вынесет свой приговор!
Копенгаген
Этот долгий субботний день начался для Кьеркегора со свадебного завтрака одного из его знакомых.
На этом завтраке Сёрен, его ближайший друг Эмиль Безени, еще три неизвестных ему господина оказались за одним столом с Гансом Христианом Андерсеном, автором романа «Импровизатор» и, как недавно выяснилось, еще и оригинальным сказочником.
Кьеркегору этот писатель был не по душе: уже давно обласканный датской аристократией, но упорно не желающий распроститься со своим образом обиженного судьбой нищего мальчугана, он казался ему пустым и самовлюбленным. Его же новый «почти законченный» роман «Всего лишь скрипач», о котором Андерсен стал всем громко рассказывать, Кьеркегор заранее невзлюбил.
Сёрен с облегчением вздохнул, когда разговор как-то перескочил на роман Мюссе «Исповедь сына века».
– Мне кажется, ключевая сцена этого романа, – сказал Эмиль, – это сцена, в которой Бригитта в первый раз отказывает Октаву под предлогом того, что тот желает ею обладать, а это ни к чему хорошему привести не может. Все дальнейшее описание является просто доказательством этого тезиса. Но от чего это в самом деле так получается?
– Я не понимаю вопроса, – удивился незнакомый Сёрену собеседник. – Известно, что в этом романе Мюссе описал историю свой любви к Жорж Санд. И, как мы видим, целиком свою любовницу оправдывает. Так было.
– А я как раз не вижу особенного сходства между героем и автором, – заметил Андерсен. – Октав потому расстался с Бригиттой, что разочаровался в самой любви; потому что убедился в ее внутренней неосуществимости. Это действительно открытие нашего века… Но причина неуживчивости самого Мюссе с Жорж Санд совершенно в другом.
– В чем же?
– В том, что любовные утехи Мюссе познал раньше самой любви.
– Поясните.
– Видите ли, если мужчина в свежем возрасте начал с того, чем принято заканчивать, он постоянно потом стремится вернуться к исходному ощущению, и это, конечно, не может не портить его отношений с порядочными женщинами.
– Да с чего вы это взяли? С чего вы взяли, что Мюссе – именно такой случай?
– В пору их романа я как раз находился за границей, и волею случая знаю об этом достоверно. По понятным причинам я не могу назвать свои источники, но ручаюсь, что причина именно в этом. Мюссе начал с публичных женщин, а не перешел к ним из-за сердечных разочарований.
Если бы Андерсен назвал свои источники, его бы просто неправильно поняли.
Когда в четырнадцатилетнем возрасте он приехал в Копенгаген, то обнаружил, что его тетка Кристина, у которой он намеревался остановиться, содержит бордель! Позже он узнал, что проституцией занимается и его сводная сестра. С этими женщинами Андерсен никаких отношений не поддерживал, и квартал красных фонарей в Копенгагене тщательно обходил. Однако сама тема продажной любви занимала его.
Та страстность и экзальтированность, с которыми он пытался завязывать свои отношения с порядочными женщинами, их определенно пугали и отталкивали. Их привлекал Ганс – друг, даже Ганс – брат, но определенно не Ганс жених.
Как бы то ни было, путешествуя два года назад по Германии, Франции и Италии, Андерсен нанес немало – чисто платонических – визитов в бордели.
Томясь мечтой о любви, мечтой о близости с далекой женской душой, Андерсен видел эту душу как бы стоящую на другой стороне глубокого ущелья, к которому можно было перебраться лишь по одному узкому канатному мосту, которым являлось… ее тело. От сложности предприятия кружилась голова и замирало сердце. Что делать, он не родился акробатом!
Но в присутствии продажных женщин это головокружение проходило, напряжение спадало, и боль как будто смягчалась. Бездна исчезала, прочный гранитный мост женской прелести никуда не вел, но и не пугал; дверь открывалась внутрь, а не во вне, и, хотя тело писателя в эту минуту терзалось, душа успокаивалась.
В Венеции одна из жриц любви была совершенно очарована 30-летним сказочником. Именно она рассказала Андерсену и о Мюссе, который периодически у нее появлялся, и об общей особенности мужской сексуальности, заключающейся в неискоренимом желании вернуться к первому, остро пережитому ими в юности, или даже в отрочестве наслаждению.
Андерсен не стал вдаваться в эти подробности, однако убежденностью своего тона полностью покорил слушателей, которые вдруг заинтересовались, а не сообщали ли его источники такого рода подробности также и о других знаменитостях?
Андерсен смутился. Он заглядывал и в Парижские бордели, и действительно, кое что почерпнул и там. Сплетничать он не намеревался, однако не удержался.
– Что вам сказать? От других еще может быть, но от Стендаля я этого не ожидал.
Прозвучало это столь многозначительно, что и Кьеркегор оказался поражен этим известием. Как? Автор мудрого и глубокого исследования «О Любви» посещает бордели? Возможно ли такое?
Мучимый схожими с Андерсеном томлениями, Кьеркегор в отличие от Андерсена с публичными женщинами никогда не заговаривал. Но иногда он все же с великим трепетом – заслуживающим куда лучшего применения – проходил по улице Остергаде. Раз за разом все глубже осознавая неосуществимость любви, Кьеркегор, как и Андерсен, испытывал волнующее облегчение при виде доступной женской плоти, облегчение от самой возможности запросто к ней прикоснуться.
С обострения этого переживания и начался этот злополучный для Сёрена день.
* * *
Верный своему решению сблизиться с отцом и отдаляться от пустого общения, Сёрен в этот день все же оказался увлечен своими прежними легкомысленными товарищами, и после свадебного завтрака отправился с ними пить пиво.
Во второй половине дня компанию занесло в портовой ресторан, где было немало иностранцев – в основном офицеров с заходивших в Копенгаген кораблей.
От одного французского офицера, подсевшего к их столу, до Кьеркегора донеслось следующее откровение:
– В любви женщины играют всеми цветами радуги. Наши мужские чувства черно-белые. Нам тяжко, в те минуты, когда мы не обладаем женщиной, и легко – когда это происходит. Однако простота нашего устройства не должна нас обманывать, мы не должны воображать, будто бы женщины испытывают хоть что-нибудь похожее. Женщины испытывают гамму чувств. Именно гамму, то есть семь последовательных ощущений. Женщина способна испытывать радугу чувств.
Когда женщину берут грубой силой, она протестует и окрашивается в красный цвет. Если она уступает психологическому напору, то цвет ее ощущений оранжевый. Когда муж вяло тискает ее на супружеском ложе, она желтеет. Таков обычный цвет замужних женщин. Когда ласки мужчины становятся женщине приятны, и путь открывается, она зеленеет, ей становится интересно все, что мужчина с ней делает. Наконец, когда она сама оживает и идет навстречу мужчине, то ее цвет голубой. Можно сказать, что в пике наслаждения она становится синей. Однако пик этот способен заостриться и тогда она входит в фиолетовое состояние. Редкие женщины его достигают, но в этом состоянии они очень желанны мужчинам. Я знаю, что многие, как это описывает маркиз Де Сад, предпочитают овладевать женщинами в красном состоянии, но мне самому это представляется низким. Если кому-то интересны фиолетовые девушки, я могу дать свои рекомендации. В Копенгагене их очень немного, но они есть.
Слова француза произвели впечатление, и друзья Кьеркегора заторопились в бордель.
Охмелевший Кьеркегор также воспламенился речами французского гостя, он испытал острое желание, и главное, определенную готовность его удовлетворить. Этим редким моментом захваченности жизненным потоком следовало воспользоваться.
Не то чтобы Сёрен действительно потерял голову. Он ни одной минуты не переставал сознавать неприемлемость самого этого шага, но он решил, что в свете всего услышанного сегодня, в силу пришедшего порыва, он готов простить себе это приключение, готов вкусить этот плод, игнорируя привычный свой голос. В конце концов ведь сам он появился на свет в результате уступки такому зову. Стоит ли быть к себе столь суровым и строгим? Если он извинил отца, то может извинить и себя.
Желая поддержать свое приподнятое состояние, Сёрен глотнул бокал рома и полез в набитый экипаж, отправлявшийся на улицу Остергаде.
30 октября (11 ноября)
Копенгаген
Бокал оказался лишним. На другой день Сёрен проснулся в своей постели с раскалывающейся головой и характерным желанием уйти из жизни. Сразу сделалось тошно. Но по-настоящему Сёрена затошнило, когда он не просто вспомнил, что побывал накануне в борделе, но и то, что это была единственная припомнившаяся деталь. В его памяти, хотя и с небольшими провалами, сохранилось все, что происходило в ресторане: он помнил французского гостя и его экскурс в природу женской чувственности. Но то, что произошло в самом борделе, выпало у него из памяти целиком. Всплывали какие-то обрывки: как он вывалился из экипажа, как вошел в один из домов, мимо которого изредка с трепетом проходил, но заглянуть в который прежде так никогда и не решался. Напрягаясь, он вспомнил, как покачиваясь и хватаясь за перила, поднимался по лестнице. Вспомнил склонившиеся над ним насмехающиеся женские лица; вспомнил какую-то постель с красными простынями. Это было все. Серен не смог вспомнить, совершил ли он то, ради чего в том доме появился.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































