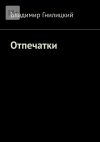Текст книги "Древняя история"

Автор книги: Аркадий Мурзашев
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Воины царя, противостоящего молодому Правителю, были готовы победить или умереть, потому, что за их спинами был весь привычный, впитанный с молоком матери, уклад жизни, с законами пусть и несправедливыми, но привычными, с жизнью, которая часто граничила с нищетой, но также была привычной и простой. Человек больше всего боится не физических лишений и смерти, а необходимости менять свои привычки и миропонимание. И часто, отстаивая одному ему понятные идеалы, он готов идти на смерть, хотя почти всегда на поверку эти идеалы оказываются чистой фикцией, игрой ума, придуманной для более легкого управления обществом, необходимость в котором всегда ощущали цари и правители.
Все это видел и знал путник, спрятавшийся в небольшом кустарнике, над оврагом, образованным ручейком, впадавшим в небольшую речушку, разделяющую две грозные армии. Воины одной армии были готовы умереть или победить, послушные стремительной воле своего молодого Правителя. Эту волю они не понимали, но смутно, в глубине души, знали, что за цель движет их полководцем и она, эта цель, в той же глубине души, была ими принята. Воины другой армии были готовы умереть или победить, нет, вернее будет сказать отстоять свои позиции и страну, для того, чтобы защитить свои ценности, а может быть и предрассудки, но так глубоко они не задумывались, облекая свои смутные стремления в привычные фразы типа: это наш долг, защита родной страны и другие на какие богат обывательский ум.
Тем временем, поднявшееся солнце стало нагревать латы и доспехи воинов обеих армий, готовых среди столь живописной природы начать убивать друг друга, убивать ради одной им понятной цели, той цели, которая, если разобраться, никогда не была их личной. Понимая, что медлить уже нельзя оба предводителя почти одновременно дали команду к наступлению. С обеих сторон раздались оглушительные звуки труб и барабанов. Это произошло так неожиданно, что наблюдатель, притаившийся в кустах над небольшим оврагом, даже присел от неожиданности. В первое время, нельзя было понять, какую мелодию играют оркестры обеих армий: все звуки слились и сплелись в невообразимую какофонию. С кустов и деревьев взлетели птицы. Мелкие птахи беспорядочно в страхе заметались в воздухе. Вороны, древние обитатели этих мест, степенно поднялись и медленно стали кружить над полем предстоящей битвы, предчувствуя скорое пиршество. Вороны жили долго и знали, что скоро эта равнина покроется трупами людей, на которых можно будет долго пировать, поедая останки павших, пока могильщики победившей армии не похоронят всех. Одних с почетом, других побросают в общие ямы и кое-как прикроют красноватой землей. И будет непонятно почему земля красная? То ли это естественный цвет ее, или она стала красной от обильно пролитой крови.
Через некоторое время ухо прятавшегося путника стало различать мелодии, которые исполняли оркестры. С противоположного берега неслись бравые аккорды, в этих аккордах не было ни капли жалости, ни капли привычных для человека чувств мелодий и эмоций. В мелодии звучала воля к победе, к победе ради победы. Ее ритмы были созвучны звучанию безбрежных просторов неизведанного и они звали к этому неизведанному. и малопонятному. В этой музыке чувствовалось то неземное, неподдающееся привычной логике, что толкало молодого предводителя вперед, туда, откуда встает Солнце. В мелодии же оркестра противостоящей армии хотя и слышались бравые аккорды, слух путника все же обнаруживал мирные мотивы и эмоции. В мелодии слышалась тоска женщины, проводившей мужа на войну, плач ребенка, и тонкая печаль молодой девушки, ожидающей возвращения молодого воина, которого она видела лишь случайно и изредка и который почему-то, по даже самой ей неизвестной причине, запал в душу. Все эти чувства и эмоции, которыми были пропитаны марши обеих армий, по-разному настроили воинов. Но цель у всех, по большому счету была одна – победить или умереть, обеспечить победу, если это потребуется, ценой своей жизни.
Пока одинокий путник прислушивался к звукам маршей, обе армии бросились вперед. Первые ряды восточных воинов с криком и улюлюканием кто на лошадях, кто пешком бросились через речку и стали забрасывать камнями из пращей и стрелами из луков стройные ряды западных, которые, сомкнув щиты, и, выставив перед собой частокол длинных копий, медленно, но неумолимо двинулись вперед. Раздался звук трубы, передавая какой-то непонятный сигнал, и тысячи стрел, пущенных из-за ровных медленно двигающихся шеренг, понеслись на передовые отряды восточных. От стрел многие из легких конников и пехотинцев попадали либо замертво, либо тяжело ранеными. Легко раненные же, огрызаясь стрелами и камнями из пращей, стали отступать. Те же, кого не задели стрелы, ничего не замечая, продолжали бежать вперед в слепой надежде пробить стройные ряды противника. Они знали, что это невозможно, вперед их толкала то ли необъяснимая ярость, созданная звуками родного марша, который продолжал звучать за их спинами, то ли никому не понятная страсть, доставшаяся человеку еще с древнейших времен. Страсть умереть во имя своего племени, рода, государства. Вновь засвистели стрелы, пущенные невидимыми лучниками, и вновь попадали нападавшие. По полю, перед медленно наступающей тяжелой пехотой, носились кони. Часть из них была без седоков, часть с седоками, безжизненно лежавшими на крупах. Некоторые из всадников свисали на стременах, шлемы многих были потеряны. Их волосы развеваясь на ветру подметали пыльную землю. Один всадник хотел было подняться в седло и ослабевшими руками от раны, полученной в плечо, начал подтягиваться, но стрела, пущенная с противоположной стороны, вновь поразила его. И, сорвавшись со стремени, со стрелой торчащей из горла, он упал на пыльную землю, и был затоптан обезумевшими лошадьми. Из его горла не раздалось и стона то ли потому, что горло его было поражено, толи потому что это был настоящий воин. Настоящие воины умирают молча, с улыбкой на лице. Но эту улыбку, если она и была, из-за заслонивших его лошадиных копыт никто не увидел. На поле от него осталось лишь то жалкое, что трудно назвать человеком, и только щит, втоптанный в останки, говорил, что это был воин.
В результате ужасной работы западных лучников, скрытых за спинами мерно наступавших шеренг, достигнуть до частокола копий и умереть на них удалось лишь малой части нападавших. Цель погибших была не в том, чтобы пробить этот грозный строй, а лишь в том, чтобы хоть как-то расстроить его и, даже больше, в том, чтобы своей героической смертью воодушевить армию, частью которой они были. По сути, все погибшие первой волны были смертниками. Но отвага, родной марш и присутствие товарищей, смотрящих на тебя, порой придает столько храбрости и безумства, что начинаешь верить, что можно пройти невредимым даже сквозь такой смертоносный строй, каким являлась фаланга Александра, Александра Македонского, ибо так звали молодого правителя.
Солнце уже близилось к зениту, когда ощетиненные копьями шеренги западных, под прикрытием легкой конницы, налетевшей откуда-то с обеих сторон, медленно переправились через речушку. Река не составила им серьезной преграды, воины, легко преодолев ее, твердо ступая ногами в мокрых сандалиях, продолжили свое неумолимое движение уже на противоположном берегу. Через некоторое время они приблизились к тяжелой пехоте противника, вооруженной короткими копьями, бессильными против частокола их длинных копий. Под неумолимым давлением тяжелая пехота восточных, теряя убитыми и раненными сотни своих бойцов, начала медленно отступать. Раненные, попадав на землю, жили не долго – они затаптывались и закалывались короткими мечами воинов фаланг. Неумолимое и планомерное движение фаланг оставляло на земле свой ужасный след. После них оставались затоптанные и истерзанные трупы, обильно политая кровью земля и вытоптанная трава. Среди этих трупов были и трупы копьеносцев – не всем удалось уберечься от стрел лучников противника.
Солнце уже начало переваливать за зенит, когда давление фаланг Александра стало таким, что местами тяжелая пехота противника, все же пытаясь сохранить свой строй, начала медленно отступать. Местами же ей непостижимым образом удавалось частично расстроить и даже прорвать стройные ряды фаланг. Но фаланги имели свойство быстро восстанавливаться. Раненые воины, и воины, потерявшие свои копья быстро уходили в тыл, другие по команде начальника, двигаясь слева и справа к центру, быстро смыкали ряды. Медленное движение фаланг продолжалось, и это продвижение наносило невосполнимый урон противнику, его воины, не желая, а наверное и, не имея возможности из-за давления стоявших сзади, отступать, гибли сотнями.
В результате нескольких прорывов, которые были быстро восстановлены, две передовые фаланги стали менее широки, чем были раньше, этим и воспользовался противник. Под звуки труб в стык фаланг ударила выскочившая с тыла тяжелая конница восточных. Этим всадникам, чтобы пробиться, пришлось топтать и рубить своих же, но таков был приказ. Они быстро опрокинули немногочисленную конницу Александра, прикрывавшую стыки фаланг и стали рубить их с флангов в обе стороны. Воины, на которых обрушился этот удар, защищаясь побросали ставшими бесполезными копья и взялись за свои короткие мечи. Но это оружие мало как могло защитить их. На флангах некогда ровных шеренг началась свалка. Планомерному движению фаланг пришел конец. Главное правило движения в таком строе предписывало двигаться так же медленно, как движется его самая медленная часть. Это давало ей устойчивость, постоянство и, поэтому несокрушимость. Движение на флангах было прекращено, воины в центре вынуждены были остановиться. Противник получив передышку, с новыми силами начал атаковать. Усилился и поток, стрел, которыми лучники восточных продолжали осыпать фаланги. Короткие мечи и длинные копья пехотинцев Александра были не пригодны для ближнего боя с конницей противника, атаковавшей их с флангов, и они, разрывая свои стройные ряды начали медленно отступать. Не имея возможности противостоять всадникам, они гибли сотнями. Ряды воинов первых двух фаланг смешались и рассыпались и разрозненными кучками, добиваемые и затаптываемые конницей и тяжелой пехотой противника, стали отступать к реке. Берег реки, и так уже обильно пропитанный кровью, покрылся трупами западных воинов.
Где-то в тылу войск Александра зазвучали трубы, и воины совсем недавно составлявшие строй, который полчаса назад казался несокрушимым, побросав свои длинные копья, и раненных, которым уже никто не мог помочь, в беспорядке бросились к реке. Один из воинов, не захотев оставить своего друга умирать под несущимися галопом восточными всадниками, попытался спасти его. Он взвалил своего раненного товарища на плечи и побежал. Он бежал, испуганно озираясь назад. В глазах был ужас, но желание спасти друга было так сильно, что он до последнего не бросил его. Но воин уже устал, да и товарищ его был нелегкой ношей и оба были изрублены и затоптаны атакующими всадниками. После них на берегу реки осталось только кровавое месиво, мало похожее на останки людей.
Тем временем, через речку уже успели переправиться фаланги второго эшелона. Вдоль их стройных рядов неслась тяжелая конница Александра – тысячи испытанных воинов, пришедшие с ним из далекого балканского царства, которое они помогли ему завоевать. Александр редко бросал в бой свою элитную конницу. Такое во время его похода, до этого дня случалось лишь трижды. И вот, свежая, застоявшаяся, вымуштрованная долгими тренировками, соскучившаяся по крови, она, на ходу перестраивая свои ряды в боевой порядок, мчалась вперед, в самую гущу противника туда, где развевалось знамя предводителя конницы противника. Между тем, свежие фаланги, укрепленные в стыках тяжелой конницей, переправившись через речку, вобравшую в себя кровь тысяч погибших, стали также медленно и неумолимо, как и первые две погибшие и рассеянные, продвигаться в том же направлении.
Воинов этих фаланг не смутила гибель своих товарищей. За три года походов они потеряли многих. Их сердца, может кому-то показаться, ожесточились. Но это не так. В походе они увидели столько смертей и поняли всю бренность земного существования. А человек, понявший эту истину, никогда не бывает жесток сердцем. Он с новой силой начинает любить жизнь, но в этой любви уже нет той жалости к себе, той веры в свою исключительность, которая всегда портит жизнь простого человека.
В этот самый кульминационный момент битвы одинокий путник, наблюдавший за грандиозной битвой, происходящей на некогда мирной равнине, был схвачен. Он так засмотрелся, что, забыв всякую осторожность, почти не прятался. Проезжавший недалеко конный разъезд восточных заметил его. Один из всадников спешился, незаметно подкрался и набросил на него волосяной аркан, который в миг опутал его с головы до ног.
– Шпион! Лазутчик! – донеслось до его ушей, ибо из-за мешка накинутого на голову видеть он уже не мог.
– В ставку! К царю его! Пусть расскажет, что он делает в нашем тылу! Может он знает о планах Искандера! – неслось со всех сторон.
Затем он услышал, как командир небольшого отряда захватившего его, отдал приказание получше прочесать местность в поисках сообщников только что схваченного шпиона, и почувствовал, что лошадь, через круп которой он был переброшен, поскакала. «Наверное, в ставку к царю» – подумал он. Скачка длилась не более четверти часа. Затем его, связанного, бросили на землю, как он понял, у шатра царя, под присмотром часовых, охранявших своего правителя. Лежа с мешком на голове, и опутанный волосяной веревкой, сильно впившейся в тело, он слышал неторопливые разговоры часовых. Они велись на непонятном ему языке. Он, проживший в этой местности меньше полугода, знал об осторожности царя, вследствие которой тот всегда окружал себя охраной, состоявшей сплошь из представителей горного племени, отличавшегося столь же неописуемой отвагой, как и верностью к своему господину. Многие восточные правители, зная это прирожденное качество представителей племени, старались набирать из них свою личную охрану. Их отвага не граничила с жестокостью, потому как через некоторое время один из стражников, заметив, как налились жилы на обнаженных руках пленника, ослабил путы так, что они перестали причинять тому боль, но освободиться все равно было нельзя. Да и в этом не было смысла, – вокруг было полно стражников.
Прошло некоторое время и его, уже начавшего от духоты и жары терять сознание, освободили от веревки и мешка и ввели в шатер. В шатре было не так жарко, как снаружи, даже прохладно. Прямо напротив входа в окружении двух стражников позади и нескольких советников впереди сидел царь Измавил. Одет он был в яркие шелковые шаровары, заправленные в красные кожаные сапоги, украшенные серебряными застежками. Грудь его была прикрыта восточным кафтаном ярко красного цвета. Голова же не была покрыта. Легкий кавалерийский шлем стоял перед ним.
Пленник поднял свои глаза и взглянул на царя. Глаза царя светились жестокой мудростью человека, не раз видавшего поражения и победы. Такая мудрость бывает свойственна лишь тем, кому удалось стать правителем людей не по случаю рождения, а благодаря своей воле и уму. Такие люди рано начинают понимать условность всего происходящего, и уже смотрят на все словно со стороны, как бы забавляясь всем, что их окружает, но при этом они цепко держат в своих руках все нити происходящего. Либо путь к власти делает их такими, либо они достигают власти именно благодаря таким своим качествам, никому это не известно.
Царь устало и грозно посмотрел на пленника, которого поймал его разведочный разъезд, но едва их взгляды встретились, усталость как рукой сняло, он узнал, кто перед ним. Перед ним стоял человек, которого он знал. Тогда он называл себя Заратустрой. Он по его приказанию был приговорен к смерти. И также благодаря его приказанию был тайно спасен. Это случилось два месяца назад. А теперь он стоял, и виновато улыбался, и также прямо простодушно, как это было два месяца назад, мягко смотрел в глаза, не отводя взора. Сейчас он был оборванный и помятый, но имел такой же отрешенный вид, как и тогда, два месяца назад.
* * *
Это произошло два месяца назад. В то неспокойное время, когда известия о продвижении на Восток Искандера с каждым днем становились все тревожнее и тревожнее. В то время Измавил и его вельможи только тем и занимались, что анализировали эти известия. А известия были действительно очень тревожные. Когда-то совсем неизвестный царь, неизвестного государства, которое, когда-то было подвластно некогда великому союзу греческих городов, казалось, навсегда распавшемуся, стремительно двигался на Восток, сокрушая на своем пути все встречающиеся на пути армии, царства и государства. И казалось, что на его пути нет ничего, что способно остановить это неумолимое движение.
А первые сообщения, начавшие поступать о нем несколько лет назад, совсем не тревожили. Кого, казалось, могут серьезно заинтересовать события, происходящие на расстоянии почти двух тысяч километров от твоего царства, на руинах когда-то Великого, а теперь распавшегося союза греческих городов. Кого может заинтересовать судьба молодого царя, почти мальчишки, которому каким-то чудом удалось объединить и подчинить под своим началом остатки перессорившихся греческих городов-государств. Но последующие события показали, что даже он Измавил, а он по праву считал себя весьма прозорливым человеком, ошибался, не придавая серьезного значения тому, что происходило так далеко от его царства. И теперь, этот, когда-то еще почти никому неизвестный правитель, со своей грозной армией, основную силу которой составляла тяжелая пехота, ряды которой были неприступны ни для стремительной персидской конницы, ни для индийских слонов, приближался к границам его царства, сокрушая на своем пути все, что мешало его движению на Восток. Тогда Измавила ввела в заблуждение вся абсурдность этого движения. Все понимали, что Искандер не сможет удержать в повиновение все народы, завоеванные им, и ждали, что он когда-нибудь остановится, поняв бессмысленность своего похода. Но действия молодого царя не поддавались здравому смыслу, а были продиктованы, какой-то высшей, недоступной обычному уму, логикой.
Если бы Измавил понял это тогда, два года назад, когда Искандер только начал свое движение на Восток, захватив Малую Азию, он пользующийся авторитетом у правителей соседних с них государств, смог бы объединить их против общего врага. Но время было упущено, а стремительное и абсурдное движение войск Искандера уже не позволило что-либо предпринять в этом направлении. Теперь же приходилось пожинать плоды своей недальновидности.
Итак, в то самое время, когда тревогой было пропитано все вокруг и даже воздух, и даже детский смех на улицах его города, ему доложили, что в город откуда-то с востока, – а на востоке была только Индия, пришел человек, который ходит по улицам его столицы и смущает своими речами народ. Об этом ему сообщили на одном из советов, собираемых еженедельно. На этом совете ему доложили, что речи, которые произносит этот человек перед своими учениками, весьма странны и допускают двоякое толкование. Среди вельмож, собравшихся на совет, не было однозначного мнения о том, что же говорил на самом деле этот пришелец. Одни говорили, что его речи призывают к самосовершенствованию и послушанию, другие же наоборот, утверждали, что они носят явно подстрекательский характер и зовут то ли к уничтожению государства, толи к уничтожению человека, что было совсем непонятно. При всем этом мысли, которые излагал этот человек, и которого народ называл Заратустрой, подавались таким образом, что в них нельзя было найти никакой открытой крамолы. Но одни из собравшихся считали, что эти речи могут дать почву тому, что народ может усомниться в праве его царя Измавила, блистательного повелителя Восточного царства, на власть над жизнью и смертью своих подданных. Больше всего негодовал верховный жрец, видевший в речах пришельца угрозу религии, верховным жрецом которой был. Но так как пришелец напрямую ни о чем таком не говорил, арестовать его без величайшего его царя Измавила повеления никто не решился.
Выслушав своих придворных Блистательный, как он даже сам, правда с иронией, себя называл, знаком приказал всем удалиться. Он не спеша, прошел за штору, отделявшую его приемный зал от небольшой комнаты с мягким ложем в углу и низким столиком перед ним. В этой комнате он любил отдыхать между приемами, которые в последнее время стали утомлять его. Он не стал ложиться, а присел на корточки, как часто привык это делать. Сам налил в кубок вина, сделал небольшой глоток, и задумался. Спустя некоторое время он позвал своего слугу и прошептал ему несколько слов.
Дождавшись, когда слуга выйдет, он допил вино из кубка. Отдернув штору, он вышел в приемный зал, пересек его по диагонали, открыл для многих во дворце неизвестную дверь, искусно замаскированную драпировкой, украшавшей зал, и последовал по ступенькам вниз. Спустя некоторое время он был уже в саду. Никем не замеченный он двинулся по аллее. Во дворце было мало стражи. Он не любил, когда на каждом шагу ему попадались вооруженные воины, которые, попав за усердную службу во дворец, становились каменными истуканами, и всюду следовали за ним глазами. Ему не нравились эти взгляды, ибо он, прекрасно разбираясь в повадках людей, боялся, что таким же умением обладают и другие. Ему казалось, что по его походке и осанке эти стражники смогут проникнуть в его мысли и, хотя это было не так, но в их присутствии он никогда не мог расслабиться. Поэтому проблему своей безопасности он решил по-другому. В его дворец, без его ведома, или без ведома начальника его стражи, и без сопровождения никто из посторонних попасть не мог. «Каменных» же истуканов он оставил лишь в тех местах, где без этого нельзя было обойтись, ибо этого требовали нормы, скорее не нормы, а представления о безопасности.
Итак, никем не замеченный, он шел по аллее. Пройдя некоторое расстояние, он свернул на боковую, более узкую аллею, которая привела его к небольшому дому, стоявшему на берегу искусственного озера. В этом доме жила его последняя возлюбленная. К этому домику он всегда стремился, когда выдавалась свободная минута, или когда надо было собраться с мыслями перед важным делом. А сейчас время было, – ибо тот, кого он вызвал, придет не ранее чем через два часа. А обстоятельства требовали расслабить напряжение, накопившееся к вечеру, чтобы с новыми мыслями подойти к проблеме, которая, как он чувствовал, не была простой. И, кроме того, он в тайне надеялся получить от своей возлюбленной совет. Ее, еще юный женский ум, всегда находил простые решения даже в тех случаях, когда он и его советники ничего не могли решить.
– О, ты пришел мой господин, – этими словами встретила его молодая женщина, почти девушка.
– Не называй меня так, ты же знаешь, что это мне не нравится, – по инерции раздраженно сказал он.
– Но как же мне называть тебя? Ведь ты и есть мой господин. Ты запер меня в этой уютной тюрьме. И не выпускаешь никуда без своего ведома. – Уже явно притворно, так, что, если бы был посторонний наблюдатель, он бы понял, что все это лишь игра, ответила девушка. С этими словами Радзила, так звали девушку, пробежала несколько шагов, разделявших их, и бросилась на шею Измавилу.
– Почему тебя так долго не было? – шептала она, – все крепче прижимаясь к нему.
– Дела, – сказал он.
– Дела были всегда, но раньше ты приходил до заката, и взгляд у тебя какой-то встревоженный, – шептала она в его объятиях.
– О делах потом, – сказал он. И, уже не в силах овладеть с нахлынувшей на него нежностью, стал осыпать ее поцелуями. Она вскрикнула, сладостно застонала и еще сильней прижалась к нему. Время перестало существовать для них. Они любили друг друга, так нежно, как, казалось, никогда такого не было. Но это было всегда – с самой первой их близости. И это повторялось всегда и, с каждым разом это было сильней и сильней. И хотя потом они понимали, что есть физический предел чувственных наслаждений, но они с каждым разом все глубже и тоньше проникали в эту прекрасную область человеческих отношений. И они уже знали, что на этом пути, если забыть о себе, нет предела. Да…, в эти моменты время переставало существовать для них… Пространство раскрывалось совсем незнакомой своей стороной, которая раньше их немного пугала, а по прошествии времени только забавляла.
Они не знали, сколько времени прошло, когда устав оба замерли. Она лежала на его груди, он смотрел в ее глаза с расширенными от страсти зрачками. Ничего не кончилось. Все продолжалось, но на более тонком, одним им известном, уровне – просто уже не было сил двигаться. Они ласкали друг друга глазами, одним им понятными чувствами, словами, которые они уже могли произносить, темпом дыхания, ритмом сердцебиения.
Он рассказал ей все, что произошло за день, не утаив последнего разговора, она сказала, что-то незначительное и посмотрела ему прямо в глаза. По ее взгляду он понял, что она хотела сказать. Он нежно погладил ее пахнущие полевыми цветами волосы, и она поняла его ответ. Они еще долго лежали в обнимку, говоря, друг другу ничего не значащие слова, эти слова не имели смысла, но так приятно было их говорить, смотря при этом друг другу в глаза. Мир вокруг продолжал не существовать. Были только они, их простой разговор, пустые слова, и мысли, которыми они обменивались, используя взгляды, легкие ласки, и еще одно им известное нечто…
Из этого безмятежного время провождения их вывел звук колокола. Пробили седьмую стражу. Измавилу нужно было идти. Он неторопливо встал, нежно и игриво погладил свою возлюбленную по неприкрытой ягодице, и ничего не сказав, оделся и вышел. Слова были лишними, они и так все сказали и продолжали говорить друг другу на языке одним им понятном…
Измавил, не заметил, как пересек сад, поднялся по лестнице и только перед замаскированной, со стороны приемного зала, дверью он вспомнил о предстоящей встрече. Когда он открыл эту дверь и плотно закрыл ее за собой, от стены зала, освещенного масляными светильниками, заботливо зажженными слугами, отделилась высокая тощая тень. Перед Блистательным Измавилом, откинув свой капюшон, предстал его самый верный помощник – начальник тайной стражи. Подлинное имя этого человека знал лишь Измавил да еще его несколько наиболее приближенных. Откинутый капюшон открыл взору царя длинное сухощавое лицо, с большим горбатым носом и блеклыми серыми глазами. Знающие его люди поговаривали, что он иудейского происхождения, но никто этого доподлинно не знал.
– Ты знаешь, за чем я тебя позвал? – негромко спросил царь.
– Да мой господин, – также негромко ответил обладатель плаща с капюшоном, – ты хочешь все знать о том страннике, который смущает своим безумными речами народ.
– Так собери же мне о нем все, что можно знать и не знать, – уж тверже сказал Царь.
Начальник тайной стражи уже хотел, было идти, когда его остановил усталый голос Блистательного:
– Погоди, не спеши… Пройди ко мне за штору.
Они оба прошли за штору в маленькую уже известную нам комнату, где на столике предусмотрительно стояли два кубка. Царь сам, стараясь не пролить ни капли, налил в них из кувшина прохладного греческого вина, сделанного где-то на родине Искандера, того полководца, стремительное шествие которого на Восток, в течение последних двух лет не давало им обоим покоя. Он подал один кубок собеседнику, а другой поднес себе ко рту, и сделал маленький глоток, каким не пьют, а лишь пробуют хорошее вино. Его собеседник сделал такой же глоток.
– Хорошее вино, – чуть помедлив, сказал он.
– Да вино хорошее, но царь страны, где произрастал виноград, из которого оно сделано, уже стоит у наших границ. Время неспокойное, и поэтому ты со всей серьезностью отнесись к моему приказу,… нет просьбе,… и выполни все именно так, как я сказал. Я должен знать о нем все, что может знать простой смертный, а также, – он выговорил это слово более твердо, чем остальные, – все, что простой смертный знать не может. Как это ты сделаешь – меня мало интересует. Ты опытен в своем деле и не раз доказал свои способности. Но я жду от тебя большего, чем, все что, что ты делал для меня раньше. Даю тебе два дня. – С этим словами он одним большим глотком, будто это было не прекрасное дорогое вино, а простая вода, выпил содержимое кубка.
– Я тебя понял мой господин, – ответил начальник тайной стражи и, не торопясь, почти смакуя, выпил вино, и, поклонившись, вышел. Его быстрые шаги уже были слышны в приемном зале, послышался, нет, не послышался, а лишь почувствовался звук открываемой потайной дверцы, и все смолкло.
Измавил, не раздеваясь, лег на свое ложе и уснул. Уходящий день его слишком утомил, и не было ни сил, ни желания идти к женам с их вечными просьбами, и упреками в невнимании, к детям, которых он хотя и любил, но которые в последние напряженные дни, сильно утомляли его. К Радзиле, идти он не хотел, боясь потревожить ее сон.
На исходе седьмой стражи, через два дня после описанных событий перед Царем стоял начальник тайной стражи – его верный Давид, таким именем он его всегда называл, хотя было и другое подлинное.
– Ты все разузнал? – спросил он.
– Все, – ответил собеседник.
– Все возможное и не возможное? – более настойчиво спросил Измавил.
– Тебе судить мой Господин, – ответил Давид, и стал рассказывать, все, о чем разузнали и пронюхали его подчиненные.
Про всеведение тайной стражи ходили легенды. Его шпионы были не только в каждом городе, на каждой улице, в каждом доме мало-мальски значимого вельможи. Кроме этого тайные курьеры приносили известия почти со всех стран, интересы которых пересекались или могли пересечься с интересами Восточного царства. Поэтому начальник тайной стражи эти два дня занимался только анализом и сопоставлением тех разрозненных фактов, которые стекались к нему от его многочисленных подчиненных. Помимо этого, ему удалось, как бы случайно, встретиться с Заратустрой и поговорить с ним. Из всего им, изученного, и разговора с Заратустрой, который он имел не ранее как вчера, складывалась следующая картина:
Будда или Заратустра, как он сам себя называл, действительно пришел с Востока и, как доподлинно установлено действительно из Индии. Но он не являлся уроженцем этой страны. Родиной же его является Иудейское царство, а и именно окрестности города Назарет, захваченного в настоящее время Искандером. Как и почему он попал в Индию, не установлено, из-за большой давности этого события, но доподлинно известно, чем этот Заратустра занимался в Индии.