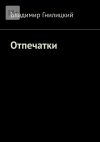Текст книги "Древняя история"

Автор книги: Аркадий Мурзашев
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
С этими словами женщина, как бы не хотя, сопротивляясь, чему-то, что могло опять стать сильнее ее, оторвала свое тело от него. Она в последний раз посмотрела на него, видно стараясь запомнить его черты, его улыбку, повернулась и вышла из хижины, и, не оборачиваясь, пошла по тропинке в сторону, откуда пришел юноша.
До него, наконец, дошел смысл всего сказанного женщиной. Женщины не хотят разрушать ту оболочку, которую он видел ночью в своем полусне, хотя они и прекрасно знают о ее существовании.
* * *
Заратустра очнулся от своих воспоминаний. Из состояния задумчивости его вывел шум открываемой двери. Был уже поздний вечер. Солнце садилось. Дверь открылась, и в камеру вошел охранник, принесший ужин, состоявший из кувшина с вином и куска вареного мяса. Неплохо для тюрьмы, – подумал Заратустра. Он дождался когда охранник закрыв за собой дверь вышел, и принялся, с аппетитом есть. С того момента как он ел в последний раз прошло более шести часов, и он успел проголодаться. Поев, и выпив вино, он лег на жесткий топчан, стоявший у стены. В этот первый вечер на несвободе он долго не мог заснуть. Перед сном ему вспомнилось, как его, в возрасте двенадцати лет, отец отправил одного с караваном в Индию. Сейчас он совсем по-новому, взглянул на все, что говорил ему отец перед дорогой. Заратустра сейчас понимал, что отец говорил о таких вещах, которые нельзя объяснить словами. И тогда отец, зная это, просил лишь запомнить все, о чем он говорит. Сейчас Заратустра понимал, что отец надеялся, что впоследствии он, его сын, все это вспомнит и когда-нибудь поймет что же он хотел тогда сказать.
Это произошло давно, более пятнадцати лет назад, тогда ему исполнилось двенадцать лет. В то утро отец рано поднял его с постели. После завтрака он позвал его с собой на прогулку. Они вышли из дома, быстро пересекли те несколько улиц, которые отделяли их дом от границы города, и удалились по большой натоптанной, копытами лошадей и верблюдов дороге, прочь. В играх со своими друзьями так далеко от города он никогда еще не удалялся. Пройдя чуть менее получаса, отец свернул на небольшую тропинку, вившуюся между небольших кустарников. Пройдя немного по ней, они очутились на границе пустыни, которая простиралась на несколько сотен миль далеко на восток. Отец присел на землю и знаком предложил сеть и ему. Он смотрел далеко на восток, туда, где за горизонтом кончалась, вернее, не кончалась, а продолжалась эта великая пустошь. Казалось, что эта пустошь, полная жара, солнца и песка, никогда не может кончиться. Он посмотрел на сына так, как иногда смотрел, ожидая услышать ответ на самый из трудных вопросов, которыми он проверял, как его сын усвоил, то, что накануне он ему рассказывал, и произнес:
– Ты уже стал взрослым Иса, – и опять посмотрел на него, словно ожидая реакции.
Он тогда ничего не ответил, он не знал, что значит быть взрослым в этом мире. Поэтому он только вопросительно посмотрел на своего отца и перекинул свой взгляд на пустыню, которая завораживала своей бескрайней безжизненностью, но эта безжизненность не пугала его, а почему-то звала и манила. Как может манить неизвестная незнакомая женщина, которую ты еще не встретил, но ты знаешь, что она есть, и ходит где-то по Земле, ожидая встречи с тобой. Встречи, которая может быть никогда и не состоится.
Отец, верно поняв взгляд сына, сказал:
– Да, ты уже взрослый, я уже тебе пока ничего не могу дать больше, чтобы ты понял то самое главное, что может сделать человек со своей жизнью. Я тебе не могу сейчас объяснить того, к чему надо стремиться в этой жизни. Потому, что ты уже построил свой маленький мир, в котором чувствуешь себя спокойно и свободно. Поэтому мне трудно будет, что-либо объяснить, так как ум твой закрыт неумолимой логикой этого мира. Но ты должен разрушить этот мир. Разрушить для того, чтобы обрести настоящую свободу, которая является единственным даром, который может приобрести человек на Земле. Тем даром, который доступен всем, а дается лишь единицам. Но чтобы воспользоваться этим даром тебе необходимо все понять самому. Объяснения только все испортят.
Отец еще говорил много непонятных слов, которые из его уст так и сыпались. Казалось, он хотел наговориться, перед каким-то событием, после которого у него долго не будет возможности сказать что-либо сыну. Он не просил, чтобы тот что-либо понял из его сложной речи, он хотел лишь того, чтобы он максимально полно запомнил его слова, смысл которых, как он надеялся, сын поймет много позже. Выговорившись, он, наконец, сказал:
– Сын мой, ты уже взрослый. Взрослый в том смысле, что я тебе больше ничего не могу дать. Поэтому завтра на рассвете ты отправляешься с караваном, который идет на восток в далекую Индию. С предводителем каравана я уже договорился. Он доставит тебя в Индию к моему давнему другу Готаме. Путешествие и жизнь в Индии должны тебя подтолкнуть к той цели, о которой я тебе говорил.
Вспоминая сейчас, все о чем тогда говорил ему отец, Заратустра понял, что тогда он дал ему инструкции, которым он, сам, не замечая того, все время следовал. Это позволило ему прийти к пониманию того, что надо стремиться к свободе, ибо только это стремление делает жизнь человека полной, придает ей истинный смысл. Он прочитал много книг, в которых мудрецы и философы размышляли о смысле жизни, но ни в одной из них он не нашел ответа. Но, не осознано следуя инструкциям отца, он, наконец, почувствовал, в чем заключается этот смысл. Но этот смысл был так многозначен и широк, нет, вернее сказать, полон, что человеческих слов не хватало, чтобы объяснить его. Сейчас, вспоминая давний разговор с отцом, он понял, в чем заключалась его ошибка, когда он в стремлении излить истину, которая стала ему открываться после той первой ночи, проведенной им вне дворца, пытался словами объяснить ее людям. Он понял, что настоящую истину можно объяснить, лишь поставив человека в такие обстоятельства, когда у него не будет другого выхода. Он подивился искусности отца, который, как он сейчас это видел, ловко подстроил все таким образом, чтобы произошло то главное, что произошло с ним. Только сейчас понял, что все разговоры с людьми об истине, всегда будут уходить в пустоту человеческой, обыденной жизни. А понимание истины всегда требует выхода за те рамки, которые люди называют человечностью.
Он со временем, много позже того разговора с отцом, понял, что человек, не достигший в течение своей жизни свободы, подобен цветку, который так и не дал плодов. Он теперь прекрасно понимал, что все земное существование имеет смысл лишь тогда, когда каждый миг твоей жизни продиктован стремлением к полноте бытия. Стремлением выйти за рамки того условного бытия, в какое человек с самого рождения втискивается, ибо это необходимо для того, что жить и существовать в обществе. Эти рамки и называются человечностью, но весь смысл существования в обществе и заключается в том, чтобы, развиваясь и живя в этом обществе, найти в себе те силы и ту энергию, которая позволит найти путь за рамки человечности.
Он, тогда еще мальчиком плохо понимал, что такое свобода, о которой тогда говорил ему отец. Он склонялся к тому, что свобода – это есть отсутствие рабства, хотя смутно понимал, что это не так. Сейчас же в свои двадцать восемь, он уже очень хорошо знал, что такое свобода, и что она дает, но он никак не мог понять, как можно достигнуть этого. Он знал, что самое главное препятствие на пути к свободе состоит в особенностях того процесса, который называется рождением и смертью. В момент смерти что-то происходит с человеком, и в следующем воплощение он уже теряет весь свой опыт, накопленный в этой жизни. Вернее этот опыт есть, но он почему-то становится недоступным.
Сейчас, находясь в этой странно комфортной тюремной камере, Заратустра вспомнил первый день своего путешествия через пустыню, ибо он был самым важным и ярким из всех тех десяти пока караван пересекал эти безжизненные земли.
Отец заплатил предводителю каравана, идущего в далекую Индию, немалые деньги, чтобы тот в целости и сохранности доставил его к своему другу, которого он называл непривычным именем Готама. Оба они, предводитель каравана и отец, понимали, что эта плата не является гарантией того, что мальчик благополучно доберется до далекой страны. Но плата была гарантией тому, что для этого будет сделано многое. Оба они понимали, что для этого предводитель каравана не сделает все возможное, ибо караван для него был более ценен, чем этот мальчик, который только начал жить, и пока ничего из себя не представляет.
Так он думал тогда, сидя на горбе верблюда, которой следовал за верблюдом предводителя. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась безжизненная пустыня. Эта безжизненность нарушалась только одиноким полетом большекрылых птиц, наверняка падальщиков, которые, медленно кружась, выискивали среди безжизненных барханов те живые существа, которые не смогли устоять против зноя и песка, и пали. Но то ли жители пустыни, которые в этот зной попрятались, были так малочисленны, либо они были так живучи, что ни разу за весь день пока следовал караван, мальчику не удалось увидеть, чтобы хотя бы одна из этих птиц, полетела вниз за добычей. Солнце уже прошло зенит и продолжало неуклонно катиться к своему закату, но до заката было еще далеко, и от прогретого песка и от, все еще яркого солнца, было так жарко, что все путники, да и мальчик тоже, накинули на головы свои капюшоны, без которых был не мыслим, походный наряд караванщиков, этих единственных живых созданий в этой пустыне, кто не прятался от зноя, а шел вперед. Весь смысл существования каравана был в движении. Необходимо было пересечь пустыню так быстро, пока не кончились запасы воды и еды. Воду и еду, чтобы не перегружать и так уже, нагруженных товаром верблюдов, нельзя было брать в неограниченных количествах. Караван двигался мерно, и неумолимо. Искусство предводителя заключалось в правильном выборе ритма движения и скорости, чтобы, не утомляя верблюдов и погонщиков все же, как можно быстрее, пересечь этот самый опасный участок их пути, каким являлась равнина, на которой на сотни миль вокруг не встретишь ни колодца, ни единого зеленного листочка.
Тогда давно, сидя на горбе верблюда, он вспомнил, что как-то гуляя с отцом, он заметил, если предположить, что в мире нет ничего и никого кроме тебя одного единственного, и также предположить – все что ты видишь, слышишь, ощущаешь всеми органами своих чувств, является лишь игрой твоего ума, – то никаким образом, логически не возможно доказать противоположное. Тогда эта мысль только позабавила его, но она глубоко запала в его душу. И вот, двигаясь с караваном по пустыне, он вспомнил эту свою детскую мысль, и сейчас она ему показалась не только забавной. Мерное покачивание верблюда, на спине которого он сидел начало убаюкивать его и он незаметно для себя он впал в сон, но, как понял потом, это был не сон, а что-то другое, другое состояние существования. В этом странном сне он также ехал на верблюде, но перед ним была уже не пустыня…, трудно было назвать, что было перед ним, привычные понятия не подходили для описания всего, что он видел, но видел не то слово, которым можно было бы сказать, как все это ему являлось. Перед его глазами…, нет, не перед глазами – глаза его были закрыты, а перед тем, что внутри его самого все это видело, было пространство, заполненное разноцветными огненными линиями, которые, казалось, шли отовсюду. Эти линии нигде не начинались, и нигде не кончались – они просто всюду были.
При этом он почувствовал, что как бы разделился на двоих. Одна его часть была очень напугана и даже встревожена, другая же была спокойна, и казалось, тайно радовалась и с насмешкой смотрела на первую. Было, похоже, эта радость исходила от того, что первой части удалось это увидеть и удивиться. Это видение продолжалось, как ему показалось, недолго, но когда он очнулся, был уже вечер, солнце было на горизонте. Караван остановился, и погонщики развьючивали верблюдов и готовились к отдыху. Кто-то, набрав сухих веток саксаула, разжигал костер, кто-то возился у походных котлов, готовя еду, а один из погонщиков дергал его за ногу, предлагая спуститься с верблюда и помочь его развьючить. Значит, – подумал мальчик, – в необычном состоянии забытья он находился не меньше двух часов, но по его ощущениям прошло очень мало времени, потому как он даже толком не успел рассмотреть открывшуюся ему необычную картину.
Сейчас, вспоминая все это, он понял, что тогда ему начинала открываться истинная сущность этого мира, который, всегда является более широким, чем все то на что способно все человечное воображение человека. Размышляя и вспоминая, Заратустра незаметно для себя заснул. Ему в эту ночь ничего не приснилось, или если и приснилось, он просто этого не запомнил.
* * *
Утром его разбудил шум открываемой двери. Заратустра, неожиданно для себя, быстро вскочил с постели. У порога стояли два стражника. Один из них сказал:
– Тебя желает видеть Великий и Блистательный повелитель Измавил. Следуй за нами.
Заратустра, не совсем пришедший в себя после сна, встал и последовал за ними. Стражники были довольно молоды, если и старше его, то не намного. Один шел впереди, другой сзади. Их лица, на первый взгляд, казались непроницаемыми. Но, Заратустра, умевший уже понимать то, что люди пытаются прятать за выражением своих лиц, легко прочитал настроение обоих. Стражник, который шел впереди, был еще не опытен в делах, он служил во дворце не больше месяца. Во всей походке и манерах читалось стремление показать всю важность выполняемых им обязанностей. Вот и сегодня утром, когда его командир приказал вести пленника, схваченного вчера шпионами тайной стражи, он с гордостью и радостью быстро собрался и, в сопровождении, более старшего стражника, пришел к дверям камеры, в которой обычно держали знатных узников. Какого же было его удивление, когда узник оказался на вид простым человеком. На вид ему было ничуть не больше тридцати. Одет он был простую одежду, какую носят все обыватели этого города. Лицо его было чуть удлиненным, с острым подбородком, нос был прямой и тонкий и если бы не смуглость кожи, его легко можно было принять за эллина. Греческие сандалии на его ногах, тоже говорили о таком происхождении, а смуглость лица легко можно было объяснить тем, что оно загорело на солнце, в результате долгих скитаний. О том, что человек по образу своей жизни является бродягой, говорили еще его глаза зеленоватого цвета, слегка выцветшие под солнцем. Такое часто бывает с людьми, кто много времени проводит под солнцем.
Второй стражник более опытный в делах, ничуть не удивился виду узника, находившегося в камере, которая предназначалась для знатных и опасных заговорщиков. Он по ходу своей долгой службы во дворце привык ко всему. Он шел сзади. Для предотвращения возможных попыток побега, при конвоировании важных и опасных преступников, сзади должен быть более опытный. Но, судя по тому, как узник шел, он даже не замышлял об этом. Его движения отличались легкостью и непринужденностью, он, шагая, как-то легко и просто передвигал ногами, ставя их всегда таким образом, что создавалось ощущение, что он не шел, а как бы летел. Его непринужденное выражение лица, на которое обратил внимание второй стражник, когда узник выходил из камеры, и его легкая, казалось небрежная походка, говорили о том, что того ничуть не беспокоит встреча с Блистательным Измавилом. Хотя не все важные преступники удостаивались ее перед судом, этот же человек шел, словно так оно и должно было быть.
Так размышляя и раздумывая, они все трое незаметно для себя дошли до большой железной двери. За этой дверью была камера, где Измавил, отгородившись от пленника решеткой, так как были случаи, попыток нападения, по обыкновению единолично, часто с глазу на глаз, допрашивал наиболее важных преступников. Стражники молча, гремя железными запорами, открыли дверь и втолкнули за нее своего подопечного, и ни слова не говоря, заперли ее.
Первое, что увидел Заратустра, когда попал в комнату допросов, были глаза, которые смотрели на него ярко и пронзительно. Казалось, от этого взгляда ничто не может ускользнуть, настолько он был цепким и изучающим. Заратустра посмотрел в ответ спокойно и почти равнодушно, его зеленоватые глаза легко скользнули по лицу царя, осмотрели его одежду, состоящую из ярко красной рубашки, черных кавалерийских штанов, и мягких кожаных сапог, затем они снова поднялись к лицу, которое было слегка круглым. Борода и усы добавляли возраст, но яркость глаз, несмотря на мудрость, которая чувствовалась в них, говорила, что их обладатель никак не старше сорока лет, а может быть и моложе этого возраста лет на пять.
Так непринужденно, казалось, не замечая глаз, которые могли бы загипнотизировать, иного, Заратустра рассматривал царя, стоявшего, как он это только сейчас заметил, за решетчатой перегородкой. Наконец их взгляды встретились. Жесткий, прямой как стрела взгляд Измавила, казалось, утонул в простых, ничего не выражающих глазах Заратустры. Измавил, не в силах отвести свои глаза, начал как бы погружаться в вечность, олицетворением которой был взгляд, этого человека. Этот человек, не напрягаясь расслабленно, смотрел ему прямо в глаза, но при этом казалось, что он проникает в его душу, и вот сейчас узнает, или уже узнал, все его сокровенные мысли и желания. От этого ощущения Измавилу стало не по себе, и даже страшно, и он с большим трудом отвел глаза. После этого он, стараясь избегать встречи с его глазами, как-то особенно, по-другому посмотрел на пленника, отделенного от него решеткой. Ему Великому царю, никогда еще, не приходилось отворачивать свой взгляд при встрече с людьми. Страх, который он испытал, был лишь инстинктивным и неосознанным, поэтому он быстро прошел. Немного придя в себя, Измавил более спокойно, и с большим интересом рассмотрел своего пленника. От его глаз не ускользнула отрешенность, какая читалась во всем облике этого человека, способного спокойно встретить его взгляд. Его глаза перестали быть бездонными, но Измавил больше не рискнул встретиться с ними. На какой-то момент ему стало неловко от той паузы, которая продолжалась уже более четверти часа, но, зная ценность паузы, он все не решался заговорить с этим странным узником, который в первые же минуты знакомства так его ошеломил.
После долгого молчания, он, наконец, спросил, спокойным и твердым голосом:
– Ты знаешь, почему тебя арестовали?
– Не знаю. Тебе лучше знать, ведь меня арестовали по твоему приказу и кому другому лучше знать, почему меня заточили в камеру, которую трудно было бы назвать тюремной, если бы не запертая дверь. – Просто и непринужденно ответил ему его собеседник.
Измавил, не удивился, независимому тону, каким разговаривал с ним, этот человек в простой одежде с простым открытым лицом. После взгляда, каким он обменялся с ним, его уже ничего не удивляло в этом заключенном. Поэтому, он спокойно, сказал:
– Тебя обвиняют в подстрекательстве черни к бунту. Ты своими речами вносишь в народ смуту. После твоих речей народ, начинает вести себя дерзко. Знающие люди говорят, что ты обладаешь незаурядным умом, и тебе тем более не пристало в такое неспокойное время, когда враг стоит у границ нашего царства, смущать чернь.
– Все что обо мне говорят, – лишь неправильное изложение того, что я сам говорю. – спокойно ответил пленник, – Меня никто никогда не понимает, и всякий толкует по-своему. Скажи великий царь, что же из рассказов обо мне смутило тебя настолько, что ты счел необходимым арестовать меня.
Измавил на некоторое время задумался, и, не обращая внимания на вопрос, заданный его собеседником, спросил:
– Скажи Заратустра, как тебя все называют, кто ты? Зачем ты пришел в мое царство?
Заратустра, как бы соображая, кто он есть, задумчиво потеребил в руках тесемку пояса, которым был подпоясан его кафтан. Затем, наконец, собравшись с мыслями, он ответил:
– Я – человек, – сказал он твердо, подчеркивая последнее слово. – Я человек, который стремится к свободе, к настоящей внутренней свободе. А в твоем городе я лишь мимоходом, я направляюсь к себе на родину в иудейское царство. Я долго не видел родных. Иду из Индии, где некоторое время жил в царстве славного Готамы. Я не ожидал, что так долго задержусь в этом городе, но, встретив молодых людей, которые живо интересуются всем, что я им говорю, я решил немного задержаться. В твоем городе я очередной раз обманулся, думая, что смогу их позвать за собой. И в очередной раз понял всю тщетность попыток объяснить неподготовленному человеку, что мной движет. Люди, которых интересует то, что я говорю, на самом деле негодны для того, чтобы следовать за мной, ибо такие люди на самом деле всегда праздны в душе, и им хочется, чтобы истину и поднесли на блюдечке и разжевали, но это невозможно. А люди, подготовленные к этому, – не хотят, так как таких людей наиболее сильно втягивает обыденность человеческого существования, и в них уже не осталось той энергии, которая нужна для того, чтобы обрести свободу. Одного такого я встретил позавчера, мы с ним столкнулись, когда я возвращался с молодыми людьми, называющими себя моими учениками. Мы имели с ним интересную беседу. Что-то в его манере разговаривать понравилось мне, и мне показалось, что этот мой собеседник, называвший себя Давидом, способен понять, то к чему я безуспешно зову людей. Но потом, проникнув в его мысли, я понял, что он является твоим советником по тайным делам.
– Не советником по тайным делам, а начальником тайной стражи, – сказал Измавил машинально, не до конца поняв, что ему сказал собеседник. Когда же смысл сказанного дошел до него, он, стараясь не выдать своего изумления, небрежно продолжил, – тут твоя проницательность тебя обманула. Ты лучше скажи мне, что ты там говоришь о сверхчеловеке? Разве тебе, оборванцу может быть понятным великое и бессмертное. – Сказал Измавил, старясь напускным пренебрежением унизить этого человека, чья свободная манера говорить, начинала раздражать его.
– Когда я говорю о сверхчеловеке, я подразумеваю совершенно другое, чем ты думаешь, – так же просто и непринужденно ответил Заратустра, ни чуть не смущенный раздражением, явно проскользнувшим в последних словах царя. Он продолжил, – Когда я говорю о сверхчеловеке, я говорю лишь о той возможности, которая есть у каждого. О той возможности, которую реализуют лишь единицы. Каждый человек имеет возможность и потребность открыть в себе то, что можно было бы назвать Богом, если бы он существовал. Мои долгие поиски, показали, что в этом мире нет того, что можно было бы назвать Богом, но есть большее – возможность каждому стать тем, что будет выше Бога. Ибо Бог есть понятие, придуманное людьми для объяснения того великого и прекрасного, что находится за порогом нашего восприятия. И это человеческое понятие настолько бледно перед истинным положением дел, как бледен блеск Луны перед блеском Солнца, так, что днем, когда светит Солнце Луну и не видно. А человек, если ему удастся преодолеть этот порог восприятия, станет по настоящему свободен, ибо его уже не будут держать узы и связи нашего бытия. А эти узы настолько сильны, и забирают столько энергии, что только единицы задумываются о той великой возможности, которой обладает человек с самого своего рождения. Вот что я говорю, когда говорю о сверхчеловеке. Я говорю, что истинной целью жизни человека является открытие в себе такого сверхчеловека. Со временем это поймут многие, сейчас же на всей земле можно насчитать очень мало людей, которые задумываются об этой прекрасной возможности. А тех людей, которые искренне стремятся к этому – единицы. И я один из них.
Пока Заратустра говорил, Измавил внимательно слушал, разглядывая своего странного собеседника. От его глаз не ускользнула та отрешенность, с которой говорил этот человек. Он, научившийся хорошо разбираться в людях, не уловил в его речи ни одной фальшивой нотки, ни одного слова, которое было бы произнесено таким образом, чтобы скрыть что-то тайное. Измавил хорошо знал, что, люди искушенные часто за пеленой красивых слов скрывают свои тайные и корыстные мотивы. Тайные мотивы в речи Заратустры не чувствовались. Если его слова и были красивы, то эта красота была той красотой, какая свойственна словам, если человек говорит их прямо, так, как они ему приходят, и не думает о том, какой они произведут эффект. Слушая речь Заратустры, Измавил понял – то, о чем говорит этот человек, было его сущностью. И, поэтому он с самого начала отбросил мысль, что этот человек не искренен, и невольно для себя почти сразу начал внимательно его слушать. Затем на протяжении разговора у него возникла мысль, что Заратустра является сумасшедшим. Тут он попытался было уцепиться за эту мысль, как за соломинку, но слова, которые говорил Заратустра, не были похожи на слова сумасшедшего. Наоборот они отличались изысканной логикой, на которую сумасшедший не способен.
В результате всего сказанного Заратустрой или нет, скорее больше от его уверенной манеры говорить странные и непривычные вещи, Измавила охватило ощущение нереальности всего происходящего. У него закружилась голова, чего у него никогда раньше не было. Все вокруг стало одновременно и большим и маленьким. Тело свое он стал чувствовать совсем по-другому – у него возникло ощущение, что его голова, скорее макушка головы, вдруг стала стремительно расти и удаляться куда-то вверх, хотя он все также находился в камере допросов, и все также сидел и слушал этого странного человека. Руки его стали тяжелыми и ватными, ноги начали гореть, наливаясь огнем, который, как он чувствовал, шел откуда-то сверху от звезд, оттуда, где была макушка его головы. Он, стараясь преодолеть эти странные ощущения, в какой-то момент попытался расслабиться. Это ему удалось, и он сбросил с себя то естественное для него напряженное состояние, в котором он всегда привык находиться, занимаясь государственными делами. И тогда, неожиданно для него, ощущение нереальности происходящего сменилось ощущением особенной яркости всего того, что сейчас происходило. При этом неприятные телесные ощущения куда-то ушли, и по всему его телу разлилась приятная расслабляющая истома. В этот момент он ясно увидел, как в его голове начала растворяться какая-то пелена, которая в первые минуты разговора не давала ему понимать, вернее, было бы сказать принимать, все то, что говорил ему Заратустра. В этот момент, Измавил почувствовал, нет, увидел, ощущение правоты всего, что говорил пленник. Это ощущение правоты и истинности исходило от него как свет, когда он проникает в затемненную комнату сквозь узкую щель в запертых ставнях. «А он, наверняка, и является своеобразной щелью между этим миром и тем миром свободы, о котором он так много говорит, – подумал Измавил, – миром который по его словам является истинным».
Некоторое время Измавил сидел, зачарованно слушая своего пленника. Но вдруг сквозь открытое окно, расположенное на его половине послышались команды, командира его личной охраны, который, в это время обычно муштровал своих подчиненных. Громкие слова, которые произносились жестким, не терпящим возражений голосом, внезапно вернули Измавила из того приятного зачарованного состояния, в какое он невольно впал, слушая Заратустру, к повседневной реальности. Эта реальность была проста, и всегда требовала простых и прямых решений. Она не допускала всепонимания, какое было свойственно тому состоянию, в какое неожиданно для себя вошел Измавил, слушая своего странного узника. Этой реальности было свойственно другое состояние, – состояние деловой озабоченности. В этом состоянии поступки и действия Измавила всегда диктовались насущными государственными задачами. И хотя он даже и в этом состоянии прекрасно понимал все, что говорил ему Заратустра, на первый план перед Измавилом вышли насущные государственные дела. И Измавил, словно очнувшись от сна, совсем по-другому посмотрел, на все, что ему наговорил этот человек, оборванец по внешнему виду.
«Сумасшедший, – вдруг подумал, про себя Измавил, – Он хочет в этом мире полном страданий и боли, в этом мире, полном зла и обмана проповедовать идею, которая всегда будет неправильно понята людьми, которые, в силу своей природы, в угоду своим сиюминутным насущным задачам, всегда готовы извратить любую идею». Он, по своему опыту прекрасно знал, что высокие и прекрасные идеи, будучи брошенными в толпу, и подхваченные чернью, всегда приводят к злу, ибо толпа и чернь обладает дьявольской способностью все подогнать в рамки своего узкого прокрустова ложа низменных потребностей. А идеи, которыми была пропитана вся речь Заратустры, были всеобъемлющими и даже великими. Тут Измавил невольно поморщился, – он не любил высоких слов. Эти идеи были таковы, что их можно было бы приспособить под все. Всеобщность этих идей делала их особенно опасными для государства, – это Измавил очень остро и ярко почувствовал. И эта острота ощущений, которая позволила ему все это понять, как ни парадоксально, была результатом того странного зачарованного состояния, в какое он вошел, слушая Заратустру, его странные слова, которые, причудливо складываясь, открывали перед ним совсем другую сторону мира, ту сторону, где не было материальных потребностей и задач. Сейчас Измавил уже не сомневался, что человек этот действительно является сумасшедшим. Сумасшедшим не потому, что он говорил безумные вещи, которые действительно были истинными, сумасшедшим по тому, что он говорил их тем, кто никогда правильно не поймет его. Тут он вспомнил, что ему говорил Давид о жизни Заратустры в Индии. Там, в Индии его ученики, или, вернее сказать люди, которые называли себя его учениками, увлеченные тем, что говорил Заратустра, стали называть его Буддой, что значит просветленный. И эти же ученики, по прошествии короткого времени, стараясь, каждый по-своему, скорее всего в стремлении оправдать какие-то свои поступки или действия, стали трактовать нюансы всего, что им говорил этот человек. Все это привело к тому, что они стали враждовать между собой. Следствием этого стало то, что возникло много течений, того, что сейчас в Индии стало называться буддизмом.
Измавил представил, что такое же может произойти и в его царстве. Небольшие разногласия в обществе в период его стабильности, какая наблюдалась в Индии, никогда не бывают опасными. Эти разногласия в этот период даже полезны, так, как играя на них, правитель всегда может вести свою политику наиболее эффективно. Но в период когда обстановка напряжена, а в царстве Измавила это было именно так, из-за войск Искандера, стоящих у его границ, даже небольшие разногласия могли вылиться в большую смуту. Измавил понял, что многие его тайные недоброжелатели, прикрываясь теми красивыми идеями, которые проповедовал Заратустра, легко могут поднять чернь к бунту. Он остро и безжалостно понял, что если он хочет в корне пресечь ту смуту, в которую может вылиться все то, о чем уже наговорил этот безумец в его городе, у него, как у правителя, нет иного выбора, как публично осудить и казнить Заратустру. Его следовало объявить сумасшедшим и бунтовщиком. Он не сомневался, что суд, который будет рассматривать его дело, и без его участия примет такое решение, хотя бы из-за сильного давления верховного жреца, который был ярым противником всего, о чем говорил Заратустра.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!