Текст книги "«Непредсказуемый» Бродский (из цикла «Laterna Magica»)"
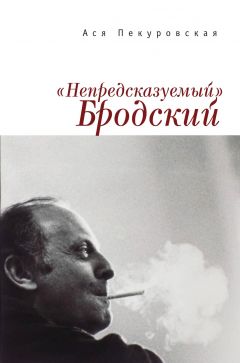
Автор книги: Ася Пекуровская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Бродский не держал в секрете того, что сочиняет по стишку к Рождеству. Однако роль Одена в этом решении оставалась в тени. Но, может быть, думала я, имя Одена включено в это имперское «мы», которое было для Бродского визитной карточкой? Комментируя использование таких помпезных слов, как «мы» и «моя светлость» в самом выгодном для Бродского свете, Лосев заканчивает свой комментарий словами: «и тогда появлялись конструкции вроде “к каждому Рождеству этот господин сочиняет стишок”».
Кто же «этот господин», который сочиняет стишок к Рождеству?
На этой ноте я уже готова была поставить точку. Но тут мне по электронной почте пришла запись беседы между Натальей Шарымовой и Владимиром Соловьевым, которую я частично воспроизвожу:
«Знаете, Володя, вроде бы я сделала в бродсковедении одно любопытное открытие. И, кажется, ни по-русски, ни по-английски о том, что я обнаружила, нет ни слова. <…>. Так вот, представляете, Роберт Фрост, начиная с 1929 года до самой смерти, выпускал к Рождеству небольшой буклетик-поздравление, который рассылался друзьям, коллегам, поклонникам и спонсорам. Этот проект начался по инициативе сотрудников издательства Holt, Rinehart and Winston, которое издавало книги Фроста. Кто-то из начальства позвонил Джозефу Блюменталю, владельцу Spiral Press, типографии с превосходной репутацией. Для этого первого буклета Блюменталь выбрал – похоже, сам, не ставя Фроста в известность – стихотворение “Christmas Trees”, написанное в 1920 году. Тираж – 250 штук. Роберт Фрост увидел у кого-то это поздравление и попросил типографа, с которым впоследствии подружился, прислать ему несколько буклетов. Так началось их сотрудничество <…>. Последнее поздравление было напечатано в 1962 году и разослано примерно за месяц до смерти поэта. Тираж – 16 555 штук».
Дальше Шарымова делает предположение, что Бродский мог видеть этот буклет еще до эмиграции, так как Фрост мог послать его в Россию по следам встречи с Ахматовой, Чуковским и Евтушенко в Москве и Ленинграде. Мне же представляется это маловероятным.[43]43
Визит Фроста в Россию подробнейшим образом запротоколирован Стюартом Л. Юдаллом, американским министром внутренних дел, в статье “Robert Frost’s Last Adventure” (New York Times, 11 июня 1972 года); и Ф. Д. Ривом, поэтом и переводчиком, в книге “Robert Frost in Russia” (1964 и 2001). Ни о каких рождественских буклетах там не было речи. Что касается возвращения Фроста в Штаты, оно было омрачено его провальным отчетом о полуторачасовой беседе с Хрущевым накануне Карибского кризиса и состоянием здоровья (Фрост умер в январе 1963 года).
[Закрыть] Но Шарымова может быть права, предполагая, что, став частью американского литературного истеблишмента, Бродский мог узнать о фростовской традиции. И в этой связи любопытно другое ее воспоминание.
«Бродского как-то в Нью-Йорке спросили, был ли он на выступлении Роберта Фроста 1962 года в Пушкинском Доме.
– Нет, – ответил Иосиф, – я был в это время в тюрьме».
В тюрьме Бродский, разумеется, не был, но, судя по воспоминаниям Владимира Уфлянда (замечает Наталья Шарымова), Бродский все же был на этом выступлении вместе с Уфляндом.
Как объяснить эту амнезию?
Поверить в то, что Бродский мог забыть о встрече с Фростом, в Ленинграде, невозможно, тем более что от него Людмила Сергеева узнала подробности встречи Фроста с Ахматовой.[44]44
Сергеева, Л. Об Анне Андреевне Ахматовой. Воспоминания с комментариями // Знамя. 2015. № 7.
[Закрыть] Но не мог ли он спустить тему на тормозах, опасаясь расспросов о выступлении Фроста? Ведь в 1962 году Бродский вряд ли знал что-либо о Фросте. Мне возразят, указав на литературный источник.
«Как вы впервые столкнулись с поэзией Фроста?» – спросил Бродского Соломон Волков.
«Это смешная история», – ответил Бродский и рассказал о своем знакомстве с рукописными переводами Андрея Сергеева и, в частности, со стихотворением «Сто воротничков» (“A Hundred Collars”). Он принял это стихотворение за апокриф какого-то московского гения. И лишь прочитав его в подлиннике в 1962 году, он понял, что это был, конечно же, Роберт Фрост.[45]45
Волков, С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Эксмо, 2006. С. 94.
[Закрыть]
Но насколько достоверна эта дата?
Стихотворение «Сто воротничков» было переведено Сергеевым по заказу журнала «Иностранная литература», возможно, в связи с предстоящим приездом Фроста в 1962 году.[46]46
Журнал «Иностранная литература». М., 1962. С. 32–39.
[Закрыть] И в лучшем случае Бродский мог прочитать его в русском варианте. Мне скажут, что английский текст он мог получить у того же Сергеева. Но с Сергеевым Бродский познакомился лишь в 1964 году.
Тут есть еще один нюанс.
Запись диалога о Фросте (глава 5) заняла у Волкова три года (с 1979 по 1982). Так что ни подготовка вопросов, ни сочинение ответов не были спонтанными. Но даже при таком раскладе Бродский умудрялся давать противоречивые ответы. В частности, в ответе на следующий вопрос мысль о том, что он читал Фроста в оригинале, уже забыта. «Облегчила ли работа в северной русской деревне понимание поэзии Фроста как фермерского поэта?» – спрашивает Волков и получает такой ответ: «Вообще в Союзе я три года прожил в сильной степени под знаком Фроста. Сначала переводы Сергеева, потом с ним знакомство, потом книжка Фроста по-русски. Потом меня посадили».[47]47
Волков, С. Op. cit. С. 97.
[Закрыть]
Так, я полагаю, обстояли дела с реальным знакомством Бродского с Фростом. В России Бродский не мог читать Фроста в оригинале. К слову сказать, диалоги о Фросте, которые занимают в книге Волкова около семнадцати страниц, изобилуют противоречивыми утверждениями, не говоря уже о трюизмах и повторах. Скажем, на странице 98 (см. книгу С. Волкова) Бродский утверждает, что «Фрост – поэт ужаса или страха. Это не трагедийный и не драматический поэт», и на той же странице он настаивает на противоположном: диалог Фроста – это «трагедия в греческом смысле, почти балет». На той же странице он ставит Фросту в заслугу то, что его диалоги фермеров не есть диалоги реальных фермеров, а есть «маски». Однако вымышленная («фиктивная»)[48]48
«К стыду своему, я никогда не мог продраться сквозь Cantos», – замечает Волков. «И не надо сквозь них продираться. Их даже руками трогать не надо. <…> на самом деле, это фиктивная реальность», – успокаивает его Бродский. (Волков, С. Op. cit. С. 210.)
[Закрыть] реальность Эзры Паунда оказывается непростительным грехом.
Но кто из этих двух поэтов, Оден или Фрост, мог оказать решающее влияние на Бродского? Возможно, Соломон Волков тоже хотел прояснить для себя этот вопрос, посвятив по главе на каждого из этих поэтов. И хотя диалоги об Одене заняли в книге Волкова 32 страницы, а их сочинение растянулось на пять лет, глубоких суждений вы там не найдете. Возможно, причину этого следует искать в том, что Волков сосредоточился на так называемом «мемуарном опыте», позволившем сводить разговор о «великом поэте» к воспоминаниям о его морщинистом лице, беспорядке его жилища, грязных ногтях, скверной репутации и т. д. Но и сам Бродский, кажется, уклонялся от возможности предложить об Одене осмысленный рассказ.
На вопрос Волкова: «Был ли разговор Одена похож на его прозу, т. е. простым, логичным, остроумным?», поступает следующий ответ: «Говорить по-английски не логично невозможно».[49]49
Ibid. P. 136.
[Закрыть] А дальше идет пространное рассуждение об английском языке, в котором Оден уже не упоминается. И все же из одного ответа Бродского можно вычислить код к прочтению его мемуарного опыта. На вопрос Волкова: «Какими были ваши разговоры с Оденом?», поступает многословный и уклончивый ответ, который сводится к тому, что Одена не интересовал диалог, а свои монологи он произносил быстро и малопонятно. Но в этом словесном потоке проскользнула одна значимая фраза: «наиболее горькой пилюлей моей жизни было то, что за время, что я был знаком с Оденом, мой английский был бесполезен».[50]50
Ibid.
[Закрыть] Конечно, слово «бесполезен» (useless) было всего лишь эвфемизмом. Бродский не знал английского языка и не мог быть интересен Одену как собеседник. И даже если предположить, что за год жизни в Америке Бродский мог устранить это препятствие, что невероятно, Оден уже не мог этого засвидетельствовать.
Но что именно ценил Бродский в поэзии Одена?
Он «добился нейтральности звука и нейтральности голоса. Нейтральность дается дорогой ценой. Она проявляется не тогда, когда поэт объективен, сух и отстранен. Она проявляется тогда, когда поэт соединяется со временем. Ибо время нейтрально. Существо жизни нейтрально».[51]51
Ibid. С. 142.
[Закрыть] Правда, когда Бродский спускался с «серафических» высот, если воспользоваться его же выражением, его ответ мог быть довольно прозрачным.
«В сущности, то, что ты любишь у такого поэта, как Оден, это не стихи. Конечно же, ты помнишь, ты знаешь наизусть, ты вбираешь в себя стихотворение, но ты вбираешь его в себя, и вбираешь его в себя, и вбираешь его в себя до тех пор, пока оно не начинает занимать в тебе больше места, чем ты сам. В моем сознании и в моем сердце Оден занимает гораздо больше места, чем что-либо и кто-либо на земле»,[52]52
Montenegro, D. An Interview with Joseph Brodsky // Partisan Review. 1987. N 4 (54). Р. 538–539.
[Закрыть] – замечает он в интервью с Дэвидом Монтенегро в 1987 году.
Попросту говоря, стихотворение воспринимается не через языковые пласты, а как поэтический Grandе Bouffe, то есть гурманское (наркотическое?) поглощение: «ты вбираешь его в себя, и вбираешь его в себя, и вбираешь его в себя до тех пор, пока оно не начинает занимать в тебе больше места, чем ты сам».
Такого рода «поглощение» за пределом слов Бродский мог испытывать не только к Одену. Например, Стивен Спендер, которого он вовсе не считал «великим поэтом», восхищал его «не столько поэзией, сколько манерой говорить, всем обликом». «Я помню свою реакцию: я почти потерял сознание, я был оглушен. Немногое производило на меня такое впечатление. Возможно, вид планеты с воздуха. Я сразу же понял, почему английский язык есть язык имперский».[53]53
Волков, С. Op. cit. С. 136.
[Закрыть]
Но не означает ли все это, что творческий опыт воспринимался Бродским исключительно через внешние атрибуты: костюм, манера разговора, оксфордский акцент, стиль жизни?
Глава 3
Непредсказуемый Бродский
Когда-то, еще в пору далекой молодости, я заметила за Иосифом одну восхитительную черту. То есть восхитительной она казалась мне и нашему кругу тех лет: литературной богеме тогдашнего Питера. Много позднее я вспомнила о ней при чтении строк Одена:
«Страсть признания, трусость духа / Сотрясают квартиру, где каждое ухо / Слышит свой голос, других же – вполуха».[54]54
«На вечеринке». Перевод мой. Вот эти строки в оригинале:
A howl for recognition, shrill with fear,Shakes the jam – packed apartment, but each earIs listening to its hearing, so none hear. См.: Auden, W. H. Collected Poems. Edited by Edward Mendelson. Faber and faber, 1991. P. 738.
[Закрыть]
Если переводчик Одена Андрей Сергеев мог когда-либо обмолвиться о нелюбви поэта к разного рода сборищам, что не исключено, то можно предположить, что Бродский поспешил сделать Одена моделью еще и для своего стиля жизни. Он стал появляться последним на сборищах, покидая их первым, причем в самый что ни на есть разгар веселья. «Он убегает от скуки», – думала я, и думали все мы. Тогда Иосиф появлялся у нас в обществе очень привлекательной и едва ли не самой остроумной из мне известных особы – Лорки Степановой. Не знаю, какие формы принимала их дружба, но Лорка была идеальной спутницей Бродского еще и потому, что сердце ее принадлежало другому мужчине.
«Тогда почему же все-таки он покидал веселые сборища, остроумную и очаровательную подругу, которая не могла его не интриговать своим к нему равнодушием? Нет, скукой это быть не могло… тогда чем же?»
Наряду с Бродским и чаще, чем Бродский, наши сборища посещали и другие «яркие личности»: Евгений Рейн, Анатолий Найман, Сергей Довлатов, наездами Василий Аксенов. Почему же они не порывались преждевременно уйти, а комфортабельно досиживали до позднего часа? Не потому ли, что обладали даром, которым не обладал Бродский? Возможно, они были балагурами и умели развлекать общество, тем самым развлекая и себя?
Так, значит, скука Иосифа могла быть своего рода хитоном… А под хитоном скуки и, если воспользоваться более расхожим словцом из лексикона самого Бродского, под маской хандры могло скрываться нечто другое… Быть может, оскорбленные, обиженные, ущербные чувства… Быть может, он бежал тех мест, где не был первым…
Вопрос этот, как оказалось, занимал не только меня.
«Бродский был стариком уже в шестидесятые, – писал мемуарист. – Уже тогда был лыс, уклончив, мудр и умел себя поставить. Создать ощущение недоступности. Как-то мы ждали его в Москве на день рождения к поэту и ученому Славе Льну на Болотниковскую улицу. Он приехал только тогда, когда мы уже перестали его ждать. Драматически вовремя, когда мы израсходовали уже все душевные силы, из темноты, из-за двери в квартиру появился он – в кепке, боком как-то – обыкновенный гений, в сопровождении компаньона, случайной личности. Кажется, это был 68-й год. Прикрывшись насмешливостью (на самом деле, по-моему, он нас боялся, пьяных, московских), он поспешно с нами поздоровался, чего-то выпил, что-то съел, съязвил по какому-то поводу, успел надерзить нескольким красавицам и удалился в “его комнату”: оказывается, он собирался тут переночевать…
Позднее, уже в Америке, я заметил, что Иосиф уходит с тусовок очень рано, всегда, – как будто поставил себе за правило уходить. Я уверен, что ему не хотелось покидать людей, но он насиловал себя. Небольшой, тщательно продуманный набор привычек создавал ему пьедестал, делал его живым памятником… Я убежден, что ему хотелось поговорить, остаться, ввязаться в пьяный спор, дышать жарким потом пьяненьких юных поэтесс, дерьмовыми сигаретами, но он уходил: положение обязывало. А может, он всю жизнь боялся людей, потому и общался только с проверенными».
Наблюдательному Эдику Лимонову, а я цитировала именно его, было достаточно случайных встреч, чтобы создать шаржированный портрет поэта: «старик», живущий по правилам и вопреки желаниям; «продуманный набор привычек создавал ему пьедестал». Чтобы быть заметным, Бродский покидал сборища первым и являлся на них последним.[55]55
Говоря об опозданиях Бродского, Соломон Волков подчеркивает существенную деталь: «Тут важно, заметьте, сознательно человек опаздывает или не сознательно. Такое ожидание используется как дополнительное орудие… тебя нужно ждать. В какой-то момент даже потерять надежду. И тут ты появляешься – ко всеобщей радости». Чайковская, И. «Нрава он был не лилейного» Беседа об Иосифе Бродском с писателем и культурологом Соломоном Волковым // Семь искусств. 2013 (нояб.). № 11 (47). С. 5.
[Закрыть] Чтобы чем-то выделиться, он искал для себя эскорта, случайного компаньона (денщика, оруженосца, слугу, двойника?). И эта продуманность поз (масок?), отмеченная Лимоновым, прочитывается даже в тщательно выписанной мемуарной прозе.
Откроем «Набережную неисцелимых» (“Watermark” в оригинале).
«Таким образом, там праздновалось вхождение [хозяина] в наследство, а также сообщение в прессе о выходе его книг о венецианском искусстве. Празднество было уже в полном разгаре, когда мы прибыли втроем – его коллега-писатель, ее сын и я. Собрание было многолюдным. Местные и почти международные знаменитости, политиканы, знать, театральная толпа, бороды и галстуки а-ля Аскот, любовницы разной степени пышности, звезда велосипедист, американские ученые».[56]56
Brodsky, J. Watermark. Op. cit. P. 49–50. Перевод мой.
[Закрыть]
Как и Лимонов, Бродский описывает некое сборище. Лимонова интересует, конечно же, Бродский. Бродского же интересует хозяин, отмечающий свое «вступление в наследство» и выход книги, широко рекламируемой прессой. Можно сказать, оба сюжета совпадают лишь в случайных деталях. Но так ли это? Хозяин для Бродского является моделью для сатирического портрета. Но разве Бродский не привлекает Лимонова тем же? Оба автора прослеживают у своих моделей несоответствие выставляемым напоказ образам:
«…что бросалось в глаза в этом сорокалетнем – тонком, невысоком существе в сером двубортном костюме очень хорошего покроя – было то, что он выглядел больным. Кожа выказывала следы гепатита, пергаментно-желтая, или, может быть, это была всего лишь язва»,[57]57
Brodsky, J. On Grief and Reason. Op. cit. P. 49. Перевод мой.
[Закрыть] – пишет Бродский, возможно, вспомнив Лимонова, когда-то увидевшего в нем тридцатилетнего старика. И именно возраст «хозяина» в памяти Бродского и самого Бродского в мемуаре Лимонова был тем фактором, который диктовал мемуаристам мысль о физическом и духовном нездоровье их моделей. «Уже тогда был лыс, уклончив, мудр и умел себя поставить», – пишет о Бродском Лимонов.
Но два нарратива пересекаются и за пределами портретного сходства.
Бродский появился на сборище только тогда, когда его не ждали, уже не ждали в Москве и вовсе не ждали в Венеции, верен привычке появляться «драматически вовремя», т. е. когда душевный заряд гостей и хозяев уже израсходован. Он выплыл «из темноты» и в Москве, и в Венеции, «как обыкновенный гений, в сопровождении компаньона, случайной личности».
Продуманность взятых на себя поз и масок могла не быть уникальным свойством Бродского. Но уникальным было уважение к позе.
Где-то в 81 или 82 году я заканчивала пятилетний срок преподавания в маленьком колледже на Западном побережье. Моя коллега, обладавшая огромным талантом по части создания помпезного фасада, получила tenure вместо меня. А чтобы взять реванш за пять лет моего к ней полного небрежения, организовала выступление Бродского, которое я своим присутствием не почтила. Возможно, чувствуя себя неловко за то, что поспешил принять приглашение моей «соперницы», Иосиф пришел на следующий день ко мне домой. И вот тогда, беседуя o том и о сем, он мне сказал, что его привлекает моя коллега своей непредсказуемостью.
Я была поражена. Как можно было назвать непредсказуемой воплощенную ординарность?
Когда Бродский ушел, я открыла 17-томный словарь русского языка и поразилась тому, что слово «непредсказуемость» в нем отсутствовало. Его не оказалось и у Владимира Даля. Неужели этим словом не пользовался до Бродского ни один русский автор?
А как обстоит дело с его антонимом – предсказуемостью?
«Предсказать», пишет Даль, это значит, «наперед, заранее объявить, сказать то, что будет, что должно случиться, исполниться». Предсказание есть «пророчество». Но ключевым здесь является звуковой аспект (сказать наперед). Важно не то, что подсказывает оратору зрение или осязание, но то, что он провозгласил или, вернее, пред-возгласил до того, как к чему-то прикоснулся: зрительно или осязательно). Конечно, при таком сугубо мистическом толковании слово «не-предсказуемость» должно было означать отмену всякого пророчества, прорицания, гадания, отмену рекламных лозунгов и плакатов, чего, как видно, русский менталитет Даля допустить не мог.
Но как эту проблему могли решить немцы или, скажем, французы?
Le Petit Larousse дает иное определение слова imprйvisible и его синонима enprйvoyable. Француз не пред-СКАЗывает, а предВИДИТ, т. е. заранее определяет для своего глаза то, чего еще не увидел глаз другого. Возможно, с определением слова «непредсказуемость» французы связывают свое великое прошлое, в котором доминировало научное мировоззрение. (Не)предсказуемость понимается в контексте научного прогнозирования.[58]58
Однако при этом слово imprйvisible вообще отсутствует в словаре XIX века (как, например, свидетельствует французско-русский словарь Макарова 1890 года), в то время как слово enprйvoyant хотя и присутствует в нем, но переводится на русский язык как «непредупредительный (неучтивый)».
[Закрыть]
В немецком языке значение слова Vorhersehbar совпадает со значением французского слова imprйvisible, возможно, тоже из-за ориентированности на научное мировоззрение. Правда, дополнительно в немецком языке существует в качестве синонима непредсказуемости слово Unberechenbar, т. е. буквально «не подлежащее подсчету». Эквивалента этому понятию ни в русском, ни во французском языках я не нашла.
Прощаясь со мной на пороге, Иосиф сказал в утешение:
– Когда я ушел из школы, я не переставал перед всеми оправдываться: мол, ушел, чтобы не быть нахлебником у родителей, что, разумеется, было чистой воды блефом. Но после того, как меня выкинули из страны, я перестал оправдываться. Я был благодарен всем, кто меня, если угодно, выставлял из дома. Думаю, и тебе еще придется благодарить тех, кто устроил тебе этот вышибон.
Слова Иосифа оказались пророческими. Я не устаю благодарить всех, для кого мое общество оказалось тесным. Я благодарна им за то, что они научили меня сражаться за собственную самодостаточность и далее за привилегию быть сочинителем без аффилиаций. Я не устаю благодарить их за то, что никто не ждет от меня отчета, не принуждает оправдываться, угождать, льстить, что я могу заботиться лишь о тех, кому моя забота может пойти на пользу.
Но какой смысл в понятие «непредсказуемость» мог вкладывать сам Бродский?
Глава 4
Старые кумиры
“The Keening Muse” (1982), эссе об Ахматовой, было сочинено Бродским примерно в то же время. «Ничто не выдает слабости поэта, нежели классический стих, и поэтому он него почти все отказываются. Добиться того, чтобы одна или две строки прозвучали непредсказуемо, не производя комического эффекта и не повторяя кого-то другого, очень сложная задача»,[59]59
Бродский, И. Меньше единицы. New York: Farrar, Strauss & Giroux, 1986. С. 37. Перевод мой.
[Закрыть] – писал Бродский, воздавая Ахматовой хвалу за то, что она сумела сохранить классический стиль, оставшись непредсказуемой. Но была ли это реальная похвала?
«Иосиф откровенно говорил нам, что не очень любит ее поэзию. Ахматова, чрезвычайно проницательная в том, что касалось отношения людей к ее стихам (это ставило их порой в затруднительное положение), видела, что его поэзия решительно отличается от ее собственной, обманчиво простой. Иосиф пересказал мне ее слова: она не верит, что мне может нравиться ее поэзия. Я, разумеется, галантно возражал»,[60]60
Тисли, Э. Op. cit. С. 23. Эллендея Тисли, жена покойного Карла Проффера, будет встречаться в тексте под фамилией Проффер.
[Закрыть] —вспоминает Эллендея Тисли.
Отвечая на вопрос Дэвида Монтенегро (1987) о роли Ахматовой в его творчестве, Бродский нашел иную, но не менее «галантную», форму уклончивого ответа. Ахматова помогла «предельно развить во мне способность к любви»,[61]61
Montenegro, D. Op. cit. Р. 538–539.
[Закрыть] – сказал он. И это было уже предательством, ибо отсылало читателей к репутации Ахматовой как поэта любовной лирики, несправедливо преследующей ее. Зная, как болезненно Ахматова переживала эту репутацию, Бродский несколько раз возвращается к данной теме в эссе “The Keening Muse”. «Любовные стихи Ахматовой были, естественно, в первую очередь, просто стихи. Помимо всего прочего, они имели потрясающее свойство романов, позволяя читателю замечательно убивать время, следя за развитием различных перипетий и испытаний их героев. (Некоторые так и поступали, и на основании этих стихов питали свое воображение “романтическими отношениями” их автора с Александром Блоком – поэтом этого периода, – а также с самой особой Его Императорского Величества.)»[62]62
Brodsky, J. Less than One. P. 44–45. Перевод мой.
[Закрыть]
Бродский мог не знать, что его оценки творчества Ахматовой повторяли мысль автора статьи «По литературным водоразделам», напечатанной 27 октября 1925 года в газете «Жизнь искусства». «Все изощренное качество ахматовской лирики явилось как результат долговременного, тщательного, кропотливого приспособления любовно-романтической темы к привередливому спросу социально обеспложенной части дореволюционной интеллигенции. Такие социальные кастраты <…> населяют еще и наши дни, и это они упоенно перебирают ахматовские “Четки”, окружая писательницу сектантским поклонением»,[63]63
Ахматова, А. Pro et contra. Антология. Т. 1. СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 2001. С. 695–696.
[Закрыть] – писал автор статьи В. Перцов. И Ахматовой, которая вряд ли могла забыть инвективу Перцова, сильно повезло, что она не дожила до того дня, когда эта инвектива будет повторена ее любимым протеже. А любимый протеже Ахматовой, скорее всего, не читавший статьи Перцова, все же не мог не знать того, что было сказано об Ахматовой в докладе А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». «Это – поэзия десяти тысяч верхних слоев старой дворянской России, обреченных, которым ничего уже не осталось, как только вздыхать “по доброму старому времени”».
И все же современников Бродского, видимо, не оставляла мысль получить признание поэта о влиянии Ахматовой на его поэтическое мастерство. Возможно, памятуя о тех временах, когда Бродский был, по собственному признанию, «абсолютный дикарь, дикарь во всех отношениях – в культурном, духовном», Адам Михник (1995) задает Бродскому уже ставший каверзным вопрос: «Какие уроки Вы получили у Ахматовой?»
«Она просто могла многому научить. Смирению, например, – поступил ответ. – Я думаю – может быть, это самообман, – но я думаю, что во многом именно ей я обязан лучшими своими человеческими качествами. Если бы не она, потребовалось бы больше времени для их развития, если б они вообще появились».
Как видим, обретя самостоятельность, Бродский уже не помнит о том, что был приобщен к культуре и введен в творческую элиту тогдашнего Петербурга именно Ахматовой.[64]64
Бродский познакомился с Ахматовой в августе 1961 года. По рекомендации Ахматовой он отправился в Псков, где встретился с Н. Я. Мандельштам, а в 1963 году у Ахматовой же он познакомился с Лидией Чуковской. Частые поездки к Ахматовой в Комарово закончились тем, что Бродский, по ее же рекомендации, поселился на даче у великого генетика Раисы Львовны Берг. В поселке Комарово, построенном по указанию Сталина для физиков и математиков, к тому времени селились не только академики («отец советской физики» А. Ф. Иоффе или великий математик В. И. Смирнов), но и представители других творческих профессий: композитор Д. Д. Шостакович, германист В. М. Жирмунский, главный режиссер БДТ Г. А. Товстоногов, незабываемая актриса Ф. Г. Раневская и т. д. Едва ли не в полном составе эти выдающиеся личности стали активными защитниками Бродского.
[Закрыть]
И все же в расхожих оценках читателей Бродский остается восторженным учеником Ахматовой, каким он, вероятно, видел себя через год после их знакомства, когда сочинил стихотворение ко дню ее рождения, 24 июня 1962 года. Вот выдержка из него:
Но на Марсовое поле дотемна
Вы придете одинешенька одна,
В синем платье, как бывало уж не раз,
Но навечно, без поклонников, без нас…
Вы поднимете прекрасное лицо —
Громкий смех, как поминальное словцо,
Звук неясный на нагревшемся мосту —
На мгновенье взбудоражит пустоту…
В теплой комнате, как помнится, без книг,
Без поклонников, но там Вам не до них,
Опирая на ладонь свою висок,
Вы напишете о нас наискосок.[65]65
Для английской версии я перевела эти строки так:
But in the Mars Field before the fading sunYou will come alone, an unescorted, one,In а blue dress, as it happened times again,But forever short of us, short of your fans.You’ll raise your ravishing visage —Loud laughter as a tribute or presage,Fuzzy hubbub on a heated overpassFor a moment will excite and swiftly pass.I look back on to a warm room, with.no books,No admirers, by hook or may be crook,You’ll rest your fair temple on your palmAnd will write about us a slanted psalm.
[Закрыть]
Но, увы, подлинный энтузиазм 1962 года вскоре сменился признанием, что, прочитав «Поэму горы» в возрасте 20 лет, Бродский не мог вернуть Ахматовой своих прежних чувств. А восхищение Цветаевой началось с того, что она узаконила для Бродского горделивую веру в себя и, пользуясь словарем Бродского, подарила ему «эго чудовищных размеров»:
«Кто создан из камня, кто создан из глины, / А я серебрюсь и сверкаю! / Мне дело – измена, / мне имя – Марина, / Я – бренная пена морская.
Кто создан из глины, кто создан из плоти – / Тем гроб и надгробные плиты… / В купели морской крещена – и в полете / Своем – непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети / Пробьется мое своеволье. / Меня – видишь кудри беспутные эти? / Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные ваши колена, / Я с каждой волной – воскресаю! / Да здравствует пена – веселая пена – / Высокая пена морская!»[66]66
Вот мой перевод для английской версии: “One’s made out of stone, / the other from clay, / And I, like а coinage, twinkle! / My name is Marina, my thing is betrayal, / I’m fragile, like ocean’s wrinkle. Who’s cast our of clay, and forged out of flesh / Will rest under tombstones in caskets. / And I am baptized in the ocean’s mesh. / While flying, I break like a basket. I’ll break into pieces by each granite grip, / But will resurrect with new ripples. / So, long live the ravishing lotion – / The jovial foam of the ocean!” I shatter, I smash with my glorious will / All hearts, every net made of steel / And (look at my naughty and sensuous curls!) / I’ll not be the salt of the earth.
[Закрыть]
Впрочем, Цветаевой Бродский обязан открытием для него особого зрения. Она поразила его умением «переворачивать категории привычного познания или ожиданий читателя, обратив нас в странников, севших на мель здесь и сейчас, и блуждающих, как души Рильке, в эмпиреях запредельности. Это смелый гамбит с ее стороны, потому что мы привыкли к трауру по мертвым, визуализируя потери с нашей точки зрения, хотя наша печаль по-другому должна быть изгнана из этого мира (т. е. бельканто, элемент самовозвышения, которого Бродский так страшится. – А. П.). Цветаева, которая, безусловно, обладала эго чудовищных размеров, предвидела возможность того, чтобы отделить себя от других скорбящих и поместить себя в качестве глаза, который видит все так, как это представляется покойному Рильке».[67]67
Brodsky, J. Less. than One. Op. cit. P. 219.
[Закрыть]
Это зрение, как увидим, будет использовано Бродским в стихотворении «На смерть Элиота» (см. сноску 151). Возможно, имея в виду это зрение, Дэвид Бетея отметит у Бродского «замечательное свойство говорить о настоящем, описывая его отсутствие, то, чего уже нет». Оно станет приемом, «mutates mutandis незаменимым в поэтике Бродского».[68]68
Bethea, D. M. Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton: Princeton University Press, 1994. С. 180. Перевод мой.
[Закрыть]
Но не за горами было то время, когда для Цветаевой, как когда-то для Ахматовой, было припасено «галантное возражение». Его «галантность», как и в случае Ахматовой, заключалась в том, что под покровом сомнительной похвалы в нем скрывалось откровенное неодобрение. «Слово Цветаевой не строится по логическим законам. Оттого-то ей невозможно подражать»,[69]69
«Помню, однажды я находился под огромным впечатлением от некоторых поэм Цветаевой. И я решил написать стихотворение в подражание Цветаевой <…> И я понял, что мне это не удается, что я должен либо войти в огромный эмоциональный раж (и, полагаю, я не мог его в себе отыскать), либо заполнить этот недостаток синтаксическими средствами, но это было бы своего рода само-отторжением <…> Это было просто-напросто не моим делом. И я понял, что я не могу превзойти ее. И я отказался от этого соблазна». Interview with Аuthor, South Hadley, Mass, 28–29 March 1991.
[Закрыть] – говорил он, имея в виду (продолжаю я за него), что Цветаева непредсказуема. И эту оценку можно было бы назвать одобрительной, если не знать, что Бродский начал свою поэтическую карьеру с эпигонства Цветаевой, каковым является его поэма «Шествие» (см. сноски 141, 142), и что его отношение к этой поэме прошло те же стадии, что и его отношение к Цветаевой, – от восторга до отторжения.
Получается, что чем прочнее в сознании Бродского укреплялась мысль о собственной неповторимости, тем охотнее он отрекался от влияний поэтов, которыми восхищался в юности. Постепенно Ахматова, Цветаева и даже Оден утрачивали свой статус идеальных моделей, а Бродский чувствовал свое равенство с ними и порой даже превосходство. Это смещение могло строиться по уже упомянутой жираровской модели миметического желания, в которой особую роль играет дистанция. Пока духовная дистанция между идеальной моделью и субъектом достаточно велика (Жирар называет ее внешним посредничеством), субъект готов восхищаться выбранной моделью. Однако по мере уменьшения духовной дистанции (внутреннее посредничество, по Жирару) модель становится соперником и даже врагом субъекта.[70]70
«Мы говорим о внешнем посредничестве, когда дистанция достаточна для того, чтобы устранить две сферы возможностей, в которых и посредник и субъект занимают центральное положение. Мы говорим о внутреннем посредничестве, когда это расстояние достаточно сокращено, чтобы позволить обеим сферам проникать друг в друга более или менее глубоко». Girard R. Op. cit. С. 9.
[Закрыть]
При внешнем посредничестве субъект открыто признается в своем восхищении моделью и открыто объявляет себя последователем, в то время как при внутреннем посредничестве он уже старается тщательно скрыть факт подражания.









































