Текст книги "«Непредсказуемый» Бродский (из цикла «Laterna Magica»)"
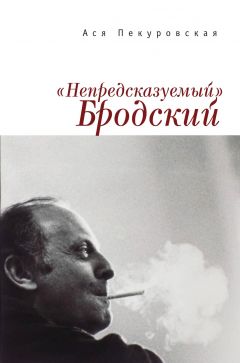
Автор книги: Ася Пекуровская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 8
«Из него раздаваться будет лишь благодарность»
В день своего сорокалетия (24 мая 1980 года) Бродский пишет «итоговое» стихотворение. Вот этот текст:
Я входил, вместо дикого зверя, в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.[127]127
Вот перевод Бродского:
I have braved, for want of wild beasts, steel cages,carved my term and nickname on bunks and rafters,lived by the sea, flashed aces in the oasis,dined with the devil-knows-whom, in tails, on truffles.From the height of a glacier I beheld half a world, the earthlywidth. Twice have drowned, trice let knives rake my nitty-gritty,Quit the country, that bore and nursed me.Those who forgot me would make a city.I have waded the steppes and saw yelling Huns in saddles,worn the clothes nowadays back in fashion in every quarter,planted rye, tarred the roofs of pigsties and stables,guzzled everything save dry water.I’ve admitted the sentries’ third eye into my wet and fouldreams. Munched the bread of exile; it’s stale and warty.Granted my lungs all sounds except the howl;switched to a whisper. Now I am forty.What should I say about my life?That it’s long and abhors transparence.Broken eggs make me grieve; the omelette,though, make me vomit.Yet until brown clay has been rammed down my larynx,only gratitude will be gushing from it.
[Закрыть]
Бродский сам перевел это стихотворение на английский язык и, не испытывая особого доверия к переводчикам, сочинил в их честь изящный памфлет, который не забывал повторять при каждом удобном случае: «сначала вы им доверяете, и они вас убивают; затем вы им не доверяете, и они вас убивают; и наконец вы просите их вас убить (мазохистское решение), и они вас убивают». Конечно, памфлет Бродского терял свою остроту при мысли о стиле перевода, который он изобрел для себя в то самое время, когда он был всего лишь переводчиком чужих мыслей.
«Он переводил очень точно первую строчку и последнюю, соблюдал размер, количество строк, а внутри мог наполнять чем-то своим. Андрей Сергеев утверждает, что вот такое стихотворение Иосифа Бродского “Деревья в моем окне, в деревянном окне…” (1964) произошло от [перевода стихотворения] Фроста “Дерево у окна” (Tree at my Window)».[128]128
Интервью Майи Пешковой с Людмилой Сергеевой // Эхо Москвы. 2010 (22 мая). Лосев утверждает, ссылаясь на Якова Гордина, что Бродский называл свое стихотворение «вариацией» на стихотворение Фроста. См.: Лосев, Л. Op. cit. P. 101.
[Закрыть]
Как бы то ни было, но перевод Бродским итогового стихотворения не был одобрен англоязычной аудиторией, несправедливо, как полагал сам Бродский, и незаслуженно, как полагали его многочисленные поклонники.
Но о чем пожелал Бродский начать разговор в день своего сорокалетия? Нет ли там отголосков другого юбилейного стишка, написанного в заключении 24 мая 1965 года?
Ночь. Камера. Волчок
хуярит прямо мне в зрачок.
Прихлебывает чай дежурный.
И сам себе кажусь я урной,
куда судьба сгребает мусор,
куда плюется каждый мусор.
Колючей проволоки лира
маячит позади сортира.
Болото всасывает склон.
И часовой на фоне неба
вполне напоминает Феба.
Куда забрел ты, Аполлон![129]129
Вот текст для английской версии:
Night. Camera. A beeperblows right into my peepers.The duty man sips tee in turnAnd to myself I seem an urn,where my fate rakes all its litterfor every cop and every spitter.The Barbed wire’s outletTakes shape behind the toilet.The swamp envelops sloping globeThe watchman that resembles PhoebusReclines against the skies his poll.Where did you wonder, hey, Apollo!
[Закрыть]
И пожелай биографы Бродского, скажем, Лосев, вспомнить об этом стишке, им пришлось бы как минимум задаться вопросом о том, почему 15 лет спустя Бродский все же пожелал снова «войти, вместо дикого зверя, в клетку», снова вспомнить, как он «впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя»? Но вместо этого Лосев видит в юбилейном стишке 1980 года патетический мотив изгнания, взятый из «Божественной комедии» и, в частности, из строк семнадцатой песни «Рая»,[130]130
Ты будешь знать, как горестен устамЧужой ломоть, как трудно на чужбинеСходить и восходить по ступеням.(Данте, А. Божественная комедия. Рай. Песнь 17, строки 48–51.)
[Закрыть] перекличку с Гейне («Так мы спрашиваем жадно / Целый век, пока безмолвно / Не забьют нам рот землею… / Да ответ ли это, полно?»)[131]131
Вот мой перевод для английской версии: “So we ask with greed and lust / All our century, alas, / Until someone, holding sway / Does not score our mouth with clay”.
[Закрыть], с Ахматовой («Рот ее сведен и открыт, / Словно рот трагической маски, / Но он черной замазан краской / И сухою землею набит»)[132]132
Для английской версии я перевела эти строки так: “And her lips in a muscular cramp, / Like a mask of a tragic ham, / Had been smeared with jet-black dye / And filled with the earth roasted dry”.
[Закрыть] и с Цветаевой: («Дерном-глиной заткните рот»)[133]133
Для английской версии я перевела эти строки так: “Muzzle the mouth with the turf and clay”.
[Закрыть]; «Издыхающая рыба / Из последних сил спасибо <…> / Пока рот не пересох / Спаси – боги! Спаси Бог!»[134]134
Для английской версии я перевела эти строки так: “And the fish that slips away / Thanks from its last drag sway <…> / Till its mouth isn’t dried up / Save me, gods! God, save us!”
[Закрыть]
Продолжая тему литературных аллюзий, начатую Лосевым, Валентинa Полухина отмечает тему благодарности за прошлое. Бродский «не проклинает прошлое, не идеализирует его, а благодарит. Кого? Судьбу? Всевышнего? Жизнь? Или всех вместе?»[135]135
Полухина, В. «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (1980) // Как работает стихотворение Бродского. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 34.
[Закрыть] Но вопрос, о каком прошлом идет речь, остается незаданным. И именно на незаданный вопрос: ЗА ЧТО благодарит Бродский судьбу, – Валентина Полухина дает произвольный ответ.
«Благодарить ему в свой юбилейный год было за что. В конце 1978 года поэт перенес первую операцию на открытом сердце (“бывал распорот”) и весь 1979 год медленно выздоравливал (мы не найдем ни одного стихотворения, помеченного этим годом). В 1980 году вышел третий сборник его стихов в английском переводе, удостоенный самых лестных рецензий, и в этом же году его впервые выдвинули на Нобелевскую премию, о чем он узнал за несколько недель до своего дня рождения».[136]136
Ibid. С. 25.
[Закрыть]
Однако пожелай Бродский поблагодарить судьбу за жизненные блага, как это представляется Полухиной, стихотворение вряд ли могло бы вызвать читательский интерес. Но то-то и оно, что речь там идет о жизненных испытаниях, которые, как выясняется, не вызвали большого доверия у некоторых читателей.
Жизненные испытания Бродского, претендующие на трагизм, писал Солженицын, сделав при этом поправку к своим прежним оценкам поэзии Бродского,[137]137
«Ни в одном русском журнале не пропускаю Ваших стихов, не перестаю восхищаться Вашим блистательным мастерством. Иногда страшусь, что Вы как бы в чем-то разрушаете стих, – но и это Вы делаете с несравненным талантом», – писал Солженицын в 1977 году. В том же 1977 году Бродский с не меньшим восторгом комментирует выход из печати английского издания «Архипелага ГУЛАГа», а в другие времена приветствует появление «Ивана Денисовича» и «Ракового корпуса». Однако, когда оба критика стали нобелевскими лауреатами, взаимные восторги сменились более трезвыми суждениями. Мысли Солженицына оказались, в оценке Бродского, «монструозными бреднями», а творчество Бродского, в оценке Солженицына, – лишенным мировоззрения. Биограф Бродского Лев Лосев возводит этот конфликт, по большей части личностный, в событие исторической важности, толкуя его в терминах расхождения между славянофилами и западниками.
[Закрыть] не дотягивают до трагических. Возможно, критика Солженицына и была справедливой. Но какое отношение могла она иметь к толкованию стихотворения, если задача стихотворения осталась даже несформулированной?
«Бродский рассказывает свою историю не по правилам, ошибочно пользуясь активным глаголом», – пишет другой рецензент, Наум Коржавин, нацеливший свою критику именно на «задачу стихотворения». «Если входил, то кого благодарить? Себя самого? В том-то и дело, что здесь должно быть не “я входил”, а меня вталкивали, сажали, запихивали – что угодно… Меня сейчас интересует соответствие этих впечатлений не фактам биографии, а только задаче стихотворения. Дело не в нескромности, а в неточности».
Но упрек Коржавина в неточности, т. е. в упущении, строился всего лишь на одном примере. А вместе с тем подмена глагольного залога коснулась не только строки «Я входил вместо дикого зверя в клетку», но и других строк («Бросил страну, что меня вскормила» и «Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя»). И будь подмена пассивного залога активным была частью замысла, в чем же мог сам автор видеть задачу данного стихотворения?
В той же статье Валентина Полухина вроде бы делает уступку своей мысли о благодарности за жизненные удачи и отмечает внутренний разлад авторского «я».
«С одной стороны, стремление избежать самодраматизации заставляет поэта отдавать предпочтение самоуничижительным описаниям своих действий <…>. С другой стороны, имеет место здравомыслие, уравновешенность, почти философское спокойствие <…> поэт не только принимает все, что с ним случилось, но и берет на себя даже то, что ему навязали другие. Этот жест гордой души заметен уже в самом зачине. “Я входил вместо дикого зверя в клетку”, а не меня посадили в клетку, как дикого зверя, потому что сочли опасным. Нежелание считать себя жертвой (опасный зверь – не жертва) заставляет Бродского отказаться от традиционной метафоры несвободы – “птица в клетке” – и традиционного символа поэта как птицы. Столь сложный психологический жест можно различить и во фразе: “[Я] бросил страну, что меня вскормила”, а не страна изгнала меня. За этой простой грамматической трансформацией пассива в актив видно немалое усилие воли, продиктованное этикой самоосуждения и смирения».[138]138
Полухина, В. Op. cit. С. 25.
[Закрыть]
Я соглашусь, что подмена пассивной глагольной формы на активную входит в задачу стихотворения. Но с какой целью? Обратим внимание, что в заключительных строках стихотворения, которые читатель, возможно, воспринял как кульминацию трагических жизненных коллизий («Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность»), нет этой подмены пассивного глагола активным.
Тогда за что поэт благодарит судьбу?
Не следует упускать из вида, что мысль о благодарности появляется лишь в заключительных строках стихотворения, рифмуясь со словом «солидарность». Но солидарность с чем? «Только с горем я чувствую солидарность», поступает ответ, в котором, скорее всего, сформулирована не только задача итогового стихотворения, но и заявка на новое осмысление поэзии: поэзия должна быть трагической. И тут уже не важно, дотягивают ли до трагических реальные жизненные испытания. Трагическая нота должна быть вплетена в сюжет.
Но и это новое осмысление поэзии, если припомнить, не впечатлявшее Набокова, не избежало парадокса. Строка о солидарности с горем (третья строка от конца в русском оригинале (см. сноску 127))[139]139
Для английской версии я перевела заключительные строки так: What should I say about life? It was not too short. Only with grief I feel an accord. But as long as my larynx isn’t rammed with loam, None but gratitude from it will loom.
[Закрыть], оказалась вымаранной из автоперевода итогового стихотворения и замещенной двумя другими, которых в русском оригинале нет и быть не моглo:
Разбитые яйца остаются, как горестная нота, Хотя вид омлета вызывает у меня лишь рвоту.[140]140
Перевод мой. Вот оригинал автоперевода Бродского: “Broken eggs make me grieve; the omelette, though, make me vomit”.
[Закрыть]
Но как объяснить решение Бродского поместить тему благодарности в этот новый контекст? Быть может, он просто не мог найти рифмы «благодарность / солидарность» в английском языке? Но возможно и другое объяснение. Если в итоговом стихотворении тема благодарности получила новое (трагическое) осмысление, то уместно спросить: как Бродский толковал эту тему в более раннем творчестве?
Припомним строки из поэмы «Шествие» (1961), в котором первая строка представляет собой цитацию из Лермонтова («За все, за все Тебя благодарю я…»):
Пора давно за все благодарить,
За все, что невозможно подарить.
Когда-нибудь кому-нибудь из вас
И улыбнуться, словно в первый раз,
В твоих дверях, ушедшая любовь,
Но невозможно улыбнуться вновь.[141]141
Мой перевод для английской версии таков:
It’s time to thank for all on one’s accordFor all that are not easy to awardOn any day, for any of you, homies,And then to smile as if for the first momentIn your door steps, my love whom someone gained.But it’s impossible to ever smile again.
[Закрыть]
Хотя речь здесь идет о реальной утрате, утрата эта представлена в виде театрального действа с танцующими и поющими актерами. Автор видит себя и хореографом, и оперным постановщиком. В его либретто даже предусмотрены голоса: «баритон, альт».
Вот Арлекин толкает свой возок,
И каплет пот на уличный песок,
И Коломбина машет из возка.
А вот скрипач, в руках его тоска
И несколько монет. Таков скрипач.
А рядом с ним вышагивает Плач,
Плач комнаты и улицы в пальто,
Блестящих проносящихся авто.
Плач всех людей. А рядом с ним Поэт,
Давно не брит и кое-как одет
И голоден, его колотит дрожь.
А меж домами льется серый дождь,
Свисают с подоконников цветы,
А там внизу вышагиваешь ты.[142]142
Вот мой перевод: Here’s Harlequin. He prods his little wagon, His sweat is dripping on a road’s sago, And Columbine is waving with caress. A fiddler follows them, his hands convey distress And carry coins. Such is the violinist. And next to him patrols the Crying Fit The crying fit of rooms in winter coats, Of passing speedily the glimmering autos, The crying fit of people. Next’s a Poet Unshaven, in a derelict manteau. He’s hungry, shaken by a quaver. And gloomy rain between the houses wavers. From window sills the flowers are dangled And down below your pace is all entangled.
[Закрыть]
Мне скажут: троекратно повторенное слово «плач» и строка «его колотит дрожь» создают эмоциональный тон, никак не вяжущийся с режиссерскими указаниями. Но дело в том, что режиссерские указания, сводящие поэму к фарсу, появились позже, вероятно, тогда, когда Бродский уже не считал «Шествие» своим лучшим произведением.[143]143
Когда первое чтение «Шествия», происходившее в доме Довлатова, закончилось фиаско, Бродский демонстративно покинул сборище, бросив напоследок: «Прошу всех запомнить, что сегодня освистали гения». Пекуровская, А. Когда случилось петь С. Д. и мне. СПб.: Симпозиум, 2001. С. 124.
[Закрыть] Однако именно режиссерские указания, которых в окончательном тексте поэмы нет, как раз и проясняют значение благодарности в «Шествии».
Нет ли здесь параллели с итоговым стихотворением?
Ведь смысл благодарности итогового стихотворения, как и смысл благодарности «Шествия», проясняется лишь в контексте оригинала, которого в авторском переводе нет.
Тогда за что же благодарит поэт создателя в итоговом стихотворении?
Глава 9
«Памяти У. Б. Йейтса»
Бродский неоднократно трактует события своей жизни как моменты озарения. Озарением был томик Баратынского, приобретенный в книжной лавке в провинции. Озарением был момент в электричке по возвращении от Ахматовой после очередного визита. Озарением было и стихотворение Одена «Памяти У. Б. Йейтса», открытое наугад в месте ссылки. И этому последнему озарению посвящено воспоминание, которое интересует нас.
«Я помню, как я сидел в избушке, глядя в квадратное, размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами, наполовину веря тому, что я только что прочел, наполовину сомневаясь, не сыграло ли со мной шутку мое знание языка, – пишет Бродский. – У меня там был здоровенный кирпич англо-русского словаря, и я снова и снова листал его, проверяя каждое слово, каждый оттенок, надеясь, что он сможет избавить меня от того смысла, который взирал на меня со страницы. Полагаю, я просто отказывался верить, что еще в 1939 году английский поэт сказал: “Время… боготворит язык”, – и тем не менее мир вокруг остался прежним. Но на этот раз словарь не победил меня. Оден действительно сказал, что время (вообще, а не конкретное время) боготворит язык, и ход мыслей, которому это утверждение дало толчок, продолжается во мне по сей день. Ибо “обожествление” – это отношение меньшего к большему. Если время боготворит язык, это означает, что язык больше, или старше, чем время, которое, в свою очередь, старше и больше пространства. Так меня учили, и я действительно так чувствовал. Так что, если время <…> боготворит язык, откуда тогда происходит язык? Ибо дар всегда меньше дарителя. И не является ли тогда язык хранилищем времени? И не поэтому ли время его боготворит? И не является ли песня, или стихотворение, и даже сама речь с ее цезурами, паузами, спондеями и т. д. игрой, в которую язык играет, чтобы реструктурировать время? И не являются ли те, кем “жив” язык, теми, кем живо и время? И если время “прощает” их, делает ли оно это из великодушия или по необходимости? И вообще, не является ли великодушие необходимостью?»[144]144
Brodsky, J. Less than One. Op. cit. P. 363.
[Закрыть]
Итак, сидя в кресле или в шезлонге своей нью-йоркской квартиры, Бродский переводит часовую стрелку назад и по-режиссерски усаживает молодого себя перед окном-иллюминатором, мысленно наведя объектив на бродящих кур (корова бы туда не поместилась). Интерьер деревни, в которой он находился во время ссылки, помогает Бродскому воссоздать свои впечатления от стихотворения Одена. Центральной в нем, сообщает Бродский, является строка «Время поклоняется языку», подсказавшая ему новый философский концепт, по признанию Бродского, актуальный «по сей день». Вот элементы этого концепта: «Время больше и старше языка»; «язык – хранилище времени».
Конечно, Бродскому было бы полезно узнать, что строка, так восхитившая его в стихотворении Одена, была впоследствии вымарана автором, не попав ни в одно из последующих изданий.[145]145
Bethea D. M. Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton: Princeton University Press, 1994. Р. 127.
[Закрыть] Надо полагать, мысль «Время поклоняется языку», оказалась случайной в стихотворении, в котором центральной мыслью является как раз мысль о прощении. Время, кажется, хочет сказать Оден, есть враг всех уравнений. То, что было справедливо вчера, не может быть востребовано сегодня и, конечно же, не равно тому, что будет завтра. Время стирает всё: человеческие слабости, следы красоты и т. д. То, чему время неподвластно, это язык, который создает поэт. И за этот подвиг поэту прощаются все его слабости: и трусость, и зависть, и малодушие. Ведь простили же Киплингу его колониальные воззрения? Простили и Клоделю, поэту и дипломату, неприятие буржуазной морали. И прощение поступило к ним за то, что они превосходно писали.
Вот эти строки Одена в моем переводе:
Время, что неутомимо
шествует отважных мимо,
с безразличием бывалым
красоту поубивало,
славит лишь язык. Вину
всем прощает, кто дерзнул:
трусам, подлецам, убогим
низко кланяется в ноги,
Откликается раденьем
к Киплингу за заблужденья,
И Клоделю лишь за то,
Что писал он на все сто.[146]146
Вот оригинал: Time that is intolerant Of the brave and innocent, And indifferent in a week To a beautiful physique, Worships language and forgives Everyone by whom it lives, Pardons cowardice, conceit, Lays its honors to their feet. Time that with this strange excuse Pardoned Kipling and his views, And will pardon Paul Claudel, Pardons him for writing well. (The English Auden. Poems, Essays, and Dramatic Writings, 1927–1939. Edited by Edward Mendelson. New York: Random House, 1977. Р. 242–243.)
[Закрыть]
Но неужели Бродский, внимательный читатель Фроста, Мандельштама, Харди, Цветаевой, не заметил мысли Одена о прощении, разглядывая сквозь магический кристалл сомнительную формулу «Время боготворит язык»? Поверить в это трудно. Да и нужно ли? Ведь Бродский сам дает объяснение. То есть объяснения он, конечно же, не ДАЕТ. Его надо вычислить. И задача эта не так проста, ибо речь должна пойти о казуистической логике. Все еще держа пульс на этой формуле «Время боготворит язык», шаманской, как представляется она мне, Бродский прокладывает новую трассу, на этот раз фокусируясь на авторе.
«Несмотря на краткость и горизонтальность, эти строчки казались мне немыслимой вертикалью. Они были также очень непринужденные, почти болтливые: метафизика в обличии здравого смысла, здравый смысл в обличии детских стишков. Само число этих обличий сообщало мне, что такое язык, и я понял, что читаю поэта, который говорит правду или через которого правда становится слышимой. По крайней мере, это было больше похоже на правду, чем что-либо, что мне удалось разобрать в этой антологии <…>. Я почувствовал, что имею дело с новым метафизическим поэтом, поэтом необычайного лирического дарования, маскирующимся под наблюдателя общественных нравов. И я подозревал, что этот выбор маски, выбор этого языка был меньше обусловлен вопросами стиля и традиции, чем личным смирением, налагаемым на него не столько определенной верой, сколько его чувством природы языка. Смирение не выбирают».[147]147
Бродский, И. Меньше единицы. Op. cit. С. 362–364.
[Закрыть]
Итак, случайная строка Одена, впоследствии вымаранная, позволяет Бродскому объявить Одена поэтом, «который говорит правду – или через которого правда становится слышимой». И хотя репутация Одена, созданная на основе его стихов, никак не совпадала с оценками Бродского (Одена упрекали в наличии множества масок и в неустойчивости воззрений),[148]148
Вполне возможно, Бродский не делал различия между поэтической маской и реальным лицом в том смысле, в котором это различие представлялось Михаилу Крепсу. «Стихотворение “от лирического героя” имеет отправной точкой лицо во многом вымышленное – это маска, которую носит поэт, иногда поразительно совпадающая с его реальным лицом, иногда не имеющая с ним ничего общего. Так, маска “поэта-хулигана” в лирических циклах Есенина – почти Есенин, а маска “восторженного возлюбленного” в лирике Фета – кто-то другой, но уж точно не автор (пропасть: между Фетом и Шеншиным, поражавшая многих современников)». Крепс, М. О поэзии Иосифа Бродского. Ann Arbor: Ardis, 1984. С. 145. В качестве примера Крепс указывает на маску Блока в цикле «Кармен», появившейся за несколько месяцев до реальной встречи Блока с Андреевой-Дельмас, а маска Ахматовой, принятая на себя в стихотворении «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем», не отражала, замечает Крепс, ссылаясь на воспоминания Ирины Одоевцевой, реальной ситуации. «Садиста из меня сделала», – негодовал Гумилев.
[Закрыть] Бродский никогда не отступал от этого мнения.
Тогда что могло подсказать Бродскому мысль об Одене как поэте, устами которого глаголит истина?
Известно, что, ознакомившись с подачи Михаила Мейлаха с «Антологией новой английской поэзии» под редакцией М. Гутнера (Ленинград, 1937), то есть открыв для себя англоязычных поэтов Джона Донна, Элиота и Одена, Бродский стал сам позиционировать себя как поэт англосаксонского помола. И именно здесь следует искать истоки его убежденности в том, что устами англоязычных поэтов говорит сама истина. Ведь истина, позволяет себе фантазировать дальше Бродский, заложена в самом английском языке, не допускающем ни лжи, ни двоемыслия. И именно это открытие принудило его к тому, чтобы писать воспоминания о покойных родителях, пользуясь «английскими глаголами».[149]149
«Я пишу это по-английски, потому что я хочу подарить им маргинальную свободу… Я хочу, чтобы Мария Вольперт и Александр Бродский обрели существование по “коду чести чужеземцев”. Я хочу, чтобы их передвижения были описаны английскими глаголами движения. Это не воскресит их, но английская грамматика может, по крайней мере, послужить лучшим запасным выходом из труб государственного крематория, чем русская». Brodsky, J. Less than One. Op. cit. P. 460.
[Закрыть]
Похоже, что озарения о том, что на нашей планете возможен волшебный язык, который НЕ ДОПУСКАЕТ «ни лжи, ни двоемыслия», могут быть легитимизированы лишь в сказочных сюжетах. И позаимствуй Бродский свой сюжет оттуда, наше знание о его ассоциациях обогатилось бы еще одним открытием. Но, помимо сказки, озарения такого рода встречаются в сильно политизированном дискурсе. Тогда какой ключ нам следует подобрать к фантазиям Бродского о волшебных свойствах английского языка и, в частности, к формуле «Время боготворит язык»? Тот факт, что формула эта НЕ была заимствована из волшебной сказки, подтверждается на неожиданном примере.
«В разговорах Бродский нередко цитировал эти строки в слегка переиначенном виде: “А некоторых Бог помилует за то, что писали хорошо”».[150]150
Лосев, Л. Op. cit. С. 119.
[Закрыть] Оказывается, в интимном кругу Бродский не цитировал строк, претендующих на метафизический пафос («Время боготворит язык»). Эти строки были припасены для программного эссе. То, что реально цитировал Бродский в интимном кругу, была иная мысль Одена о прощении (за трусость, зависть, малодушие и т. д.).
К мыслям о «Памяти У. Б. Йейтса» Одена Бродский пришел в изгнании. Под влиянием этих мыслей и, конечно же, смерти Элиота в 1965 году он пишет стихи «В память Элиоту» (1966?), подражая Одену, который, как известно, подражал Йейтсу. Все участники этого полифонического ансамбля – англичанин Оден (эмигрировавший в Америку и кончивший дни в Германии), американец Элиот (эмигрировавший в Германию и кончивший дни в Англии) и Йейтс (ирландский националист и оккультист, лауреат Нобелевской премии, кончивший дни во Франции) – бунтари, отвергнутые обществом и выбравшие для себя изгнание. Бродский видит свое место среди них.
И он внимательно читает стихи Одена на смерть Йейтса. Вот эти стихи в моем переводе:
Ушел он в зимний день суровый.
Ручьи и трассы подо льда покровом
Застыли. Статуи в снегу затеяли «ту-ту».
Ртуть опустилась у коротких дней во рту.
И всем согласно счетчикам и метрам
Tьма разлилась в тот день на километры.[151]151
Вот оригинал текста Одена: He disappeared to the dead of winter; The brooks were frozen, the airports almost deserted, And snow disfigured the public statues; The mercury sank in the mouth of the dying day. O, all the instruments agree The day of his death was a dark cold day. (Auden, W. Collected Poems. Р. 48–49. Цит. по: Bethea D. M. Joseph Brodsky and the Creation of Exile.Op. cit. Р. 127.)
[Закрыть]
И что же ему бросается в глаза?
Оден повторяет один знакомый прием. Он скорбит об умирающем Йейтсе не с позиции скорбящего себя, а с позиции скорбящей природы. Но где Бродский наблюдал это смещение? Разумеется, у Цветаевой, в ее поэме на смерть Рильке. Итак, хор изгнанников пополняется за счет нового голоса. Теперь уже можно сказать, что Бродский пишет свою поэму «На смерть Элиота», подражая не только Одену, но и Цветаевой.
Привожу строки из поэмы:
Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
Ему своих красот кардебалет.
От снега стекла становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзали лужи,
И дверь он запер на цепочку лет.[152]152
Вот эти строки в переводе Джорджа Клайна: He died at start of year, in January. His front door flinched in frost by the streetlamp, There was no time for nature to display The splendor of her choreography. Black windowpanes shrank mutely in the snow, The cold’s town – crier stood beneath the light, At crossing puddles stiffened into ice. He parched his door on the thin chain of years. (Brodsky, J. Selected Poems. Translated by George Kline. Р. 99–102.)
[Закрыть]
Глава 10
“La crème de la crème in a Tyranny”
В биографии Бродского имеются моменты, которые можно интерпретировать так, что, получи он в свое время предложение быть la crиme de la crиme in a tyranny, он бы этим предложением не пренебрег. Я вполне допускаю, что такая мысль покажется кощунственной едва ли не каждому российскому интеллектуалу. Конечно, ее можно было бы высказать более деликатно, как это сделал Игорь Эйдман, который писал, что Бродский был талантливым поэтом, «ориентированным на завоевание популярности ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».[153]153
Эйдман, И. Бродский и Евтушенко: Единство и борьба ПР-поэтов. URL: http://www.uzlit.net/ru/24259
[Закрыть] Полагаю, что Эйдман избежал нападок и не потому, что сказал нечто фундаментально другое, нежели я. Скорее, потому, что фраза «любой ценой» воспринимается практически всеми без исключения как фигура речи. А при буквальном ее толковании в ней вовсе не исключается возможность стать “la crиme de la crиme in a tyranny”. Но что все-таки означает это «любой ценой»?
Когда Чеслав Милош, польский поэт и нобелевский лауреат, пишет в своем непопулярном эссе об «Оде Сталину», что легенда Мандельштама (1891–1939) как мученика за свободу духа не вполне соответствует действительности, он, скорее всего, имеет в виду, помимо Мандельштама, еще и Бродского. Что оказалось неприемлемым для Милоша у этих двух поэтов, это восхищение имперской мощью. Имперские пристрастия Мандельштама (1891–1939) широко известны. Он родился в Варшаве, в то время провинции Российской империи, и очень скоро заявил о себе как о русском патриоте.
«В 1914 году, через год после публикации первого тома поэзии, он ответил на формирование Джозефом Пилсудским польских (антироссийских) патриотических батальонов скорбным стихотворением, в котором он винил “Польскую, Славянскую комету” в том, что она светит Габсбургам, т. е. иностранцам. По мысли Мандельштама, поляки принадлежали великой семье славян, родиной которой была Российская империя. Стихотворение, написанное в духе антипольских стихов Пушкина 1831 года, не могло вызвать одобрение Милоша»[154]154
Grudzinska-Gross, I. Russia and America – two Empires. Chapter from the book “Milos and Brodsky: Magnetic Field” / Пер. с польск. Мадины Алексеевой. Foreign Literature, 2011. N 7. S. 146–147.
[Закрыть].
Но юношеский опыт Мандельштама не вызывает у Милоша такого протеста, как его стихи без названия, позднее получившие известность как «Ода Сталину». Они были написаны в 1937 году, незадолго до его ареста и смерти в пересылочной тюрьме.
Милош посвятил этому стихотворению «Комментарий к Оде Сталина Осипа Мандельштама», который был сначала напечатан в периодическом издании “NaGlos”, после чего перепечатан в ежедневной “Gazeta Wyborcza” по инициативе ее главного редактора Адама Михника, а потом и отдельным изданием. За время своего путешествия из одного издательства в другое «комментарий» претерпел множество изменений. В частности, редактор “Gazeta Wyborcza” Джоанна Чезна (Joanna Szszesna) вычеркнула несколько предложений с именем Бродского и дескриптивную часть заголовка, а именно, строку: «без стыда и меры». Эта строка впоследствии была убрана с согласия Милоша для следующей перепечатки под названием «Поэт и государство» в “Rzeczpospolita”. Публикация Милоша вызвала нападки российских авторов (Анатолия Наймана и Фазиля Искандера), а также польского критика Адама Поморского.[155]155
Ibid. S. 147.
[Закрыть]
Трудно сказать, что написал Милош о Бродском в тех нескольких предложениях, которые были цензурированы польской прессой, но мнение Бродского об «Оде Сталину» ему было хорошо известно. Бродский высказал свое суждение об этой поэме в «Диалогах» с Соломоном Волковым. «На мой взгляд, это, может быть, самые грандиозные стихи, которые когда-либо написал Мандельштам. Более того. Это стихотворение, быть может, одно из самых значительных событий во всей русской литературе XX века. Так я считаю. <…> Ведь он взял вечную для русской литературы замечательную тему – “поэт и царь”, и, в конце концов, в этом стихотворении тема эта в известной степени решена. Поскольку там указывается на близость царя и поэта. Мандельштам использует тот факт, что они со Сталиным все-таки тезки. И его рифмы становятся экзистенциальными».[156]156
Волков, С. Op. cit. С. 32–34. Надо полагать, указав на то, что Мандельштам со Сталиным «все-таки тезки», Бродский вряд ли был далек от мысли, что тезкой со Сталиным был он сам. Свое восхищение искусным вплетением критики в похвалу, достигнутым в «Оде Сталину», и обращением поэта к тирану как к равному Бродский высказал в письме к Джеймсу Райсу, профессору русской литературы в США в 1993 году.
[Закрыть]
А как тот факт, «что они со Сталиным все-таки тезки», использует сам Бродский? Как в этот контекст вписываются «экзистенциальные рифмы» Мандельштама, что бы это ни значило? И кто вообще защищает «Оду Сталину»: поэт, хитрый политик или просто казуист?
И все же шедевром казуистической мысли мне представляется статья Бродского под названием «Размышления об исчадии ада» (1973). В ней идет речь как раз о Сталине как вершителе «справедливости», правда, такой справедливости, при которой возникло двоемыслие и, как следствие, неразличение добра и зла. Я подозреваю здесь казуистику по той причине, что статья проникнута пафосом правдолюба при полной непричастности автора к тому, что он обличает. А обличает он вот что:
«Он правил страной почти тридцать лет и все это время убивал. Он убивал своих соратников (что было не так уж несправедливо, ибо они сами были убийцами), и он убивал тех, кто убил этих соратников. Он убивал и жертв и их палачей. <…> И все это время, пока он убивал, он строил. Лагеря, больницы, электростанции, металлургические гиганты, каналы, города и т. д., включая памятники самому себе. И постепенно все смешалось в этой огромной стране. И уже стало непонятно, кто строит, а кто убивает. Непонятно стало, кого любить, а кого бояться, кто творит Зло, а кто – Добро. Оставалось прийти к заключению, что все это – одно. Жить было возможно, но жить стало бессмысленно. Вот тогда-то из нашей нравственной почвы, обильно унавоженной идеей амбивалентности всего и всех, и возникло Двоемыслие. Говоря “Двоемыслие”, я <…> имею в виду отказ от нравственной иерархии, совершенный не в пользу иной иерархии, но в пользу Ничто. Я имею в виду то состояние ума, которое характеризуется формулой “это-плохо-но-в-общем-то-это-хорошо” (и – реже – наоборот). То есть я имею в виду потерю не только абсолютного, но и относительного нравственного критерия. То есть я имею в виду не взаимное уничтожение двух основных человеческих категорий – Зла и Добра – вследствие их борьбы, но их взаимное разложение вследствие сосуществования».[157]157
Бродский, И. Собр. соч. Т. VII. М.: Издательство Пушкинского фонда, 2001. C. 46–47.
[Закрыть]
Автору, кажется, не нравится ситуация, вызванная отказом от нравственной иерархии в пользу Ничто. А что же ему тогда нравится? Может быть, отказ от нравственной иерархии в пользу безнравственной? Ответ здесь однозначен, и здесь Бродский, пожалуй, не лукавит. Ему действительно неизвестно, а точнее, нет дела до того, «кто творит Зло, а кто – Добро».
«Когда нужно было выступить в защиту кого-нибудь, я это делал довольно часто, но я не хочу взбираться на трибуну, размахивать руками, выдвигать программы. В политике нельзя быть дилетантом. Ею нужно заниматься профессионально», – декларирует Бродский, отвечая на вопрос Буттафавы (1987): «Каковы ваши отношения с эмигрантами?»
Но в вопросе Буттафавы таилась каверза, кажется, заставшая Бродского врасплох. «И поэтому вы не стали подписывать прошлой весной знаменитое Письмо десяти, которое бросало вызов Горбачеву»?
«Мне прислали письмо, чтобы я его подписал, но оно показалось мне ужасающе глупым, – оправдывается Бродский. – Оно содержало лишь перепевы из западной прессы. Там не было никакой главенствующей идеи. Я сообщил, что подпишу, если в письмо внесут изменения. Следовало сформулировать свое несогласие более точно, а не пересказывать “Нью-Йорк Таймс”. Мне ответили, что на переделку нет времени: или подписывай это, или вообще не подписывай. И я сказал “нет”. Не то чтобы я был не согласен по принципиальным вопросам, но мне не хотелось ставить свою подпись под столь банальным документом».
«А что вы думаете о Горбачеве?» – продолжает свою линию Буттафава.
«Я поддерживаю его всей душой. Нельзя не приветствовать то, что происходит сегодня в СССР, особенно в области культуры. Огромная разница с тем, что было пятнадцать лет назад или даже три года назад. Однако мне бы хотелось, чтобы Горбачев вел себя как просвещенный тиран. Он мог бы расширить свою просветительскую деятельность до неслыханных пределов: я бы на его месте начал с того, что опубликовал на страницах “Правды” Пруста. Или Джойса. Так он действительно смог бы поднять культурный уровень страны».
«Вы в чем-нибудь не согласны с Горбачевым?» – поступает новый вопрос.
«Сегодня у меня нет никаких возражений по поводу его деятельности. Мое несогласие касается системы, на вершине которой стоит Горбачев».
Конечно, умелому интервьюеру удалось представить Бродского в двух ипостасях: как критика двоемыслия и его последовательного приверженца. Бродский отказывается подписать диссидентское письмо, отыскав в нем дефект. Но аргументация Бродского страдает еще большим дефектом. Ведь Бродский отказывается признать, что не разделяет позиции диссидентов и, скорее, готов поддержать власть и ее представителя – Горбачева. Но почему бы Бродскому не повторить тактику профессора Преображенского из известного произведения Михаила Булгакова? Получив предложение «взять несколько журналов в пользу детей Германии по полтиннику за штуку», Профессор говорит, что ему это не подходит.
«– Почему же вы отказываетесь? Вы не сочувствуете детям Германии? – Равнодушен к ним.
– Жалеете отдать полтинник?
– Нет.
– Так почему же?!
– Не хочу».
Но интервьюеры ранга Буттафавы попадались Бродскому нечасто. Чаще полемика с Бродским велась завуалированно даже такими мыслителями, как Милош. Испытывая «инстинктивное отвращение» к имперскому патриотизму Бродского, Милош подменял открытый вызов полупрозрачным иносказанием. «Польскому Поэту свойственно защищать свой народ, в то время как Русский Поэт стоит на стороне государственной власти». Не менее уклончивую позицию Милош занимает и в интервью, данном Сильвии Фроловой для «Новой Польши».
«В “Годе охотника” вы упоминаете о его (Бродского. – А. П.) высокомерии. В чем оно проявлялось?»
«Это была его личная черта. Я этого не чувствовал, он был моим верным другом, но другим доставалось. Быть может, это было отношение русского к иностранцам. Бродский был глубоким русским патриотом, но и немного империалистом».[158]158
URL: http://www.novpol.ru/index.php?id=183
[Закрыть]
«Тон “Оды Сталину” не чужд самому Бродскому, – пишет Ирена Грудзинская-Гросс. – В одном из его собственных стихотворений, “На смерть Жукова” (1974), как и у Мандельштама, объединены энкомион (на смерть народного героя) с сатирой (герой спокойно умирает в постели, не испытывая угрызений совести за гибель тысяч посланных им на смерть солдат). <…>. Мне кажется, что как “Оду” Мандельштама, так и “На смерть Жукова” Бродского можно назвать патриотическими. В них много горечи, но и своего рода восхищения Россией. (Это противоречит утверждению Валентины Полухиной, что в России Бродский не написал ни одного политического или даже “гражданского” (civic) стихотворения, отчего, в частности, она называет его не сыном, а пасынком России.)»[159]159
Grudzinska-Gross, I. Op. cit. S. 2.
[Закрыть]
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































