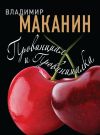Текст книги "Провинциал. Рассказы и повести"

Автор книги: Айдар Сахибзадинов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
И вот кабинет географии. Кроме огнеопасных красителей в нашем распоряжении были ацетон и бензин. Детки вообще любят огонь, и Мишка показал фокус. Облил руку бензином, поднёс спичку – она вспыхнула, он тряхнул рукой – погасла. Захотел того и Попандупало, Толик Ефимов. Ему налили на ладошку, подожгли, но он сдрейфил – дёрнул рукой наотмашь и сшиб с парты открытую бутылку с бензином. Гриб чёрного дыма ударился в потолок, отскочил и разом наполнил рты… Парта трещала, как жертвенник. Дым, провисая колбасной связкой, плыл из двери в коридор и тянулся дальше, к лестничным маршам, как тяжёлая грозовая туча…
Утром, придя на урок географии, учащиеся, как на экскурсии, воочию лицезрели закопчённый пещерный свод первобытного очага… Начались перешёптывания, вздохи, девочки закатывали очи к небу, все ждали, что нас попрут из школы. А тому, как удалось потушить пожар и не сжечь дотла четырёхэтажное здание с деревянными перекрытиями, где, как порох, грудилась на паутинах пыль, никто не удивился: на подобные работы в счёт погашения полученных (и будущих) двоек обычно напрашиваются сорвиголовы.
Утром же Марат Касимыч встретил в коридоре Мишку, согбенно проходя, приставил ладонь к пояснице хвостом, махнул:
– Зайди.
Патрон с потными ладонями вошёл в кабинет завуча. Марата он не боялся, страшился отца: за исключение из школы тот мог убить клюшкой.
Марат Касимыч был явно не в духе, щёки набрякшие, глаза красные; он налил из графина воды, выпил стакан залпом, будто гасил внутри вулкан. Ни словом не обмолвился о пожаре.
– Так, – сказал он, сдерживая першенье. – У нас учится Грибов, в 7«Б». Знаешь?
– Ну. Засыха.
– Молчать!.. – шея Марата Касимыча покраснела, гармошка лба стала бледной.
Мишка переступил с ноги на ногу…
Марат Касимыч сглотнул, расслабил галстук, выпил воды ещё.
– Ты же взрослый, – сказал он. – Ширинку умеешь застёгивать… – завуч пухлой рукой переложил на столе тетрадь, поднял глаза. – Его обижают. У него нет отца и мать болеет! – перешёл он на крик, и Мишке показалось, что завуч кричит на него не столько из-за Грибова, сколько за сам пожар. – Грибов – другой. Он – не вы… Заступишься за него, понял? Но без драк. Если не сделаешь, даже не здоровайся…
Образ Марата Касимыча обычно вязался у нас с насмешливой снисходительностью. Но тут завуч не шутил.
– Понял, Марат Касимыч, – кивнул смятенный Мишка.
– А теперь иди… Мударис Афинский.
До явления Марата Касимыча в школе у нас был всего один завуч. Это Сара Абрамовна. Строгая, высокая женщина с тонкими икрами и свисающим, как у пеликана, горлом. Когда она в очередной понедельник, великая и громогласная, выступала на школьной линейке, я, первоклассник, глядел на её свисающий зоб с иссиня-белой кожей и меня пробирал ужас.
Однажды два малыша-первоклашки убирались в классе после уроков. Они очень старались, натаскали воды, шмыгая носами, сотворили у доски хорошую лужу и начали передвигать парты. Когда потащили туда учительский стол, загруженный ярусами чуть ли не до потолка, стол почему-то опрокинулся. В лужу полетели стопы книг, тетрадей, наборы чернильниц. Кто сказал, что непроливайки не проливаются? Брызги учительских – фиолетовых, красных и синих – чернил окрасили лужу, как перья папуаса, а с ней и всю плавающую макулатуру. Надо представить, какой ужас, какую тоскливую немощь испытали добросовестные поселковые детки, когда осознали степень предстоящей кары. Тем более – когда на грохот прибежала с кудахтаньем учительница, а вслед за нею, тряся зобом, будто индейка, и высоченная Сара Абрамовна. Девочкой была Галя Бочкарёва, ростом едва достававшая до столешницы, а мальчиком – не трудно догадаться – был я. Бедная Галя плакала, спрятавшись за шкаф, мне тоже очень захотелось к маме. Мы покорно ждали своей участи…
Но к нашему удивлению Сара Абрамовна нас не ругала. Она даже улыбнулась, глянув сверху, как добрый журавль, а учительнице пробормотала строго что-то вроде того: тетради завести новые, классный журнал переписать – и, придерживая рукой длинный, узкий подол юбки, склонив голову, ушла, занятая, восвояси.
Её боялись не только дети. Наша толстая и вальяжная Талия Нургалеевна часто встречалась во время уроков с худосочной Ириной Матвеевной. Они давали детям задания для длительной самостоятельной работы, а сами, объединившись, принимались судачить. Чаще к флегматичной Талие прибегала подвижная Ирина, жена алкоголика, незлобивая сплетница. Однажды во время такой беседы их и застукала Сара Абрамовна – вошла в класс, будто упала дверь, и закричала зычно: «А ну марш отсюда!» Надо было видеть, с какой прытью кинулась к двери Ирина Матвеевна, раня пол стальными набойками «шпилек». Казалось, сам ужас отразился в её судорожно сократившихся икрах…
И вот появился в школе Марат Касимыч, завуч по воспитательной работе. Совершенная противоположность Саре Абрамовне. Он подавал неплохие надежды и будучи преподавателем в Казанском университете, и будучи баскетболистом в знаменитом «Униксе». Но вот закладывал за галстук… Сначала его вывели из команды, а позже из университета. Придя к нам, этот крупный дядя сразу покорил все классы. Как раз тогда была эпидемия гриппа, учителя болели, и новый завуч ходил из класса в класс – закрывал бреши. Он рассказывал о великих мореплавателях и землепроходцах, об удивительных приключениях, о дружбе и любви. Он перевоплощался в пиратов, в людоедов, шипел, рычал и подпрыгивал – и детки слушали, едва не обнявшись от страху. Не знал Марат Касимыч, что подписал себе этим приговор. Теперь таборы детей, едва завидев его в коридоре, бежали за ним наперебой с криком: «Марат Касимыч, идёмте к нам рассказывать!..» Человеку пьющему в иное утро такое внимание было, вероятно, больше чем в тягость, и он отсиживался во время перемен в своём кабинете, пил из графина водицу…
Закончив седьмой класс, Мишка ушёл из школы, поступил на работу и с первой зарплаты повёл меня в ресторан. Нас обслужили как взрослых. Мы уже были пьяные, когда увидели в дальнем углу медвежью спину и медные кудри Марата Касимыча. Он сидел с другом. Мишка послал на его стол через официанта бутылку вина, завуч удивился и вертел головой. Мишка взял ещё бутылку и пошёл сам – узнать, кто такой Мударис Афинский.
Что тут мог сделать педагог, который сегодня утром преподавал мне географию, завуч по воспитательной работе? Что мог противопоставить он нашим открытым улыбкам? Он обнял нас и повёл на улицу, мы шагали по Кремлёвской, и он опять что-то рассказывал, вовсе забыв про друга…
В то лето, когда Мишка крутился в «шилке», шугая «фантомы» в горячих песках Африки, а я сдавал, волнуясь, экзамены в вуз, Марат Касимович погиб на курорте. Поднялась волна, высотой с двухэтажный дом, – единственная волна на всю акваторию, захватила с берега одного лишь Марата и унесла к себе, в море.
В тот год не стало и Сары Абрамовны, преподавательницы литературы, завуча по учебной части. Только в старших классах я узнал, что эта строгая женщина, перед которой все дрожали, была так нежна, бескорыстна и добра. В шестом классе я спёр в школьной библиотеке книгу – летопись монаха Никона, – о древней Руси, которую выучил наизусть. А позже узнал, что половина школьной библиотеки, исторические книги, романы – дар Сары Абрамовны школе из личной библиотеки. И в выпускной вечер, когда счастливые классы вышли в ночь, чтоб проститься с учителями и отправиться в речной порт для традиционного гулянья, Сара Абрамовна окликнула меня: «Дай-ка я тебя поцелую!» И когда она прикасалась губами к моей щеке, я со жгучим стыдом вспомнил об украденной книге. Я неуклюже простился с ней, об этом жалею. Но не жалею о книге, это единственная память о ней.
6
Наш общий знакомец Антон Хусейнов учился в другой школе, но дружил с нами: играл в хоккей на нашей коробке, танцевал на вечерах в школе, и его принимали как своего.
Есть люди изначально комичные. Любые их начинания, какими бы вертикальными ни были, в итоге превращаются в фарс, в прыск, в пародию… Человек стучит подошвами совершать подвиг, но спотыкается и квасит нос о штакетник, закидывает уду на щуку, но ловит себя крючком за ухо. И в конце концов от высокого дела – от славы, от денег или даже от гибели – его спасёт судьбоносный понос или враг бесшабашности, друг степенности и бережёного долголетия, геморрой.
Взять даже внешность. Казалось бы, у Антона правильные черты лица, хорошая стать, безукоризненная речь и даже череп – арийский слепок! Но при глупейших обстоятельствах, бесовской каверзе звёзд двуликий Янус поворачивает не ту ягодицу – и меняется судьба, весь образ, – он ломается, словно в мутных потоках дождя за стеклом. И правильная фигура кажется однобокой, лицо плебейским и даже череп становится похож на рахитическую тыкву обритого под лоск тибетского монаха.
Вот красавцем Антон стоит высоко на сугробе против дверей школы, он ждёт товарищей с уроков. Родители купили ему драповое пальто, литые плечи и каракулевый воротник, на голове пыжится дорогая шапка. Вчерашний мальчик – он уже не мальчик: там, где присыхали сопли, теперь темнеет гусарский пушок. Антон красуется на сугробе, статен! И плющат старшеклассницы об окна носы, подзывают подруг, начинаются расспросы, возможно, кто-то напишет – и завтра ему передадут стихи…
Но ухмыляется подлый Янус.
Антон видит выходящих друзей. Они ему машут, он тоже, вот тянет вперёд руку, делает шаг… но проваливается одной ногой в сугроб, другая зависает… Он летит нырком в снег, шапка катится, обнажая сплюснутую голову, а руки улезают в сугроб, задрав рукава пальто, обнажая костлявые, ещё детские локти… И разочарованно удаляются томные взоры от окон, и не будет уже ни стихов, ни записок.
Между тем Антон поднимается, будто воды в реках текут по-прежнему, и как ни в чём не бывало вытрясает из рукавов снег. Смеясь, о чём-то рассказывает и при этом умудряется даже заикаться, чего прежде за ним никогда не наблюдалось.
Таков был Антон.
И вот этот вчерашний отрок влюбляется в нашу Наталью Барейчеву.
– Кто такой? – спрашивает она у подвильнувшего дипломата.
– Антон. Ну, Антон!
– Это который… «скворечник»?
Скворечник – это кличка Антона. Дело в том, что в детстве ему на голову падал скворечник. Обыкновенный, деревянный. Торчал на высокой жердине на границе с соседним участком. И вздумалось мальчугану переместить его поближе к своим яблоням, чтобы уничтожали скворцы только своих вредителей. Но как снять? И начал Антон подрубать жердину у основания. Но откуда у мальчишки острый топор? Он им и жесть, и проволоку, и лёд на кирпичных дорожках рубит… Ударами Антон жердину лишь раскачал. Да так, что отломились наверху ржавые гвозди. И полетел ещё мокрый от мартовского снега птичий дом со свистом вниз, как немецко-фашисткая бомба…
Хорошо, что на голове мальчугана была меховая шапка с верхом из толстой свиной кожи. Да ещё скворечник по темени скатом пришёлся. Ткнулся мальчишка лицом в снег, пролежал в беспамятстве, не помня сколько. Потом встал, снял ушанку, потрогал голову: ни шишкаря, ни болячки!..
Удар скворечника не беда. Беда в другом заключилась. Угораздило Антона в юношескую-то пору, да во время застолья, рассказать об этом приятелям! И хохотали друзья, раскачивался стол; вспоминая его несчастья и казусы, кричали: «Вот, вот в чём причина! вот откуда кактус растёт!..» Антон смущённо улыбался, скромно молчал и уж благодарил в душе Бога за то, что не успел рассказать и о том, как он не поверил рассказу в книге о мальчике, который надел на голову чугунок, и того спасали всем миром – и тоже надел на голову чугунок, и с ним тоже стало, как в книге; и о том, как он поднял в магазине кем-то звонко рассыпанные по кафелю юбилейные рубли с изображением Ленина и в порыве благородства отдал продавщице, сказав при этом, что у него тоже есть дома такие, а дома вдруг обнаружил, что отдал свои – те, что копил, экономя на обедах; и о том, как на барахолке снял с себя и дал померить незнакомому парню дорогие американские джинсы, получил в челюсть и, очнувшись, пошёл в трусах ловить такси; и о том, как решил накачать мускулатуру, купил мощный, на стальных пружинах, эспандер – и чуть не убил себя по той же голове ручкой этого эспандера, могуче сорвавшейся при натяжении со ступни, рассёкшей темя и отправившей его в длительное беспамятство.
Тогда за столом и утвердили: да, всему причина есть скворечник!
И теперь всегда, если разговор касался Антона, безнадёжно махали в его сторону рукой: да что с него взять! Ему же на башку того… скворечник!
Но Антона ценили как раз за эту несуразность, добродушие и безобидность. И пробивали пути к Наташе.
Длинноногая Наташа подходила тотчас, как только её окликали.
Ей рисовали и разукрашивали…
Стоя визави, она надувала губы…
Ей внушали, пеняли, талдычили!
Она задумчиво отворачивала бледное лицо в сторону…
– Отличный парень! – кричали ей.
– Ну, пусть подойдёт, я же не кусаюсь, – сдавалась она наконец.
Антон являлся на школьные вечера, удачно закусывал вино мускатным орехом, и наши строгие завучи, стоящие на страже школьных дверей, его пропускали. Приходил ради Наташи, но не смел пригласить её на танец. Так пропал целый учебно-танцевальный год. Мы перешли в десятый. На вечере в честь Октября мы буквально толкали его в спину, но он упирался и шипел. Наступил Новый год. В конце концов Антон решился. Был великолепный бал. Девушки сделали причёски, надели маски и, словно сошедшие с очарованных берегов, веяли чудными духами. Ребята надели бабочки.
Антон стоял у стены, и даже чёрная маска «Мистера Х» не могла скрыть его бледность. Как в боксёрском углу, его обмахивали, окучивали советами, как подойти и что сказать. О решении Антона знала вся школа. Загадочно улыбались девочки и молодые учителя. У двери Сара Абрамовна, в длинном бисерном платье, зауженном у колен, стояла, как русалка на хвосте, – и, оборачиваясь в сторону Антона, со скрытой улыбкой мелко покусывала губы.
Антон выжидал. И вот момент упал, как гиря с неба! Антон сказал – и все расступились. Он шагнул, как на подвиг. Было видно, как торжественно он скосил голову с великолепной укладкой, как шикарно, держа корпус наискосок, пересёк зал. Он остановился напротив Наташи, шаркнул, кивнул и протянул руку.
Наташа сделала реверанс, и они прошли в середину зала…
Она опустила руку ему на плечо, он взял её за талию, и они стали передвигаться в медленном танце. Исполнялась вытягивающая душу песня «В мокром саду…»
Всё шло отлично, и ничто не предвещало беды. «Вот так решаются судьбы» – с грустной удовлетворённостью подумали мы. И уже было вытащили по сигарете и двинулись к туалету… как в зале раздался душераздирающий крик. И крик этот был ужасен!
Ничто перед этим криком вопль погибающего динозавра. Ничто – крик ростовщика, который всю жизнь копил и вдруг обнаружил, что ограблен до нитки! Взвизгнула игла проигрывателя, песня оборвалась. Мы обернулись. Кто-то лежал на полу посреди зала… О, это был наш Антон! Он валялся возле ног Наташи и отвратительно орал, корчась. При этом держался обеими руками за одно место, называемое конечность…
То, что случилось, было нелепо, смешно и драматично. Это всё равно, что смерть от клюва попугая.
А случилось вот что. Передвигаясь в танце, партнёры, естественно, касаются друг друга. И с Антоном произошло то, что случается с человечеством раз в сто, а быть может, в тысячу лет. Коленная чашка Наташи пришлась прямо под колено Антона. Девичья, точёная, мраморная, как у Венеры Милосской, напряглась – и сковырнула коленную чашку расслабившегося в мечтаниях Антона, как яичную скорлупу!
Он упал, как срезанный.
И блажил, блажил, блажил…
Бедного мы унесли на руках в машину прибывшей «скорой помощи».
Такова его судьба. Смещённая ударом скворечника карма.
7
Глядя на фотографию, замечаю, что у Наташи редкие карие глаза и классическая родинка над верхней губой – именно та, о которой мечтают многие девушки и рисуют карандашом. При всей лёгкости у неё была заметная грудь, которую особенно подчёркивала школьная форма. В ту пору ещё не было акселераток и бройлерных конечностей – и, стыдясь своих длинных ног, Наташа пыталась укоротить их за счёт низких каблуков и коротких подолов.
Мы особенно сдружились в конце десятого, вместе отмечали дни рождения и праздники. Во время перекуров целовались, сидя на подоконниках тёплых подъездов. Я не знал поцелуев слаще! Губы её были нежны и неисчерпаемы, отчего сильно кружилась голова. Когда я отстранялся, она улыбалась, не снимая рук с плеч, и было видно, как она любит целоваться. Следующий поцелуй был слаще! На школьных вечерах она выглядела изящно, платья её были воздушные, тёмные волосы укладывались в букли.
Я знавал девичьи талии: широкие и тонкие, рыхлые и костистые, – нечто неодушевлённое, это были поясницы, бока, спины. Но когда танцевал с Наташей, рука не ощущала плоти, талия будто подтаивала под ладонью.
В юности привлекает таинственность, в зрелости наоборот – прозрачность и откровение чистоты. Влюбиться в Наташу мы не могли, она была слишком нашей, а классная родственность пугала, как угроза кровосмешения. Интересовали нас больше незнакомки, возрастом постарше. Несколько загадочные, с оттенком порока и разочарованности, с туманным взором или какой-нибудь театральной хрипотцой. И не знали мы, что хрипота – от курения, томный взгляд – от вина, загадочность – от её измен, а печать разочарования – от неудач и унижений. Но что делать?! Доступная зрелая грудь – сродни материнской!
Однажды весной после уроков старшие классы пригласили в актовый зал. Приглашение было объявлено с некоторым замысловатым почтением. Да что и говорить! Десятый класс! Весна и молодость, и всё впереди! Мы ощущали свою значимость, это чувство поддерживали и наши учителя.
Войдя в зал, мы увидели к своему удивлению стоящего у кафедры Алексея Николаевича, директора школы, который программные дисциплины уже не преподавал. Он улыбался и приглашал садиться.
У нас часто менялись преподаватели, но образ директора был константой. Это был директор всего нашего детства. И это был великан. Снежный человек в костюме и галстуке. Однако части тела его были удивительно пропорциональны. Будто взяли коренастого атлета и увеличили раза в три: получалась необозримая спина, лошадиная челюсть, а икры ног – трубами. Другие люди его роста, которых я мысленно уменьшал в обратной пропорции, становились уродцами: сужались до смешного плечи, черты лица мельчали, сокращались до обезьяньих, а уменьшённая голова вовсе походила на черепашью.
Как бы ни звучало банально, но доброта и ширина улыбки Алексея Николаевича соответствовали размаху его плеч. Он вызывал доверие, и хулиганы не боялись приводов в его кабинет, заранее зная, что их с добрым словом отпустят. Он обожал хоккей, при нём сборная школы стала чемпионом республики. Вот и сам он в крещенский мороз, обтянутый голубой «олимпийкой», с инеем на плечах неумело катится, с клюшкой в руке, по льду школьной коробки. Юркая малышня, мелькая между мускулистых ног, обводит его, как истукана. Вижу его с семьёй и в летнем лагере на реке Мёше: он, жена и дошкольник сын – громадные люди в купальных костюмах стоят в зарослях ивы, как олимпийские боги. Жена бела телом, распущены тёмные волосы, она мазью растирает мужу обгоревшую на солнце спину, рядом мучительно чешется сдобный Гаргантюа, весь искусанный комарами.
– Дорогие ребята! – начал директор, когда десятиклассники уселись. – Я хочу рассказать вам одну небольшую историю, замечательное приключение, которое случилось со мной в юности и изменило мою жизнь.
Это был 1956 год. Я ступил на порог юности. У меня был дядя, научный сотрудник. Как-то я приехал к нему в гости, но дома его не оказалось; меня отвели в его библиотеку и оставили одного. Я начал просматривать книги на полках. И мне случайно попал в руки томик стихов. Я открыл наугад, прочитал: «Выткался на озере алый цвет зари. На реке со звонами плачут глухари…» Я открыл другую страницу: «Вы помните, вы все, конечно, помните…» Да, это был Сергей Есенин! Тогда он был запрещён. Я попросил у дяди эту книгу и дома переписал её всю в свои тетради. С тех пор я не расстаюсь с его стихами…
День поэзии Есенина Алексей Николаевич провёл великолепно, он читал стихи широко и вольно, размахивал ручищами и улыбался на всю ширину своих кашалотовых скул. Мы выходили из актового зала просветлённые, удовлетворённые; тем более что Есенин, недавно включённый в учебную программу, среди школьников был моден.
На улице стояла мартовская оттепель. К полудню всё обмякло, пахло талым снегом, во влажном воздухе, свистя крыльями, низко кружило вороньё. Мы шли гурьбой, перепрыгивали через лужи.
– Кстати, я иду в литобъединеие при музее Горького, – сказал я Наташе. – Там собирается молодёжь. Нужно переписать стихи в трёх экземплярах, прочтёшь – и тебя обсудят. Пойдёшь? – спросил я, – ты ведь тоже пишешь?
– Боже упаси! – испугалась Наташа, хватаясь за грудь. – Обсуждаться! Не-ет!.. И с чем?
– Ты не бери стихов, а так – посмотришь. Там по пятницам собираются. Значит, завтра. Идём?
– Галь, пойдёшь? – спросила Наташа у подруги. Галя Бочкарёва, маленькая и кургузая математичка, шагала впереди, приспустив плечо от тяжести портфеля.
– Ну да ещё! – был ответ.
– Я схожу, – сказала Наташа, – и потом мне нужно писать реферат о современной поэзии, – добавила она, чтобы смягчить измену перед подругой.
– А новая тема?! – ужалила Галя; её синие боты, раздутые в голенищах крепкими икрами, уверенно давили мельхиоровую кашицу.
Наташа закинула голову, положила её на плечо и, на ходу глядя мне в глаза с серьёзным выражением лица, проговорила:
– Мы договаривались заниматься в выходные, а я иду в пятницу.
8
Занятия Лито проводились на втором этаже музея, в актовом зале, куда вела скрипучая деревянная лестница. Кружковцы размещались на стульях, где придётся, читали стихи и разбирали.
На ту пору я увлекался Пушкиным. Меня уже не раз громили за подражание. Но я упрямился.
Благодарить, просить прощенья,
И на прощание желать, —
Всё, всё обидный голос мщенья,
К тому, что трудно потерять, —
закончил я стихотворение осипшим от волнения голосом, раздал листочки и сел неподалёку от Наташи.
В зале стало тихо. Никто не хотел говорить. Опусы школьника не слишком интересовали старшекурсников журналистики, среди которых мелькали потрёпанной одёжкой довольно сильные поэты. Руководитель кружка, Зарецкий Марк Давидович, чернявый мужчина с шевелюрой, ходил между рядами, с интересом поглядывая на присутствующих.
– Витиевато, – сказал наконец Сергей Карасёв, невысокий очкарик с мощной, выпирающей у подбородка грудью, отчего имел сходство с карликом. – Стихи надо писать тем языком, на котором говоришь в жизни. Да и семенит автор: «всё, всё», а в начале – нагромождение гласных…
– Однако «на прощание желать» – неплохо, если это, конечно, желание, а не пожелание, – произнёс Марк Давидович и с нарочитой улыбкой плотоядности оглядел присутствующих. Но все молчали. – Ну, ребята, так не пойдёт! – сказал он обиженным тоном. – Человек написал стихотворение, принёс на ваш суд, а разбирать его должен только руководитель.
– А по-моему, хорошо! – обернулся с переднего кресла крупный мужчина с сильным, окающим голосом. – Вы все бьёте его. Но пусть юноша лучше у Пушкина учится, чем у Вознесенского, не ошибётся на первых порах, а после возьмёт своё.
Тогда ко мне подсел молодой человек, тоже старшекурсник, но студент физфака, худощавый, с прямыми отросшими волосами и длинным, насморочным носом. Устроившись сбоку, он задумчиво соединил кончики пальцев обеих рук, затем вдруг собрал сухощавое лицо в гармошку, будто его поперчили, и, выдержав паузу, произнёс:
– Вы подражаете Пушкину, в прошлый раз принесли стихи о его дуэли, – он говорил скороговоркой, иногда слова проглатывал. – Но вы уверены, что знаете Пушкина?
Я кивнул.
У меня на тот момент в этом сомнений не было, я действительно знал наизусть немало стихов Пушкина, они запоминались очень легко.
Молодой человек упёр локоть в колено, пальцами ухватил свой подбородок и произнёс:
– Скажите тогда, что означает фраза из «Евгения Онегина», где дядя «не в шутку занемог», – он потёр слезящиеся глаза, – что означает фраза: «Он уважать себя заставил»?
Чувствуя в вопросе подвох, я ответил не сразу.
– Заболел, – медленно проговорил я.
– Нет, он умер! – коротко сказал студент. Он поднялся с места и прошёлся.
Марк Давидович с видимым интересом подошёл ближе, но не вмешивался.
– «Уважать себя заставил» в простонародье означает: «дал дуба», – продолжил физик, – это синоним фразы: «приказал долго жить».
– Гм… Не совсем убедительно, – заметил Марк Давидович.
– Убедительно! – возразил физик, – потому что дальше идёт: «Его пример – другим наука»
– Интересно… – сказал Марк Давидович и задумался. – «Его пример – другим наука…» Да, это означает – умер! Вот видите…
Я был взволнован, интуитивно чувствовал, что это не так, но промолчал из боязни запутаться, кругом сидели ребята серьёзные, по части образованности я им уступал, да и смущала меня Наташа, я боялся в её глазах выглядеть смешным и беспомощным.
– Не переживай! – говорила она потом на улице, на ходу застёгиваясь, пряча грудное тепло в пальто. – Стихи твои мне нравятся. Хорошие стихи.
«Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых», – вертелось у меня в голове.
– А что до подражания, то все вначале подражали, – продолжала Наташа. – Через подражание формируется собственный стиль. Главное знать, кому подражать. Прав этот… окающий дядя. Лермонтов ведь тоже подражал Пушкину, а Пушкин – Байрону.
– Погоди! – сказал я. – А ведь он не умер, дядя-то. Врёт этот физик. Где-то вычитал, а сам не знает и не любит Пушкина. Смотри, что дальше … «Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарство, вздыхать и думать про себя: «Когда же чёрт возьмёт тебя». Так думал молодой повеса…» И смотри, что дальше: когда он приехал к дяде, то: «Его нашёл уж на столе, как дань, готовую земле». Вот с какого момента Онегин и мы узнаём, что дядя дуба дал, и получается, что наш «повеса» не знал, что его дядя мёртв в тот момент, когда произносилась эта самая фраза: «Он уважать себя заставил»!
Меня охватила внезапная радость, я почувствовал себя увереннее.
– Наташа, – сказал я, – я не то что пишу стихи…. Я пока познаю язык, который знаю плохо. У меня не было возможности с детства впитать русский язык. Мне трудно. Я косноязычен. И то, что для другого в языке само собой разумеющееся, для меня – открытие. Как-то летом мне соседка попалась, поднялась из оврага по лестнице, обернулась и говорит: «Гроза будет, птицы низко и небо мреет». От этой фразы повеяло грозой больше, чем от неба. А вот казаки Пугачёва, узнав, что на них движется царское войско и плахи не миновать, – затосковали животами.
– Знаешь, – продолжал я, – я думаю, что инородец или человек, выросший в нерусской среде, неумело подходит к русской стилистике и этим невольно экспериментирует. Язык его неправильный и потому смелый, запоминающийся. Вот Гоголь, вырос на Украине, а как плетёт! А Рустем Кутуй. Какие стихи о кочевниках, узкие глаза в свете костров, – чудо! Не хуже, чем у Блока. Тут есть ещё один момент. Казалось бы, у аборигена все козыри и он видит себя как бы в зеркале, потому что он сам прямое отражение языка. Но в зеркале он может видеть себя только анфас. А вот в отношении национальной глубины, – тут поёт кровь! Тут инородец по духу уступит. Пусть абориген перед зеркалом не видит себя и не слышит. Пусть он слеп и глух. Но он слеп и глух по-особенному. Он слеп, как Гомер, и глух, как глухарь, который самозабвенно предаётся любовной песне на току и не слышит приближения смерти! Таков Есенин!..
– Ты умный.
– Просто я много думаю об этом. Это из моей статьи…
Мы помолчали. Пошёл крупный, мокрый снег. Над нами, рядом с одинокой сосной, горел фонарь. Снежинки вились под ярким диском, похожим на луну, стремились к земле, и как-то обречённо висела в конусе света зелёная ветка сосны.
– У меня спина мёрзнет, – сказала Наташа, затем добавила: – А знаешь, почему?
– Почему?
– Потому, что у меня талия тонкая, а бёдра широкие, пальто не плотно примыкает. Вот и проходит холодный воздух.
– Давай потру, – сказал я и начал расстёгивать её пальто.
– Грабят, – прошептала Наташа, закрыв глаза.
Я повернул её и поцеловал в губы.
– Хочу на пляж, – сказала Наташа. – Чтоб солнце пекло.
И я представил горячий пляж, её раскалённые волосы падают мне на лицо, они пахнут ветрами Сахары…
– Губы шершавые? – спросила Наташа.
– Обветренные. И на руках цыпки, – пошутил я.
– Что это?
– Это я так, о детстве, – сказал я, тихонько растирая ладонью её хрупкую спину. – Весной, когда мы пускали кораблики в холодной воде, на руках появлялись цыпки – это кожа на тыльной стороне ладони шелушится.
– Не-ет, такого, сударь, у нас нет, – возмутилась девушка.
– Наташ, ты по-прежнему певца любишь?
– Какого певца?
– Рафаэля. Испанца.
– Ой, детское!..
– А что нынче – не детское? – спросил я.
– Не детское… – Наташа то ли задумалась, то ли не решалась признаться. Наконец сказала: – Афанасьев.
– Это кто – артист?
– Нет, выпускник из соседней школы.
– Где ты его откопала?
– На улице. Как в романе. Я поскользнулась, упала, он помог встать, отряхнул, проводил до дома.
– Ты встречаешься с ним?
Наташа засмеялась:
– Ты, кажется, ревнуешь?..
Я на самом деле ревновал. Мне было неприятно, целуясь с нею, слышать о каком-то там Афанасьеве. Если в семнадцать лет каждая девушка считает себя принцессой, то почему бы юноше не мнить себя принцем!
– Я тебя тоже обожаю! – Она обхватила меня за талию и, прижавшись ногами к моим ногам, слегка откинулась. – Честно: нравишься…
В последний раз я был с Наташей в выпускной вечер. В апреле у нас случилась размолвка, а в мае она готовилась к экзаменам. После экзаменов мы отправились всем классом на правый берег Волги. Там Наташа, шагая без туфель по высокой траве, проколола о сучок ногу. И в выпускной вечер ей пришлось отказаться и от «шпилек», и от заветной прогулки в речной порт.
Я помню, как мы танцевали медленный танец, её темные букли касались моего лица; иногда она улыбалась, и улыбка её в эту ночь была значимой, даже торжественной. На ней было розовое шёлковое платье, отчего она казалась лёгкой, воздушной. После танца мы вышли на улицу. Мещанские постройки тянулись в темноте, как верблюжьи спины. Лишь в сквере клуба Маяковского горели фонари, но прохожих не было видно. Держа за руку, Наташа перевела меня через шоссе. Старые липы, растущие вдоль тротуара, цвели в эту пору и кружили голову тончайшим ароматом. Мы прошли в глубь аллеи. В тёмном кустарнике показалась решётчатая ограда, за ней невысокое строение, вдоль дорожки безмолвно стояли грибки-посиделки. Это был детский сад. Мы открыли калитку и вошли внутрь…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?