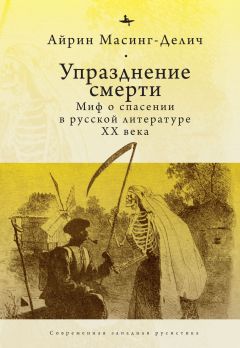
Автор книги: Айрин Масинг-Делич
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Влияние Федорова
Насколько мысли Федорова были важны для мифа о бессмертии того времени? На этот счет между исследователями существуют разногласия. Так, М. Хагемейстер предостерегает против приписывания Федорову излишнего влияния на культуру Серебряного века. В частности, он считает, что отклик символистов на федоровские идеи был минимальным [Hagemeister 1989:216]. Л. Келер, напротив, склонна считать, что практически все художники и все идеологии того времени находились под влиянием Федорова. Историк С. В. Утехин согласен с ней в том, что Федоров оказал сильное влияние на идеологическое мышление в долгосрочной перспективе: он обнаруживает явные следы воздействия Федорова в советском большевизме и полагает, что, даже когда «организованный федоровизм» был уничтожен, многие «мысли о контроле над природой были включены в официальную идеологию сталинизма» [Utechin 1958:131]. Его мнение разделяет Дж. Клайн [Kline 1968] и ряд других советологов и культурологов, включая русских специалистов по Федорову. Так, С. Г. Семенова в книге «Николай Федоров. Творчество жизни» (1990) после тщательного и проникновенного разбора жизни и философии Федорова дает обзор мыслителей и писателей, которые состояли с ним «в диалоге». В числе прочих она называет В. Я. Брюсова, М. Горького и Б. Л. Пастернака, а также поэтов Пролеткульта и утопистов вроде Хлебникова и раннего Заболоцкого. После Серебряного века явные черты федоровских контекстов можно заметить и в творчестве А. П. Платонова[57]57
Что касается культуры XIX века, то и здесь мнения расходятся. Л. Н. Толстой, Соловьев и Достоевский нередко упоминаются как «находившиеся под влиянием» Федорова, но, наверное, правильнее говорить лишь об их большом
[Закрыть].
Такой разброс мнений, по-видимому, во многом обусловлен тем, насколько широкое значение исследователи вкладывают в термин «влияние». Возможно, ближе всех к истине оказались М. Я. Геллер и М. Хагемейстер. Геллер уподобляет наследие философа «гигантскому незавершенному зданию», из которого «каждый прохожий берет столько кирпичей, сколько ему хочется, и сооружает из них свою постройку» [Геллер 1982: 32]. Он предполагает также, что идеи Федорова, отмеченные «оригинальностью и смелостью» вкупе с чрезвычайной простотой, привлекали людей, знавших лишь одну-две его статьи или читавших краткое изложение его основных идей. Хагемейстер описывает корпус идей Федорова в похожей терминологии, а именно как «каменоломню идей» [Hagemeister 1989: 104], откуда каждый мог черпать то, что хочет. Каково бы ни было подлинное «влияние» Федорова, можно сказать с полной определенностью, что его идеи интересовали «людей чрезвычайно широкого диапазона вкусов и взглядов»; здесь могут найти «кирпичики» для своих идеологических построений как «ревнители бытового православия», так и «строители коммунистического быта» [Флоровский 1935: 400].
О степени влияния Федорова можно спорить, но, без всякого сомнения, оно оказалось «живучим», просуществовав до нашего времени и до теперешней России как активный фактор в мировоззрении части интеллигенции. Среди нынешних искателей бессмертия его учение является одним из главных [см. Bernstein 2019].
Настоящее исследование не пытается отделить «подлинных» федоровцев от тех, кто взял случайный кирпичик из его камено-
интересе к его идеям, но не о согласии с ними. Достоевский был знаком с некоторыми концепциями федоровской философии благодаря переписке с учеником Федорова Н. П. Петерсоном, но, думается, Хагемейстер прав в том, что Достоевский едва ли был знаком с ключевой идеей дела – воскрешением мертвых на научной основе. Л. Н. Толстой восхищался главным образом стилем жизни философа, но к его идеям относился недоверчиво. Соловьев задавал Федорову вышеупомянутый вопрос о «каннибалах» и, по мнению Семеновой, развивал свои идеи человеческого бессмертия в духе федоровских [Семенова 1990: 105–111]. Хагемейстер не склонен видеть значительного влияния Федорова на младшего философа [Hagemeister 1983а: 206]. ломни и добавил его к другим кирпичам, найденным им на «стройках» других философских систем и литературных произведений. Миф о земном бессмертии вообще правильнее всего рассматривать как детище гетерогенной культуры, которая с легкостью смешивает, казалось бы, несовместимые представления. Все же идеи Федорова были ближе социалистам и коллективистам, «верующим» в науку, чем мистикам разного толка. В следующей главе мы обратимся к менее «популярному» философу, чем Федоров, чья программа бессмертия нашла отклик среди писателей более мистического толка, – кВ. Соловьеву и его «эротической утопии» (Зеньковский).
Глава 5
Владимир Соловьев
Отсутствие красоты говорит о бессилии идеи.
В. Соловьев
И верь! Не коснется до нас наслажденье Бичом оскорбительно-жгучим своим.
Н. Гумилев
Статьи о красоте, искусстве и смысле любви
Принято считать, что В. С. Соловьев (1853–1900) первым придал русской философии «всемирное значение» [Muller 1977:9][58]58
Цитата из книги А. Г. Гачевой «Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров». Исследовательница не согласна с оценкой русской философии Б. В. Яковенко и другими «феноменологами и неокантианцами», ставящими досистематическую русскую философию и русскую религиозную философию вообще ниже тех философий, которые преследуют «познание ради познания» [Там же]. Гачева не видит каких-либо преимуществ в последних перед русскими и славянскими «бессистемными» философиями, которые «накрепко связаны с делом» [Там же].
[Закрыть] не только глубиной и оригинальностью своей мысли, но и тем, что изложил ее как цельную систему. До него, по мнению неокантианца Б. В. Яковенко, русская философия всегда «пыталась выпрыгнуть за пределы своего предмета» и «никогда не жила собственно философскими запросами» [цит. по Гачева 2008:457]. К концу XIX века в русской философии, однако, появилось стремление к системности, и «самым ярким и влиятельным» ее представителем стал Соловьев [Зеньковский 2001: 451]. То, что именно он ввел системность в прежнее русское «философствование», – общепринятая оценка его вклада в историю русской философии.
Признание русского философа как «всемирного» мыслителя не значит, что Соловьев подчинился всем правилам западной системности, жертвуя своей русской спецификой; он, например, сохранил характерную для русского мышления сосредоточенность на религиозных вопросах и склонность к мифотворчеству. Он остался верным «неакадемичному» мышлению и был «скорее пророк, чем профессор» [Muller 1977: 13]. Он также не боялся «гибридности» – американский литературовед О. Матич характеризирует его философию как «палимпсест» [Matich 1979: 59]. Однако Соловьев искал и «всеединства», и искал его именно в разнообразии и множественности. Философ считал, что, если бы «всеединое» (Бог) воспринималось всеми идентичным образом, не было бы нужды в множественности индивидуумов [Przebinda 2002:48]. Концепции единства в разнообразии способствовали познания философа во многих сферах культуры, а также широта духа, не настаивающая на том, чтобы в поисках истины все шли одним путем; Соловьев считал, что ее можно найти разными методами и при разных подходах.
Поэтому неудивительно, что Соловьев был не только весьма начитанным, но и многосторонне образованным мыслителем, то есть читал не только для подкрепления своих же философских и религиозных позиций, но и для того, чтобы проникнуть в совсем иные интерпретации «вечных вопросов», чем те, с которыми был хорошо знаком. Он, как и Федоров, интересовался естественными науками. Прежде чем перейти на историко-филологический факультет Московского университета, он изучал их на математическом факультете Московского университета и одновременно слушал лекции в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде. Соловьев был и поэтом, и его миф о Вечной женственности, которая «ныне / В теле нетленном на землю идет» («Das Ewig-Weibliche», 1898), получил широкое распространение в символистской поэзии, как и его учение о Софии, Божьей Премудрости. Биограф и толкователь его философии К. В. Мочульский подчеркивает, что Соловьев «был мистиком, обладал реальным ощущением сверхчувственного, видел лицом к лицу «божественную основу мира», встречался с таинственной «Подругой Вечной» [Мочульский 1951: 10]. Именно как философ-мистик, который не чуждался научных теорий и открытий, он заложил фундамент «блестящего русского Ренессанса» конца XIX – начала XX века и вдохновил возрождение как «религиозного сознания», так и «философской мысли» [Мочульский, 1951: 11]. Его поэзия и эстетические теории «определили пути русского символизма» и повлияли на «теургию Вячеслава Иванова, поэтику Андрея Белого, поэзию Александра Блока» [Там же]. Согласно Бердяеву, «Соловьев победил Чернышевского» [Бердяев 1971: 221], но синкретизм его философской системы позволил ему увидеть достоинства и в материалистическом учении последнего. Как мы увидим далее, он воспринял некоторые аспекты его эстетики, например мысль о преображающей действительность силе искусства, и оценил его понимание «смысла литературы» как служение своего рода социальному жизнетворчеству. В этой главе я рассматриваю некоторые статьи Соловьева, в которых эстетика и искусство тесно связаны с его мыслями о превращении смертности человека в земное бессмертие, которое Соловьев, как и Федоров, считает вполне возможным. Здесь также рассматривается та степень, до которой Соловьев разделяет позиции своего старшего современника касательно путей, ведущих к бессмертию.
«Красота спасет мир»[59]59
Статья Соловьева «Красота в природе» [Соловьев 1966,6:33] имеет эпиграфом афоризм Достоевского «мир спасет красота» из романа «Идиот» (ч. 3, гл. 5).
[Закрыть]
Подобно Федорову, Соловьев представил «программу», или «проект», достижения бессмертия на Земле без опыта умирания. Как и Федоров, он предлагает отмену деторождения в пользу воскрешения и бессмертия путем новых отношений между полами. Но Соловьев хочет превратить мужчин и женщин не в братьев и сестер, а, наоборот, в любовников, создающих андрогинный союз, очень похожий на тот, который изобразил Н. С. Гумилев в стихотворении «Андрогин» (анализ его тематики см. в [Сафиулина 2017]). Некоторые исследователи Соловьева (К. В. Мочульский, В. В. Зеньковский) считают, что он многим обязан своему старшему современнику Федорову, но другие видят и существенные различия[60]60
Зеньковский считает, что «вне всякого сомнения» федоровские идеи влияли на Соловьева, по крайней мере в 1890-е годы [Зеньковский 2001: 561]. Мочульский отмечает «федоровианскую космическую теургию» в статье Соловьева «Смысл любви» и полагает, что, хотя федоровский «натуралистический гуманизм» был чужд Соловьеву, «пламенный героический дух» федоровского проекта будил в нем прожектера [Мочульский 1951: 156, 205]. Американский историк и философ Дж. Янг полагает, что взгляды двух философов на воскрешение «несовместимы» [Young 1979: 53] и что «дистанция между их идеологическими позициями» выявлялась «особенно ярко», когда они разделяли некоторые общие цели [Young 1980: 67]. Хагемейстер занимает сходную позицию [Hagemeister 1984: 444].
[Закрыть].
В самом деле, некоторые различия налицо, например их трактовка «пола» в будущем мире бессмертия. Если в программе Федорова будущее человечество заменит половую любовь братско-сестринской любовью, то для Соловьева характерен отчетливый «эротизм мысли» [Мочульский 1951: 244]. Эроса в федоровском общем деле нет. Также по-разному воспринимается двумя философами роль искусства в деле воскрешения. В то время как Федоров видит искусство главным образом как пособие для прикладной науки в процессе превращения воскрешенных в «лучшие варианты» своего бывшего «я», Соловьев предполагает, что оно и есть путь к бессмертию. Когда искусство перестанет быть зеркалом, отражающим внешнюю природу такой, какая она есть (и, наверно, останется), или служить украшением роскошных жилищ, а сделается творчеством бессмертной жизни, оно преобразит и природу, и человека. Даже в наше время красота, создаваемая современным искусством, несмотря на все его злоупотребления, «спасает мир» тем, что все же зовет нас к чему-то лучшему, к (само)совершенствованию. Когда герой сологубовской «Творимой легенды» Триродов выращивает рощу деревьев, своей прямизной и симметричностью расположения похожих на греческие колонны, он воссоздает красоту классической архитектуры Греции, но не на картине и не как часть великолепного здания, а в реальной природе. Соловьев «внедряет» искусство в жизнь, создавая живое искусство. Федоров видит задачу искусства не столько в эстетической, сколько в практической перспективе, как пособие при воскресении умерших и как возможные модели будущего мира, особенно в иконописи. Об эстетике, применимой к теперешней реальности и к живому человеку, и об искусстве как о пути к совершенной красоте бессмертия Соловьев говорит неоднократно.
Оба мыслителя, однако, в равной мере убеждены, что смерть побеждаема «естественным» путем и что в Страшном суде нет нужды, так как человечество сумеет спасти себя, как этого желает сам Бог (Соловьев позднее меняет свою позицию). Соловьев, например, считает, что эволюция видов в природе «добавляет новые законы» к уже существующим и то, что мы называем чудом, – это просто еще неизведанное, новый факт и новый закон эволюции какого-нибудь вида, возможно и человеческого (можно предположить, что Соловьев имеет в виду нечто похожее на мутации). Между тем как Федоров ищет семена разумного сознания в «мертвой» материи, Соловьев предполагает, что красота в природе свидетельствует о стремлении природной «души» к художественному творчеству; эволюция – это ведь и есть творчество природы (падшей Софии). Уважая не только эстетику, но и науку, оба мыслителя любят использовать стиль научного дискурса для вящей убедительности своих теорий о том, что все «чудесное» совершенно естественно. Соловьев уверяет, что если мы знаем, «при каких условиях наступает смерть», – а это мы знаем, – то мы также знаем, «при каких условиях забирать силу над смертью» и как «в конце концов, <…> победить ее» [ВС 9: 351][61]61
Кроме особо указанных случаев, ссылки даются по репринтному изданию Собрания сочинений В. С. Соловьева в 12 томах 1966 года (далее: [ВС том: с.]). Также я пользовалась Deutsche Gesamtausgabe (DG) и ее Erganzungsband (дополнительный том).
[Закрыть]. Оба философа разделяют и принцип «спасающий спасется» [Там же: 86]; они согласны, что активность человека, а также дальнейшее изучение тех «условий», при которых «наступает смерть», и тех, при которых она устраняется, непременно дадут желаемые результаты: воскрешение умерших и бессмертие воскресителей. Однако у Соловьева главное орудие в борьбе со смертью – не процессы коллективного труда и не комплексы музеев-лабораторий, как у Федорова, а «создание красоты», то есть эстетическое и этическое самоусовершенствование человека, которое достигнет своего апогея в создании бессмертного андрогина. У Соловьева эстетизация нынешней действительности приведет к совершенной духовной и внешней красоте мира и человечества, при которой уродливость смерти станет невозможной. Смерть не может одолеть личность, чье «внутреннее духовное совершенство» преобразило «все, что низменно» [DG: 163–164]. Задача человечества – стать таким же совершенным, как Христос, а когда это будет достигнуто, бессмертие станет естественным и даже единственно возможным онтологическим состоянием человека. Обретение человечеством бессмертия – это «задача для Бога и человека» [Stremoukhoff: 332]. Бог-Создатель сотворил мир совершенным, а человека бессмертным, и теперь, после падения человека в Эдеме, требует восстановления своего создания, вложив в природу потенциал к «творческой эволюции» (по удачному выражению А. Бергсона). Он также наделил человечество потенциалом саморазвития вплоть до обретения божественности. Христос спустился вниз на землю, чтобы указать человечеству путь вверх[62]62
3. Н. Гиппиус приравнивала соловьевскую «идею восхождения» (к божественному) к бергсоновскому «жизненному порыву» (elan vital; цит. по [Pachmuss 1973: 223–224]). Философ А. Ф. Лосев считает, что Соловьев опередил Бергсона на два десятилетия [Лосев 1990: 658]. Владимир Шилкарски (Szylkarski), один из редакторов DG, считает, что двух философов объединяет не только сходство мышления, но и стилистический блеск. Он включает Соловьева в группу мастеров философической прозы вместе с Мальбраншем, Паскалем, Шопенгауэром и Бергсоном [DG 7: 435].
[Закрыть]. Дав ему воплощенный идеал богочеловека, Христа, Бог указал путь спасения. Теперь он ожидает от людей продолжения начатого им и завершения того, что было им создано.
Поняв, что следует делать, человечество будущего приобретет сверхчеловеческий статус, но станет не гордым сверхчеловеком Ницше, которому «все позволено» [ВС 9: 267], а подражателем истинного «победителя смерти», Иисуса Христа [Там же: 272]. Следовать примеру Христа, конечно, не значит кротко принимать смерть как неизбежность, но и не ожидать нетленной плоти как внезапного дара от Бога, подобно первым христианам [Там же: 273]. Быть подлинным последователем Христа для Соловьева значит превзойти себя собственными усилиями в сотворчестве с любимым человеком. Прежде чем приступить к конкретному разбору этого пути Соловьева к бессмертию, будет полезно познакомиться с его космогонией. Следуя изложению этого вопроса в «Истории философии» Зеньковского [2001:449–507] и в труде Мочульского о жизни и творчестве Соловьева [1951], я предлагаю несколько «олитературенный» вариант их, подчеркивая аспект любви Создателя к своему творению, Софии, носительнице его мудрости. Рассматривая роль соловьевской Софии в судьбах мироздания, я не ставлю себе целью раскрытие противоречий и изменений учения о ней Соловьева и анализ иных философских тонкостей. Я ограничиваюсь попыткой представить мифологическое обоснование, которое послужило бы лучшему пониманию соловьевского эротико-эстетического плана спасения от смерти, а также продолжения этого плана в литературных преломлениях символизма. У Блока, например, соловьевский миф часто связывается с традиционным романтическим мотивом эротического предательства любящего со стороны любимой, представленным, в частности, в строке: «Но страшно мне: изменишь облик Ты» («Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», 1901). Божественная София в космогонии Соловьева тоже «предает» того, кто любил ее как совершенство красоты, и тоже «изменяет свой облик». Однако соловьевская София пытается искупить причиненные ею страдания, стремясь восстановить свою прежнюю красоту посредством «творческой эволюции». Описание этого пути к восстановлению и спасению мы найдем в трилогии статей «О красоте в природе» (1889), «Общий смысл искусства» (1890) и «Смысл любви» (1892); анализу этих трех сочинений и будет посвящена данная глава. Но вначале – космогония Соловьева.
Логос и София Премудрость
Божественный Абсолют, заключающий в себе бесконечный и вечный мир идей, гармонизированных принципом положительного всеединства, несмотря на свою самодостаточность, почувствовал потребность в объективизации своего внутреннего мира. Действуя как творец, Абсолют создал мир совершенной духовной Красоты на основе Добра и Истины, мир, отразивший его мудрость. Это и был идеальный мир Софии. Он создал его, чтобы не быть «одиноким», но иметь возлюбленную подругу. София была создана совершенной и потому – свободной [Зеньковский 2001: 501]. Ее свобода включала и право отвергнуть собственного творца, и София выбрала этот путь. Пожелав «самостоятельного бытия» и «анархического существования» [Muller 1958: 26–27] и будучи обольщенной властителем материальности – Демиургом, она попала в объятия стихийного хаоса, уродства и зла. Падшая София сначала почти не осознавала своего состояния, поскольку, «впав в материальность», утратила былую чуткую душу и вместе с ней свою совершенную красоту. Она духовно «заснула» посреди ожесточенных боев за выживание в мире Демиурга, отказавшись от духовного бодрствования. С падением Софии появилась первичная материальная природа.
Все же признаки раскаяния постепенно пробудились в падшей мировой Душе, и любящий творец занялся «восстановительной работой» над своим падшим творением. Он вложил в ее материальный облик динамику развития (энергон), способность к творческим изменениям, достаточно силы для постепенного преображения – словом, все основы «созидательной эволюции» [ВС 6:55, 65, 67]. Отличительное свойство космогонии-космологии Соловьева – это ревнивая любовь Логоса-Творца к своему «женственному» произведению искусства и желание искупить стыд и страдания ее «поруганной красоты». В этой драме-треугольнике с участием создателя (Бог-Абсолют), соблазнителя (Демиург) и падшего создания Красоты (падшая София), как уже отмечалось, кроется существенная разница между Федоровым и Соловьевым: соловьевское божество – «любовник», федоровское – отец.
Как уже отмечалось, Божественная София после падения превратилась в чудовищную первичную материю – в materia prima (см. [Мочульский 1951: 103]). Она все еще обладала множеством сосуществующих элементов, как во времена положительного всеединства, но, став бессознательной и анархически-стихийной материальной природой, она утратила способность властвовать над множественностью, в результате чего на смену многогранной гармонии пришли хаос и борьба. В царстве Идеала высшая идея положительного всеединства скрепляла все прочие идеи, выступая как сверхидея. В падшей природе такой высшей идеи не было.
По мысли С. Н. Булгакова [Булгаков 1903], это обстоятельство привело к тому, что во всех элементах бытия появилась некая «перестановка» их составных частей [Там же: 224]. Считая, что Соловьев может дать современному сознанию положительную веру в торжество идеала, Булгаков подчеркивает, что философ не считал зло неискоренимым явлением, а скорее просто «ошибкой» в структуре реальности. Значит, существование нравственного и эстетического уродства можно будет исправить «перестановкой» их композиции. Материальная реальность как бы «расшаталась» во времени и пространстве, но ее можно будет снова поставить на место и таким путем воссоздать красоту гармонии, то есть единство в разнообразии. Словом, «творческая эволюция» сможет восстановить былую красоту Софии, а человек, детище природы, сможет в процессе самосовершенствования приобрести собственное утраченное бессмертие.
Итак, «творческая эволюция» Соловьева преследует цель восстановления былой красоты Софии и ее статуса «мировой души». Ее детище, человечество, может быть, в конце концов даже приведет ее к высшему, чем прежде, существованию, вступив на путь самосовершенствования. Конечный результат, который, очевидно, соответствует первозамыслу самого Творца, возможно, даже оправдает падение Софии, которое Творец предугадал [Зеньковский 2001:484,501; Мочульский 1951:103–104]. Цель восстановления и даже превосхождения его, однако, не только еще не достигнута, но едва начата. Но растущий коэффициент красоты в природе видимым образом «измеряет» прогресс ее эволюционного творчества. Развитие неорганической природы, как и природных тварей, идет в направлении все более полноценной красоты (примеры см. ниже). Слияние реального начала с идеальным в совершенных формах осязаемой красоты станет «сизигией», то есть полным всеединством в разнообразии. Человечество должно добиться окончательного сизигийного (гармонического) слияния реального (realia) и идеального (realiora), материального и духовного, перестроив мир с помощью искусства и вдохновленного им жизнебессмертиетворчеством. Сизигийное сосуществование Бога и человека во Христе как бы указывает путь к цели.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































