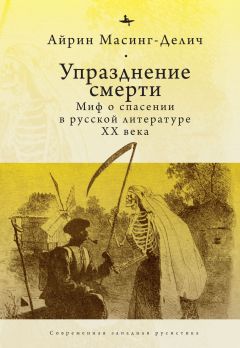
Автор книги: Айрин Масинг-Делич
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Лопух, солидарность и материальные следы деятельности
Можно предположить, что не все «новые люди» принимали «аксиомы и факты» будущего всемогущества человечества как абсолютную истину. Возможно, даже большинство тех, кто считал себя материалистами и атеистами, предполагали, что после смерти не будет ничего, кроме забвения и разлагающегося мертвого тела, из которого вырастет знаменитый «лопух» Базарова. Для тех, кто не спешил уверовать в скорое свершение утопий и принимал «лопух» как естественное продолжение смертного существования человека, предлагались разные «теории утешения». Богостроители, например (см. о них главу 6 этой книги), апеллировали к благородству и альтруизму своих адептов, уверяя, что все те, кто героически сражался за народ, дав ему бесценные сокровища свободы и равенства, одним этим заслужили народную «вечную память» и, следовательно, бессмертие, так как «народ бессмертен». Энергия его памяти также бессмертна (что предполагается и православной церковью, правда в ином смысле), так что коллективная народная память навсегда сохраняет дела тех, кто погиб и кто продолжает жертвовать собой за благополучие народа. Теоретик «религии без Бога» и толкователь религии социалистического богостроительства А. В. Луначарский восхвалял спасительное чувство солидарности с прошлыми, настоящими и будущими поколениями человечества. Он определил эту солидарность как «видовое и историческое чувство, дающее нам возможность рассматривать себя как живое звено развертывающейся драмы жизни столь богатой красками, столь потрясающе великолепной, столь мучительно величественной» [Луначарский 1911: 2, 364], что быть и «звеном» в этой драме – уже вознаграждение за кратковременность бытия. Будучи последователем Ф. Ницше, Луначарский цитирует мысль из его «Веселой науки» о том, что радость, испытываемая человеком, который начинает «ковать цепь нового могучего чувства, звено за звеном» [Там же: 366], достаточна, чтобы наполнить всю жизнь. Это счастливое и щедрое чувство позволяет человеку «впитать в свою душу все древнее и новое […], вместит все это в одну душу, в одно чувство». Это – «счастье, какого не знал до сих пор человек, счастье бога, полного сил и любви, полного слез и смеха, бога, который словно вечернее солнце дарит непрерывно из своей неисчерпаемой сокровищницы и, бросая золото в море, до тех пор, пока и беднейший рыбак не гребет золотыми веслами!» [Там же: 366–367]. Ницше называет это чувство «человечность» [Там же: 367], а Луначарский – «солидарность» [Там же: 364], но оба говорят о «вечном миге» такой полноты, что совмещает вечность и кратковременность человека в экстазе слияния со всем и всеми – бывшими и будущими, еще не существующими людьми, как и со всем, что было и будет. И, подобно «божественному человеку» будущего, предтечами которого предположительно являются и Ницше, и сам автор книги «Религия и социализм» Луначарский, также совместит в своей памяти прошлое, настоящее и будущее и, как все предтечи грядущего, вкусит вечной памяти. А сохраненное памятью всегда содержит потенциал нового становления: наука беспрестанно развивается и, быть может, настанет день, когда умершего человека можно будет «восстановить» по любому оставшемуся от него следу. Ведь память в монистическом Новом мире – вид материальной энергии и поэтому содержит вечные, неразрушимые следы прошлого[13]13
Еще один федоровский мотив в «Докторе Живаго»: когда Юрий Живаго говорит своей умирающей (доброй) мачехе, что ей не следует бояться смерти, потому что она будет жить в памяти помнящих ее, в этом можно усмотреть намек на то, что ее «найдут» и «воскресят», так как помнящие ее будут сохранять ее «следы». Пастернак, конечно, не был материалистом, но, может быть, находил что-то положительное в том, что память играет не только абстрактную, но и конкретно активную роль в деле воскрешения.
[Закрыть]. Таким образом, «стоическое» понимание смертности («мой подвиг / труд / послужил светлому будущему, и я вполне удовлетворен этим и умру счастливым») почти всегда содержало и надежду на то, что пусть не скоро, но когда-нибудь бессмертие станет реальным для всех, кто посвятил свои мысли и труд Новому миру
Следы труда и творчества
Помимо чувства солидарности с предками и благодарно вспоминающими героизм и жертвенность прежних поколений потомками, существовали и иные варианты «утешения», может быть, даже потенциального бессмертия, служившие альтернативой «лопуху». Ключ к этой альтернативе – пушкинское «Нет, весь я не умру», так как «душа в заветной лире <…> прах переживет…». Пусть не всякому дано написать бессмертные стихи, зато каждый может оставить после себя следы плодотворной и полезной деятельности, следы, которые, быть может, будут разысканы и использованы для «восстановления». Так, авторы романов о первых пятилетках нередко говорят о возможности воскрешения былого на основе найденных материальных следов труда тех, кого уже нет. Например, в романе М. С. Шагинян «Гидроцентраль» (1930) обаятельный рыжеволосый герой восклицает: «Бессмертие – это всеобъемлющая память, отложи себя в мире, отработай честно, до предела, и это не может исчезнуть (курсив мой. – А. М.-Д.и память человечества навеки тебя удержит, – если не сразу, то постепенно, придет к тебе. Ведь это факт: миллионы лет прошли, а мы постепенно восстанавливаем даже работу моллюсков, мы историю земли вспомнили, ихтиозавра вспомнили. Неужели работу человека не воскресит память (курсив мой. – А. М.-Д.Д Ведь она ж в материи отложится, эта работа» [Шагинян 1979: 91–92].
Хотя положительный герой не говорит о личном бессмертии и даже считает своим долгом опровергать эту старомодную мысль, по крайней мере в ее трансцендентном понимании, его представления о реконструкции прошлого с помощью следов трудовой деятельности, по-видимому, допускают своего рода воскрешение и самого работника: тот каким-то образом существует в материальных следах своей работы. Ихтиозавр с его «работой» в приведенной выше цитате кажется более или менее уместным сравнением, но, хотя в данном контексте герой не говорит о реконструкции отдельных ихтиозавров, с реконструкцией людей все может быть иначе.
Человек изобрел и шаг за шагом усовершенствовал систематический труд, который делал его все в большей степени человеком. Таким образом, человек и его труд связаны настолько тесно, что, может быть, частично трансформируются друг в друга. Трудовая деятельность человека, возможно, соответствует тому, что в традиционном религиозном понимании именуется «душой»; ведь многие люди вкладывают в свой труд (или творчество) буквально всю душу. Человек Нового мира, естественно, не получает душу от выдуманного Бога, а создает ее сам, реализуя свои стремления в творческом труде для себя и для всего человечества, активно преобразуя материю и одновременно делаясь частью ее неиссякаемых разновидностей энергии и стихийных сил. Поэтому вполне вероятно, что труд человека, то есть его духовно-материальный завет – «душа», – может сохраняться в материи, в свое время отыскаться и послужить воскрешению. Сопоставляя традиционное кладбище, где «пыльной казалась и память» [Шагинян 1979: 217], и строительную площадку, на которой «горит» стихия преобразующего труда, Шагинян показывает, что от смерти избавляют не церковные ритуалы, а техника и промышленность, а также иные формы творчества. Они не только оставляют более долговечные и заметные материальные следы, чем кладбище, неспособное одержать верх над «пыльным» забвением, но и дают способы и средства для оживления людей прошлого. В конце концов, и люди – те же «двигатели», которые легко ломаются и которых поэтому надо более умело конструировать и лучше восстанавливать с помощью могущественной техники. По крайней мере, так рассуждает один неизлечимо больной персонаж этого же романа [Там же: 246]; исходя из подобной логики, он находит исцеление не в рецептах врача и, конечно же, не в церковных обрядах, а в еще более активном участии в строительстве гидроцентрали. Своей работой он может быть полезным до конца. Интуитивно он знает, что новый человек, участник великого дела и работник, совершенствующий технику, действует в свою пользу, так как работает для своего же потенциального бессмертия. Научные технологии будущего помогут восстановить «мотор», который приводил в движение его тело до того, как смерть обратила его в прах.
Вот почему так важно оставить после себя долговечные плоды своих трудов. Они аккумулируют частички жизненной энергии умершего, оставшиеся в материи, сохраняя его душу-труд в ожидании «толчка», который возбудил бы организм к новому действию. Борьба за торжество революции, новая научная теория, открытие нового источника энергии, идея, объясняющая старые загадки природы, гениальное стихотворение, улучшение какого-нибудь механизма, любой продукт труда и мысли (она ведь тоже труд) – все это не только вызывает воспоминания об умершем человеке, но и дает материал для его воссоздания. Возможно, Шагинян к тому времени, когда писала свой роман, не забыла свое прежнее (или продолжавшееся?) увлечение Федоровым – в молодости она принадлежала к кружку, где культивировались идеи философа [Hagemeister 1989:196-97]. Теории философа бессмертия повлияли на многих советских интеллигентов – так, возможно, под воздействием Федорова советский историк Н. А. Рожков (1868–1927) предполагал, что «даже фотография умершего человека или строчки письма его рукой даст достаточно материала для реконструкции его уникального личного состава электронов», тем обеспечивая его воскрешение [Kline 1968: 165]. И у него было немало единомышленников (о теориях воскрешения Федорова см. главу 4).
Маяковский и Катаев
Футурист В. В. Маяковский несколько раз в своем творчестве провозглашал веру в воскрешение и реконструкцию тел. Это, в частности, отметил его близкий друг Р. О. Якобсон в статье «Из комментария к стихам “Товарищу Нетте – пароходу и человеку”» [Якобсон 1987: 339–342]. Знаменитый лингвист и филолог проанализировал это стихотворение 1926 года с точки зрения чающего спасения от смерти поэта. Из бесед с Маяковским начала 1920-х годов Якобсон сделал вывод, что тот внимательно следил за всеми новыми теориями, вероятными и невероятными, подававшими хоть малейшую надежду на возвращение жизни умершим и вечную земную жизнь после воскрешения из мертвых – от философии Федорова с ее «материалистическим мистицизмом» до теории относительности Эйнштейна, в которой время выступает как некое четвертое измерение. В упомянутом стихотворении герой и мученик революции, убитый дипкурьер Т. Нетте (1895 или 1896–1926), оставляет в этом мире весьма конкретный и тяжеловесный след в виде парохода, названного его именем. Совершив акт самопожертвования, защищая секретные документы НКВД, Нетте был убит врагами Советского Союза, а память о его подвиге сохранилась в советском пароходе его имени. По существу, этот пароход в каком-то смысле и есть «сам» Нетте в новой ипостаси. При виде парохода поэт «рад», что Нетте не умер, а «живой» [Маяковский 1963,2:150]. Дипкурьер и пароход похожи друг на друга уже тем, что выполняют похожие функции: дипкурьер Нетте был своего рода «пароходом», то есть средством пересылки и носителем важного для Советского Союза «груза» документов, а пароход «Нетте» продолжает его деятельность, став метаморфозой человека Нетте. Поэт, который был лично знаком с молодым дипкурьером, даже узнает его «очки» в спасательных кругах на борту. Сохраняя имя Нетте, память о его подвиге и даже «сходство» с ним, этот пароход придется очень кстати в день воссоздания самого Нетте. Естественно, и стихи Маяковского служат увековечению его памяти и его будущему воскрешению. Когда умершие преображаются в «долгие дела» [Там же: 152], такие как имя парохода, воспоминания благодарных потомков (и партии), стихи знаменитого поэта и т. п., такие метаморфозы сохраняют материальные следы личности, которые очень пригодятся в процессе ее «восстановления». Символизм воскрешения в стихотворении подчеркивается тем, что поэт готов идти «на крест» за новый мир без границ и секретов [Там же: 151]. И так как в будущем мире границ не будет, путешественники в царство смерти смогут вернуться оттуда, откуда раньше, говоря словами Гамлета, «никто не возвращался» (библейские предания не в счет). Об их возвращении позаботится «мастерская человечьих воскрешений», которую мы встречаем в поэме Маяковского «Про это» (1923), где поэт очень ясно излагает свое требование победы над смертью [см. Якобсон 1987: 342].
Границ не будет не только между царством мертвых и миром живых, но и между настоящим и будущим. Время ускорило свой бег, и человек научился «опережать время» [см. Hellebust 2011: 708]. Во всяком случае, после Октября, по мнению Маяковского, время начало подчиняться приказу человека лететь вперед все быстрее и вообще оказалось гибкой субстанцией, которая может сделать и обратный поворот в прошлое под давлением разных космических сил («изогнутое время»). Соединяя настоящее с будущим, время позволяет зоркому поэту уже теперь увидеть то будущее здание, где «в мастерской человечьих воскрешений», недоступной «для тленов и крошений», «большелобый, тихий химик», руководствуясь книгой «Вся земля» [Маяковский 1963,1: 568], занимается возращением к жизни красивых людей (таких, как возлюбленная поэта Лиля). Поэт уступает ей свое место в очереди умерших, ждущих вызова на акт воскрешения, так как он сам «недостаточно красив». Творческий и художественный авангард 1920-х годов приравнивал «революцию к откровению» и рассматривал события 1917 года «как долгожданный переход к новому миру и новому времени» [Bethea 1989: 176]. Разница только в том, что возвращением мертвых к жизни будет заниматься не Бог, а «большелобый химик».
Возвращаясь к прозе первых пятилеток: одно из самых знаменитых произведений этого времени, роман В. П. Катаева «Время, вперед» (1932), в названии которого цитируется «Марш Времени» Маяковского из пьесы «Баня» (1930), содержит эпизод, где советский инженер Налбандов ведет разговор на актуальные темы современности с американцем Рэем Рупом. Действие романа происходит в Магнитогорске, одном из главных «полей сражения» за торжество сталинского «великого перелома», где идет социалистическое соревнование между местными и харьковскими рабочими за рекордный темп строительства. Мистер Рэй Руп посещает всемирно знаменитый неслыханными промышленными достижениями город, построенный почти из ничего, почти на «пустом месте» (по принципу Божьего «да будет» – в данном случае коллективной воли к свершению). Американец приехал собирать материалы и впечатления – он намеревается написать книгу «о гибельном влиянии техники на человечество» [Катаев 1969: 212]. Налбандов возражает гостю, что человеческий гений безграничен и что прогресса нельзя опасаться. Он говорит западному представителю здравого смысла, что нельзя бояться даже самых дерзких стремлений: «Мы достигнем скорости света и станем бессмертными» [Там же: 267], не боясь скептической реакции с его стороны – или, быть может, надеясь на таковую? Налбандов – не самый положительный персонаж в романе, и его декларации не всегда искренни; втайне он разделяет старомодный гуманизм Рупа, который «жалеет» человека, то есть ничего от него не требует. То, что он все же отстаивает советскую доктрину, гласящую, что человек способен преодолеть любые препятствия, сделав даже время своим слугой, подчеркивает неоспоримость всемогущества нового человечества, творящего чудеса на советской земле. Возможно, его возражение Рупу свидетельствует и о том, что старая интеллигенция медленно, но верно начнет верить в эту доктрину. А новая интеллигенция может с полным правом претендовать на управление самим временем и объявить, что человек «станет бессмертным». Осторожный и консервативный Налбандов вопреки себе формулирует подлинную цель лихорадочной индустриализации, охватившей страну. Эта цель – полновластие человека над природой, космосом и временем. Рабочие и по-настоящему передовые инженеры, такие как Давид Маргулис, идейный противник Налбандова и положительный герой романа, «знают», что в конце концов именно так и будет[14]14
О дополнительных контекстах этого романа см. [Hellebust 2013]. И Маяковский, и, по всей вероятности, Катаев глубоко интересовались предположением Эйнштейна, что линия времени изгибается под действием силы тяжести; это, казалось, подтверждало утопические надежды на контроль человечества над временем [Там же: 118]. Правильно ли они понимали физика – иной вопрос.
[Закрыть]. Конечно, эти новые люди желают, чтобы победа человечества над всем, что ограничивает его свободу, случилась как можно скорее. Поэтому они гонят время «вперед» (а возможно, и назад по изогнутой линии обратного движения, в то прошлое, в котором умер какой-нибудь «ценный» человек, подлежащий воскрешению), совершая чудеса беспрестанного, истинно сверхчеловеческого, коллективного труда – чудеса гениальной находчивости и высшей нравственности. Их научная вера (идеология) выгодно контрастирует с налбандовским старорежимным скептицизмом и лицемерными речами Рупа, западного человека из Старого мира (который явно незнаком с теорией Эйнштейна, или не считается с ней, или же не делает из нее единственно правильных выводов). Но для истинно верующих в будущее всемогущество человечества, в мощную «волю к власти» (Ницше) нет никаких сомнений, что субъективно неискренние (или наполовину искренние) слова Налбандова подтверждают то, что объективно должно свершиться. Налбандов, наверное, заслуживает долю уважения со стороны советского читателя, когда, сомневаясь в «новой вере», все же защищает идеологические позиции своей советской родины. Не соглашаясь с иностранцем, верящим только в статус-кво, он, по-видимому, способен уверовать в лозунг «Время, вперед!». Следует отметить, что одним из преподавателей в одесской гимназии, где учился Катаев, был А. К. Горский, страстный проповедник идей Федорова о воскрешении мертвых (см. [Hagemeister 1989: 231, примеч. 62]).
Одухотворение материи
Некоторые представители русской религиозной философии Серебряного века допускали возможность превращения materia prima[15]15
Materia prima {лат.) — «первоматерия». – Примеч. ред.
[Закрыть] в божественную материю (Софию) и в возможность человека обожествить себя путем самосовершенствования и «самоэстетизации». По мнению Уайлза, концепция «обожествления» материи и человека присутствует и в православии, и именно этот факт является одной из причин русско-советского «непомерного» интереса к теме вечной жизни на земле. Если он и ошибается в том, что Церковь разделяет «эволюционную» теорию теургического самосовершенствования человека до стадии божественности, то в религиозной философии того времени, безусловно, содержатся элементы концепции «кающейся первоматерии», стремящейся к совершенству после своего «отпадения» от Бога (см. главу 5 о В. С. Соловьеве). Богостроитель Горький, конечно, был чужд мистическому учению о Софии, но очень увлекался научным знанием о «свойствах материи» и о том, как их использовать в динамике ее развития [Юнович 1961: 54]; в особенности его интересовали различные виды энергии, содержащиеся в ней и делающие ее «движущейся материей» [Там же]. Важнейшей задачей науки он считал «изучение разных видов энергии в природе – электромагнитной, радиоактивной, силы падения вод, течения воздуха, приливов и отливов океана, солнечной теплоты – всех видов, всех форм движения в мире» [Там же: 94]. Возможно, писатель понимал энергию как «дух материи», а ее «энергизацию» (мой термин. – А. М.-Д.), то есть ее стимуляцию человеческими усилиями – как ее продвижение к совершенству. Ф. Энгельс в «Диалектике природы» (1883) учил, что саморазвитие материи обусловлено диалектикой (которая, по мнению Уайлза, играет в марксизме «роль духа» [Wiles 1965,56:130]) и что регулярные «скачки» из одного состояния материи в другое меняют ее качества[16]16
Интересно, что известная исследовательница философии Федорова С. Г. Семенова полагает, что материализм прав, допуская существование скачков такого рода. Если это так, то возможен и скачок из материального состояния в духовное [Bernstein 2019: 120].
[Закрыть]. Как видно, возможных источников этой теории много и нередко теургия переплетается с научным подходом.
Горький излагает свою теорию о будущем состоянии материи
Будучи «властителем дум» с самого начала XX века, Горький играл важную роль не только как выразитель социалистических взглядов своего времени, но и как приверженец новой «религии» богостроительства (см. главу 6), наряду с ее основоположниками А. В. Луначарским (1875–1933) и А. А. Богдановым (1873–1928). Смолоду настроенный антирелигиозно и богоборчески, писатель искал «новую веру», в которой ницшеанский призыв к человечеству превзойти себя, создав сверхчеловека, сочетался бы с верой в могущество науки. Подобно многим современникам, Горький воспринимал науку как эманацию нового бога – Разума. Периоды поклонения Разуму имели место в истории и ранее, но новый культ, в отличие от прежних, нередко обращался за поддержкой и подтверждением не только к науке, но также к магии и оккультизму, допуская, правда, что эти сферы скорее «предвещают», чем просвещают. Горький, несомненно, принадлежал к тем интеллигентам Серебряного века, которые стирали грани между наукой и магией, химией и алхимией, мифом и реальностью, утопией и собственными фантазиями. В этом смысле показателен разговор между Горьким и А. А. Блоком о превращении материи в чистую, но все же материальную мысль, который состоялся в 1919 году в Петрограде, на скамейке Летнего сада.
Этот разговор с Блоком Горький включил в свою книгу воспоминаний «Заметки из дневника. Воспоминания» (1924) [Горький 2000: 205]. Начался разговор с того, что Блок спросил Горького, верит ли тот в бессмертие человека. В ответ Горький изложил поэту свое видение человека будущего:
Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль – результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов мертвой, неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком, претворится мозгом его в единую энергию – психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании – в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей.
Блок возразил, что, к счастью (курсив мой. – А. М.-Д.), закон сохранения вещества противоречит теории, изложенной Горьким, так как все в ней очень «скучно». Горький, в свою очередь, отстаивал свои теории доводом, что ему «приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, не всегда совпадают с неведомыми нам законами вселенной»[17]17
Горький был не одинок в своих «скучных» (по Блоку) построениях мира из чистой энергии путем мозговой трансформативной деятельности. В Англии ламаркист Дж. Б. Шоу тоже предполагал, что материя идет на «сотрудничество» с волей человека, и мечтал о дематериализованной материи. Его точку зрения высказывает персонаж пьесы «Назад к Мафусаилу» (1922) по имени Древняя: «настанет день, когда людей не будет, а будет только мысль» (пер. Н. Брянского и др.). Автор поэмы «Человек», в которой Мысль – единственная подруга Человека, был поражен сходством своих теорий с воззрениями Шоу [см. Крюкова 1987: 250].
[Закрыть]. Блок повторил, что ему «все это» кажется «скучным», и объяснил:
Дело – проще; дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтоб верить в Бога, и недостаточно сильны, чтоб верить только в себя. Как опора жизни и веры существуют только Бог и я и Человечество. Но – разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Нет, эта ваша фантазия <…> жутко! Но я думаю, что вы несерьезно говорили [Там же: 206].
Разговор Горького с Блоком побуждает согласиться с Дж. Смитом, автором книги «Иррациональность» (Irrationality), что иррациональность – «близнец разума» [Smith 2019:5], как бы подтверждая его мысль, что «попытки истребить все проявления иррациональности сами в высшей степени иррациональны» [Там же: 287]. Бескомпромиссный приверженец разума и враг всякой «мистики» Горький предлагает фантастические видения будущего мира и человечества, употребляя множество научных терминов, которые, очевидно, должны гарантировать правдоподобие его спекуляций. Блок, считавшийся мистиком в лагере реалистов, наоборот, приводит в своей «защите» земной материальности вполне научные факты физики (закон сохранения вещества). Очевидно, иррациональное мышление может привести к вполне рациональным заключениям, и наоборот рациональность может перейти в иррациональность; если они и не «близнецы» то психически и духовно тесно переплетены. Такое переплетение можно наблюдать и в культе Ленина, который начался с похорон вождя и продолжался в бальзамировании его тела и изучении его мозга.









































