Текст книги "Элегии родины"
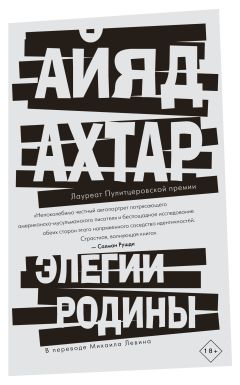
Автор книги: Айяд Ахтар
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Здесь в силе мафия?
– Ну, сейчас уже нет, но когда я был мальчишкой, тогда да.
Мы снова свернули и проехали мимо многоэтажных жилых башен начала прошлого века. Они разваливались.
– Авторитетом – вот кем стоило хотеть стать. В каждом кармане вот такая пачка наличных. В смысле, я таких знавал некоторых, потому что мой отец помогал вести литературное общество.
– Литературное общество?
– «Литературное общество Данте». Такой социальный клуб был. В смысле, он еще есть, но фактически умер, как и все тут вокруг. Его создали во время Депрессии – учить английскому приезжих из старой страны, хотя, когда я был мальчишкой, в основном там ребят вроде нас учили итальянскому. Ну, и еще бальные танцы, если можете себе представить. Серьезные авторитеты здесь регулярно бывали. И была комната в глубине, где они, понимаете, в карты играли. – Он через зеркало заднего вида посмотрел мне в глаза и прищурился в понимающей усмешке. – Вы меня поймите правильно: я об этом подумывал. Был момент, когда решил, что подходящая для меня жизнь – хорошие костюмы, красивые девушки. Но почти сразу понял, что я не из того теста сделан.
Мы въехали в центр. Кое-где посреди кварталов попадалась еще сильнее запущенная роскошь девятнадцатого века, особняки, воскрешающие Грецию или Рим, спорадические напоминания о давно ушедшей эпохе великого богатства, забитые и зажатые бездумными массивами новых городских строений – эклектика стилей и потертые фасады, украшенные объявлениями о сдаче в наем. Марк показал на мощные, неброские гранитные блоки и арки университета, на пестрые и резкие камни окружного суда, желтоватый известняк здания, которое Марк назвал «Электрическая». На миг здесь, в центре города, на фоне выгорающего предвечернего неба, будто написанного Дэвидом Хокни – груды серебристо-розовых пушистых облаков на васильковой синеве, – Скрэнтон вдруг предстал полностью нарисованным задником к современному ситкому «Офис», – что было моей единственной на тот момент с ним ассоциацией.
– Приехали, – объявил Марк, останавливаясь под навесом отеля.
Вышло чуть меньше семи долларов. Я покопался в бумажнике и протянул ему десятку. Марк взял ее в зубы, вытащив толстый ком долларовых бумажек из кармана рубашки, и стал отсчитывать сдачу.
– Не надо, – сказал я. – Оставьте себе.
Он глянул удивленно, челюсть отвисла – видимо, его изумила моя несоразмерная щедрость. Он решил, что у меня есть деньги, подумал я, когда таксист поблагодарил меня почтительным сдержанным кивком.
Решетка Мэри, или ночная работа
У себя в номере я два часа провел за ежедневными письменными занятиями, записывая подробно заметки за день, потом пошел в тайский ресторан ужинать. Этот ресторан представлял собой единственный живой фасад во всем квартале, и его кричащий каменно-бамбуковый интерьер пытался спорить с наружным запустением. В окно было видно, как на той стороне улицы валяется бездомный, над ним стоит коп и пытается его разбудить. Оказалось, что тот на самом деле мертв. Когда я шел после ужина домой, двое рабочих со «скорой» грузили его в машину с эмблемой – распятие на фоне горы.
В отеле я еще какое-то время писал заметки, глядя, как «Патриоты» разносят «Краснокожих», потом лег спать. Много лет подряд – и тогда еще, но уже не сейчас – я, как правило, клал блокнот на ночной столик так, чтобы легко было достать, а к указательному пальцу привязывал карандашик. Этой технике я научился от Мэри Морони, – наличие карандаша на пальце было сенсорным напоминанием, способом вспомнить собственные сны в те моменты замутнения или неясного еще пробуждения, – чтобы не заснуть тут же снова, но взять блокнот и записать все, что удастся вспомнить. Мэри этот прием почерпнула у одной слушательницы семинара Лакана в Париже, с которой она вместе училась семестр в Сорбонне в начале восьмидесятых. Запись собственных снов, сказала мне Мэри, когда мы заканчивали день просодического анализа «Листьев травы», помогала ей разобраться в бессознательном, хотя, как она сказала, использование этого термина она считает проблематичным: «Я знаю, это звучит глупо, когда я это говорю, сидя под собранием сочинений Фрейда. – Она оглянулась на ряд бежевых томов, выстроенных в нижнем углу громоздящегося над ней книжного шкафа. – Но, в общем, именно так всегда говорила мне Дженни (Дженни – это была ее девушка): “Если ты так не любишь Фрейда, зачем столько времени тратишь на его чтение?”»
– И зачем же?
– Начнем с того, что я не то чтобы не люблю Фрейда. Считаю ли я, что он очень во многом был не прав? Да. Особенно насчет женщин, хотя и не только. И уж в чем он был не прав, в том действительно был не прав. Был ли он властолюбив? Да. Был ли он мизогином и наркоманом? Да и возможно. Но ничто из этого не отменяет тот факт, что он был гением.
– И мне его тоже стоит прочесть?
– Несомненно. – Она повернулась на кресле и вытащила один из бежевых томов. – Они наверняка будут стоить больше, когда я умру, если суперобложки сохранить в хорошем состоянии, – сказала она, снимая супер с книжки. – Как я уже сказала, не все, что он говорит, верно. Но он на этом пути был первопроходцем. И при всех своих провалах углубился куда сильнее, чем большинству вообще доступно.
Она протянула мне через стол раздетую книжку: Том IV (1900) ТОЛКОВАНИЕ СНОВ.
– В детстве мне все время что-то снилось, – сказал я. – С хорошей движухой. А потом прекратилось, уже много лет снов не вижу.
– На самом деле видишь, ты просто их не помнишь.
И тут она показала мне прием с карандашиком.
Посоветовала, чтобы карандаш был коротким, так что в этот вечер я разломал новый «диксон № 2» и заточил обломанный конец, а потом примотал эту половинку к указательному пальцу скотчем. Это было похоже на самую идиотскую в мире самодельную шину. (К счастью, мой сосед в это время почти всегда ночевал у своей девушки). Но Мэри оказалась права. Трижды за эту первую ночь я просыпался с какими-то образами в голове, и привязанный карандаш давал достаточный стимул дотянуться до блокнота и начать писать. Поскольку писал я в темноте, прочесть наутро эти каракули было бы трудно, но это и не важно: сам процесс записи снов как-то фиксировал их в уме – катушка сна разматывалась, один вспомненный фрагмент тащил за собой другой, вытаскивал откуда-то забытый кусочек, вел к другому сну, о котором я даже не помнил, что он был, и вспоминал его лишь в процессе записи. Как будто во мне больше места, сказал я Мэри на следующей неделе, чем я вообще себе представлял.
По ее улыбке было ясно, что она меня вполне поняла.
Весь следующий месяц наш еженедельный час учебы был, в основном, заполнен разговорами о бессознательном. Причина, объяснила Мэри, почему она не любит этого слова, в том, что оно скорее затуманивает, чем проясняет. Есть ощущение предмета, который сопротивляется пониманию или формулированию, чего-то, что хочет остаться затемненным, чего-то, что Фрейд часто определяет под собственные цели. Она считает, что все это непродуктивно. И в то время как она не отстаивала никакого конкретного способа переопределить концепцию великого венского мыслителя, у нее были свои предпочтительные метафоры. Одна из них – словарь. Последнее издание Оксфордского словаря, которое вышло за три года до того, в 1989-м, содержало двести девяносто тысяч слов. Большинство людей знают не более двадцати тысяч, говорила Мэри. Знать половину этого количества – считается владеть языком бегло. Беглость подобна сознательной части разума: это ряд возможностей, содержащихся в словах, которые ты знаешь. А бессознательное, продолжала она аналогию, – это та масса слов, которой ты не знаешь. Эти неизвестные слова и значения – ризомы звука, зародышевые корешки значений, – подобны сплетению корней, о которых все забыли, но они продолжают питаться от мертвой материи ушедших языков, похороненных в живом, который мы слышим, на котором пишем и говорим. Эту метафору про словарь Мэри любила потому, что в ней подразумевалась задача изучения языка, подробного и глубокого изучения, и то, что не нравилось ей в этой метафоре, тоже было к этому привязано: подразумевание чего-то неизменного, чего-то, что началось и кончилось, что может содержаться в той книге, которую ты, быть может, держишь в руках. Последние ее занятия математикой дали ей то, что, как она думала, открывает еще более плодотворный путь перевообразить себе фрейдовское бессознательное. Так она объясняла мне за кофе в студенческом союзе, где мы в конце концов оказались после одного из наших заседаний у нее в офисе. Она вытащила из сумки толстый учебник и открыла его на странице, расчерченной косыми и волнистыми линиями, и каждая диаграмма была помечена тем или иным видом математической «решетки». В этих чертежах взаимосвязанных линий она усмотрела визуализацию работы нервной системы человека, мельчайшие детали нашего перцептивного аппарата. Граф каждой решетки исходил из одной точки и в одну точку возвращался, и это Мэри уподобила префронтальной коре, местоположению нашей сознательной личности, которая, как она сказала, получает всю информацию, что кишит в огромной нейронной сети тела, но едва отмечает большую часть всего этого.
– И чем больше ты, как творец, – обратилась она ко мне теперь как к начинающему писателю, – живешь в этом плетении, чем живее ощущаешь решетку за работой, тем ближе ты к существенному, к настоящему.
Записывая свои сны в эти первые недели, я стал вкладывать в ее слова некий свой смысл. Новый путь в решетке начинался всего лишь с воспоминания о том, чей голос говорил у меня в голове последним перед пробуждением, и этот путь возвращал меня не только в плоть сна, но еще – по мере записывания – к обрывкам и заплатам прошлого, к нитям памяти, из которых сон и был сплетен; голос наводил воспоминание: «комната» – и в памяти возникала эта палата с медного цвета перилами вдоль больничной койки, медсестра, которая ухаживала за мной месяц, когда у меня был тиф в мои два года, тарелка равиоли, выброшенная в мусорное ведро в три, когда мать пошла открывать в ответ на звонок в дверь, к первому, вероятно, шевелению полового желания в четыре, пробужденного моей тетей Хадиджей, почти стопроцентной копией моей матери, ее сестрой, – прав был Фрейд! – сидящей в солнечном квадрате в нашей гостиной в Милуоки.
И эта материя настоящего, о которую я спотыкался, была определенно существенна, но только для меня, – отчитался я Мэри. Кому еще могло быть дело до чего угодно из этого? А если никому нет дела, почему мне должно быть? Для какой цели вся эта самопоглощенность?
Мэри ответила мне так, будто предвидела этот скепсис. В последовавшие недели наш литературный час бывал заполнен нейрофилософскими рассуждениями. Анализ фразы Уитмена и фрейдистские образы сменились разговорами о языковых играх Витгенштейна и феноменологии восприятия Мерло-Понти. Форма и функция тела сформировали возможности разума и упорядочили нашу грамматику; наше мышление не может быть отделено от тела, в котором оно происходит. Сны, говорила Мэри, были для нее наилучшим путем в это более простое, более примитивное восприятие бытия. То, что она видела и ощущала с этой точки зрения, ощущалось более живым, да и оказалось в конце концов более стойким. Я потребовал от Мэри защитить свое утверждение фактами – и статистикой! Я же сын ученого, отчаянно (мягко говоря) желающий услышать разумные аргументы для обоснования всего этого животного чутья. Она спросила: вот визионеры, которых мы изучали, Уитмен и Вульф, Черный Лось, – они когда-нибудь давали себе труд рационализировать, почему так легко уступали глубинным течениям человеческого опыта? Нет, ответил я. Похоже, что им было абсолютно наплевать.
– А тебе тогда зачем?
Ничего себе вопрос двадцатилетнему.
Я не сдался. Вскоре я обнаружил, что если слишком много шевелюсь, когда просыпаюсь, воспоминание о сне испаряется. И тогда уже неважно, возьму ли я блокнот, потому что записывать будет нечего. Я рассказал Мэри, что происходит, и она предположила, что важен только наклон позвоночника. Если я не буду двигать позвоночник, сказала она, то и сон не потеряется. Потом она добавила, что если я даже изменю изгиб позвоночника, достаточно будет просто его восстановить – и сон вернется. Я ей не поверил.
– А ты попробуй, – сказала она. – Увидишь, что это действует.
На следующее утро где-то на рассвете я проснулся с полной головой бурлящих образов. Перевернулся взять блокнот – и тут же все картинки пропали. Я вспомнил, что Мэри мне велела сделать, перевернулся обратно, восстановил тот же изгиб спокойно лежащего позвоночника, и вдруг мысли и картинки хлынули обратно. Снова оживился ландшафт сна, весь.
Я потянулся за блокнотом и начал писать.
На следующей неделе, когда я сказал Мэри, что ее предложение помогло, она только улыбнулась моей недоверчивости. Потом перешла к объяснению, что если она права – если в каком-то существенном смысле сон есть опыт общения на языке нашего тела, то позвоночник, центральная ось нашей неврологической решетки, вероятнее всего, и является тем локусом, где по большей части и происходит процесс сновидения: соки осознания поднимаются от корней тела в ветви мозга.
Я не стал сомневаться ни в ее предположении, ни в метафоре, которой она его изложила. Способ восстановления сна путем принятия того же положения позвоночника меня достаточно убедил, что это действительно так, какова бы ни была причина.
Этой формы ночной работы я придерживался следующие двадцать пять лет. В свое время я пришел к согласию с мыслями Мэри о языке организма, и годы и дни провел, вырабатывая собственное понимание смысла этого языка. Как и Мэри, я всерьез изучал ранние попытки Фрейда расшифровать сны – попытки, перетолковываемые и оспариваемые всей психоаналитической традицией, – и восхищался тем, как эта его техника продолжает давать верные и выдерживающие критику догадки.
Я не готов делать сейчас какие-то широковещательные ответственные заявления, но скажу вот что: жизнь в свете ночника моих сновидений оказалась богатой, заманчивой, назидательной; она мне дала широкий выбор поводов задуматься о природе времени – мои сны в течение многих лет оказались испещрены пророческими сюжетами и оценками, но даже эти намеки на невозможное не сравнятся с самой чудесной наградой всех этих прерванных снов. Мои сны позволили мне многое узнать обо мне самом. Не думаю, что я смог бы сформулировать пользу или трудности работы с ними лучше, чем сделал Монтень в «Опытах»:
«Я считаю истиной, что сны – честное отражение наших намерений, но понимать их – это искусство».
* * *
Той ночью в Скрэнтоне мне снилась некая предстоящая свадьба. Мы с отцом спорили о приглашениях. Он хотел взять марки с изображениями различных христианских святых, меня это разозлило. Потом я оказался в группе паломников в бурную ночь. Мы медленно шли по узкой тропе на крутом склоне. Многие зажимали в руках посохи, опираясь на них при яростных порывах ветра. У некоторых на посохах были перекладины, но наискось – настоящего распятия не получалось. На вершине холма находилась могила, но все подходившие с удивлением убеждались, что это просто пустая яма, а покойник решил не показываться. Кто-то пожаловался, что в Кашмире мертвецы часто так поступают. Я проснулся с ощущением поражения и какой-то угрозы.
Утром в кофейне я заказал себе чай со слоеной булочкой и сел разбираться с записями ночного сна. За полтора десятка лет, с тех пор как Мэри мне дала это задание, я записал, аннотировал и истолковал буквально тысячи снов. Процесс, через который я проходил, чтобы найти в них смысл, – как говорит Монтень, – все еще нес на себе следы влияния Мэри и Фрейда. Так как Мэри меня учила делать это с помощью стихотворения, я начал именно с этой структуры, потом проработал все выдающиеся детали сна с помощью свободных ассоциаций. С учетом сна, который был в предыдущую ночь, структура была мне не очевидна: сочетание эпизодов без отчетливой нити, их соединяющей, – сперва спор с моим отцом насчет свадьбы, затем шествие вверх по склону, приведшее к чьей-то пустой могиле. Нет отчетливой нити, думал я, хотя ощущение напрасности и неудачи, которое было у меня во время шествия и еще час не отпускало после пробуждения, объединило мое проживание обеих частей. Может быть, думал я, проработка деталей окажется более плодовитой: свадьба казалась очевидной ссылкой на грядущую свадьбу в моем семействе. Сами мои родители обсуждали ее как раз в этот уикенд в «Сенека-Лейк». Старший брат моей матери, мой дядя Шафат, женился повторно. Его первая жена, Билькис, пакистанка, обнаружила, что у него роман с белой американкой, и ушла от него. Сейчас Шафат собирался жениться на своей любовнице. Мать была возмущена всей этой историей и поверить не могла, что отец собирается присутствовать на церемонии. Отец же считал реакцию матери ребяческой. Шафат и Билькис никогда не были счастливы вместе, так в чем проблема? Не лучше ли им разойтись, тем более теперь, когда у одного из них есть теперь с кем быть счастливым? Учитывая тот факт, что отец поддержал идею Шафата жениться, а я во сне исполнял в нашем споре роль матери, сон вроде бы открывал мне глаза на некое мое единодушие с матерью по какому-то вопросу, мною не осознаваемому.
Далее: склон холма и узкая тропа. Что-то в этой тропе напомнило мне изображения Великой Китайской Стены. Отметив это, я вдруг вспомнил – как будто простой акт письма сам вызвал воспоминание – холм в пенджабской деревне, где прошло детство моего отца, и на вершине холма стояла маленькая мечеть, которую возглавлял мой дед, когда еще был жив. Это и была святая земля, к которой прокладываем себе путь мы, паломники? А на вершине была пустая могила. Я видел как раз накануне, как грузят в «скорую помощь» мертвое тело, и на машине нарисовано изображение другого священного холма, Голгофы. Самодельные распятия в моем сне и пустая могила вдруг, кажется, находили взаимосвязь, вызывая в памяти историю опустевшей гробницы Христа.
И пока я записывал, вспомнилось еще кое-что: мой отец всегда говорил, что хочет быть после смерти похоронен в своей родной деревне. Но деревня отца находилась не в Кашмире, а в Пенджабе, как и эта могила из моего сна. Я несколько задержался на упоминании Кашмира, заключительной подробности этого сна. Записал ближайшие ассоциации о том, как мало мы упоминали Кашмир на моей пенджабской родине – ну, кроме обычного индопакистанского трепа о том, кому принадлежит эта спорная земля – Пакистану или Индии, и как хитроумно-коварно поступили британцы, оставив этот вопрос нерешенным и создав место вечного конфликта в своей бывшей колонии. Я написал про странный розовый кашмирский чай, подаваемый с солью, а не с сахаром, – мой отец иногда его делал, когда приходили гости. Но ни одна ассоциация не спровоцировала никакого наития. Я не отступал, свободно ассоциируя место, слово, имя, составляющие их фонемы. Но лишь когда я сдался, закрыл и убрал блокнот и сидел на унитазе, читая сортирные надписи на двери кабинки, вот тогда я вспомнил: Шафат – мой дядя, который собрался повторно жениться, – приехал в Америку после службы в армии Пакистана. Грин-карту ему спонсировала его сестра, моя мать. Помню ее тревоги насчет того, как много времени занимает процесс (особенно ее беспокоил очередной назревающий конфликт с Индией, а Шафат жил неподалеку от вероятного места боев – в Кашмире). И сразу мне стала ясной структура глубинной логики сна: он начался со скрытой отсылки к Шафату и кончился такой же отсылкой!
Запутанная сага жизни Шафата уже в Америке заслуживает трактовки сама по себе, но вот частичка ее, которой я должен поделиться, чтобы передать, почему, сидя на унитазе в туалете скрэнтонской кофейни, я вдруг резко осознал смысл сна. Через три года после одиннадцатого сентября Шафат – красивый светлокожий пакистанец, ростом выше среднего, с волнистыми волосами, гладко расчесанными с гелем, человек военный по своему душевному расположению и инженер по образованию, работающий на заводе строительных кранов в северной Вирджинии, где его уважали и где ценили его работу (как показывает история его частых и быстрых повышений и зарплата в двести тысяч в год); рукастый хозяин, зритель передачи «Этот старый дом», целые уикенды проводящий за совершенствованием своего двухэтажного дома в колониальном стиле; читатель классической литературы, учившийся в лучшей школе-пансионе, которую только пакистанская семья нижнего среднего класса могла себе позволить, где он прочел «Карманный оракул» Балтазара Грациана и потом утверждал, что живет по этому нестареющему и остроумному нравственному руководству; чемпион-боулер школьной крикетной команды; отец трех сыновей, которые настолько его любили, что не оставили, даже когда он женился на своей любовнице, несмотря на страдание, которое доставили этим матери, любимой ими не меньше; этот самый Шафат, преступник перед своей женой – быть может, но ни в коем случае не перед государством, оказался однажды вечером в тюрьме города Норфолка, штат Вирджиния, где его избил до синевы сосед по камере, по наущению, как полагает мой дядя, двух копов, которые за этим наблюдали, потягивая пиво. Вечер начался с того, что Шафат, сам перед этим выпивши пива, неосторожно ввязался в политический спор в своем излюбленном местном баре неподалеку от военно-морской базы. Может быть, из-за собственного армейского прошлого он ощущал себя в этом военном городке более комфортно, чем ему вообще следовало себя ощущать. Я определенно сомневаюсь, что он выпил только один стакан, как он всегда заявлял, и не могу не задать себе вопрос, как бы отнесся Грациан к его решению поделиться историей, как он был посвящен в детали приема тайного американского груза на аэродроме возле Кветты в конце восьмидесятых: два контейнера новых хрустящих стодолларовых бумажек, которые было приказано доставить союзникам США в Афганистане. Контейнеры были доставлены к границе, где их встретил человек, впоследствии ставший известным миру как воплощение зла, одноглазый духовный лидер «Талибана» мулла Омар, в те времена бывший одним из многих моджахедов, сражавшихся против советского врага. К тому времени Омар уже потерял глаз, выбитый осколком шрапнели, – по легенде Омар вырезал его из глазницы собственным ножом. После победы над Советами Омар вернулся на родину в Кандагар и достиг известности как противник коррумпированных полевых командиров, правивших тогда почти всей страной. Особенно Омара возмущала распространившаяся среди вождей племен педофилия. Он со своими виджилянтами провел серию партизанских операций, освобождая детей, похищенных и содержимых в качестве секс-невольников различными вождями ополчения, и весть об этих его праведных поступках сильно подстегнула его популярность. Так началось движение, впоследствии ставшее известным как «Талибан». Или так это объяснял Шафат собравшимся посетителям бара, добавив к тому, что как бы мы сейчас в нашей стране ни ненавидели «Талибан» – имея к тому серьезные причины, чего он, Шафат, не отрицает, – но имело бы смысл вспомнить, что когда-то именно эти люди жили у нас на содержании. Не всегда они были такими чудовищами, которыми сейчас оказались.
Или что-то в этом роде.
Что он себе думал? И стоит ли удивляться, что как только он оттуда вышел, на стоянке его встретили двое полицейских, сказав ему, мол, им позвонили и сообщили, что он произносил угрозы в адрес Америки?
Шафат глупцом не был (хотя из моего рассказа это и не очевидно), и поэтому мне весьма затруднительно объяснить тот злосчастный ответ, который он дал на этот предположительно абсурдный вопрос: «Если, офицер, вы считаете обычный урок истории угрозой в адрес Америки…», – какового ответа оказалось совершенно достаточно, чтобы его бросили на землю, наступили подошвой на лицо и так вывернули руку назад, что левый плечевой сустав пришлось впоследствии заменять. Шафата в наручниках привезли в отделение и бросили в камеру к ветерану, у которого кончились антипсихотические таблетки, и это было лишь началом его страданий в эту ночь. Стоило ветерану услышать, как полицейские называют Шафата членом американского «Талибана», он тут же стал орать ему в лицо. Шафат, забившись в угол под ударами рук и ног ветерана, увидел краем глаза, как полицейские открывают пиво и устраиваются на своих стульях. Кончилось тем, что ветеран сломал Шафату два ребра, и его отвезли в больницу с внутренним кровотечением. Какое-то время казалось, что Шафата обвинят не только в пьянстве, безобразном поведении и сопротивлении задержанию, но и в попытке нападения на сотрудника полиции. Когда стало ясно, что Шафат не станет подавать жалобу, все обвинения были сняты.
Имевшие место впоследствии развод и второй брак Шафата неотделимы, я считаю, от того, что случилось в ту ночь, поскольку как раз вскоре после этого случая он и начал свой маловероятный роман с воцерковленной виргинкой по имени Кристин. Ходили слухи, что он с ней посещает церковь по воскресеньям и думает об обращении в христианство, – слухи, которые потом подтвердились тем, что он официально сменил имя на Люк[17]17
Английский вариант имени евангелиста Луки. (Прим. перев.)
[Закрыть]. К этому моменту они с моей матерью уже не разговаривали, но один из его сыновей сообщил мне по секрету, что «Люк» и его пытался обратить, и одним из аргументов в пользу обращения – аргументов для родного сына – было то, что наконец-то он в этой стране ощущает себя в безопасности, потому что чувствует себя как свой.
Многое из этого я узнал намного позже того сна, что был у меня в Скрэнтоне, – брак тот тогда еще не состоялся, обращение и смена имени на тот момент не были официальными, но подоплека, условия, сформировавшие дальнейшую жизнь моего дяди, были частью уже сложившейся социальной логики, что сформировала и мою жизнь. Полагаю, что случившийся накануне конфликт с патрульным Мэтью пробудил соответствующие узлы моей решетки ассоциаций – если снова воспользоваться метафорой Мэри, – что привело к сновидению, пробудившему воспоминания об избиении моего дяди как эхо моего собственного телесного страха перед законом в Америке после одиннадцатого сентября. Но этот сон был больше чем просто эхо, потому что мне вдруг открылась более широкая перспектива невзгод и угроз для нас, мусульман, в Америке; невзгод и угроз, проблему которых, как в конце концов уверовал мой дядя Шафат, можно решить, приняв христианскую веру. Видите ли, мы – мусульмане – живем в христианской стране. Вот так мы это видим – по крайней мере, в знакомых мне семьях. Мы живем в христианской стране, но христианства мы не понимаем. Не понимаем и не уважаем. Мы считаем его случайным, по ошибке порожденным побегом иудейской веры, ширящимся недоразумением, основанном на онтологическом абсурде: будто Богу мог понадобиться сын, и этот сын – предположительно божественный – мог погибнуть во плоти от рук людских. Вот это утверждение (и все связанные с ним нелепости: Святая Троица, Непорочное Зачатие, пресуществление – своего рода игра в наперстки) мы считаем глупостью. Но имеет место парадокс: чтобы процветать в этой новой земле, мы должны принять ее христианский образ действий, образ, который нас запутывает и который мы презираем; тот образ действий, который мы видим почти в каждом аспекте американской жизни. Трудно было бы американцу-немусульманину (агностику, атеисту или секулярному гуманисту) понять точку зрения, которую я описываю, в которой «христианский» – это единственный атрибут, который используется для характеристики всей американской жизни в целом. Потому что и в самом деле там, где некоторые увидят современность, или идеализм, или меркантильную демократию, или наследие Просвещения, или неустранимо сложную и бесконечно гетерогенную нацию, мы видим христианство. Для нас все это – христианство. Не только церкви, и их пикники с мороженым, или «рыбные» пятницы, или бекон на завтрак, или вино с облатками по воскресеньям и все остальное всю оставшуюся неделю. Не только топонимы и имена, взятые из Евангелий и списка католических святых, не только раскрашенные яйца в апреле и сосновые гирлянды и санки в декабре. Нет, я имею в виду и январские распродажи в супермаркетах, и используемые на них кредитные карты с начислением процентов, и каникулы на пляжах со странным желанием, чтобы кожа потемнела, и настройка скрипки по чистым квинтам, и понятие, будто провести куском туалетной бумаги по анусу достаточно, чтобы быть чистым, и неудобство работы с полоской ткани на шее, завязанной так туго, что едва можешь дышать, и всякие бикини и юбки до колена, и, конечно же, без всякой необходимости, хороший конец у всех историй. И я не думаю, что мы абсолютно неправы, видя это так, как мы видим. В конце концов, это есть даже в языке, на котором мы здесь говорим, с его простой невычурной красотой, диапазоном коротких четких слов, с его вещей силой, языке проповеди и мироустройства, в тоне и вокабуляре, не просто заимствованных из Библии короля Якова, но прошитых насквозь издавна и до сей поры активной жизненной силой англо-саксонского христианского Господа. И да, отцы-основатели требовали религиозной свободы, ценности весьма превозносимой и провозглашаемой – что должно бы нас успокоить, но мы, конечно, все изучаем (в школе, в курсах на получение гражданства), что эти протестантские отцы в белых париках в основном создавали в новой республике место для конкуренции фракций различных протестантских убеждений. Даже само Просвещение, признанный источник этого национального эксперимента, невозможно отделить от европейской христианской культуры – реакцией на которую оно и было. А получившийся из этого секулярный гуманизм? К чему-то развившийся, к чему-то другому мутировавший плод, сорванный в ухоженном многими поколениями саду христианского знания. Во сне я видел инкапсулирующую мизансцену, как наш брат не в силах понять эту христианскую страну, уж тем более в ней процветать, видел наше невольное участие в ее ритуалах, и рождающееся из этого наше неизбежное разочарование. И хотя отец в первой части моего сна предстал как человек, открытый христианскому эксперименту, поддерживающий смешанный брак и идею, чтобы тот был «проштемпелеван» ликами христианских святых, – меня злила его готовность играть по этим правилам. Я, как и мать, упорствовал. Потом: мы прошли по тропе на вершину холма, сжимая плохо сделанные кресты, наше разношерстное паломничество закончилось на вершине, где остались следы ислама отца моего отца, на месте которого теперь появилось христианское чудо, нам непонятное. Для нас пустая могила не есть доказательство новой жизни, а лишь причина посетовать, что мы потеряли еще одного из нас. Мертвец, подобно моему дяде Шафату, забыл свою родину.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































