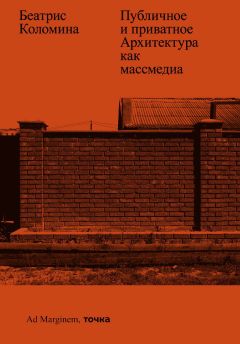Читать книгу "Публичное и приватное. Архитектура как массмедиа"
III
Нужно скрывать глубину. Где?
На поверхности.
Гуго фон Гофмансталь.Книга друзей
Обозревая местность, я вижу лишь болота, заглядывая в их глубины, я вижу лишь поверхность. В ситуации я вижу только ее проявления, от них до меня доходит одно отражение, и даже его я вижу лишь в общих чертах.
Карл Краус. В нашу великую эпоху
Когда Лоос пишет, «пусть снаружи дом кажется молчаливым и скромным, он откроет свои богатства в интерьере»[62]62
Лоос А. Искусство родины [1914] // Орнамент и преступление. С. 89.
[Закрыть], – он, кажется, вторит Ницше, утверждавшему, что именно беспрецедентный раскол между внутренним и внешним – интерьером и экстерьером, – делает современного человека современным – «удивительное противоречие между внутренней сущностью, которой не соответствует ничто внешнее, и внешностью, которой не соответствует никакая внутренняя сущность»[63]63
Ницше Ф. Несвоевременные размышления: О пользе и вреде истории для жизни.
[Закрыть]. Лоос мог и не знать этого сочинения Ницше, но проблематика этого текста во многом схожа с той, которой занимается он сам. Когда далее Ницше заявляет, что современный человек превратился в «ходячую энциклопедию», обложка которой ничего не сообщает о ее внутреннем содержании, кроме напечатанного на ней названия, он, как и Лоос, для прояснения пространственных отношений использует метафору из области вербальной коммуникации. Внешнее – всего лишь «обложка» книги, ее наряд, ее маска. «Ценность» же заключается в ее «содержании». Но, опять же, это содержание не может существовать без внешней оболочки. Обложка энциклопедии, какой бы молчаливой и скромной она ни была, придает форму ее содержанию. Но что есть содержание энциклопедии, если, пользуясь ей, мы то входим, то выходим? И не только потому, что каждая энциклопедическая статья по-английски именуется «входом» (entry), подразумевая существование некоего внутреннего пространства, но и потому, что каждая статья, каждое понятие в ней отсылает к другому, превращая это пространство в переплетение или лабиринт. А лабиринт – это не обычный интерьер. И если, понимать слова Ницше о том, что у современного человека «истинной культурой» становится «внутренний процесс»[64]64
Там же.
[Закрыть], буквально, и старый городской порядок каким-то образом вытеснился внутрь, то этот «интерьер» представляет собой гораздо более замысловатое пространство, чем то, что можно было бы просто противопоставить внешнему. Не об этом ли радикальном усложнении интерьера говорит Лоос? И если это так, то каково это будет, жить в таком пространстве?
Позволяя дому казаться «молчаливым и скромным», Лоос признает, что возможности архитектуры в большом городе ограничены, признает, что проживать в интерьере не то же самое, что иметь дело с внешним миром, но вместе с этим заявляет о необходимости границ, то есть маски. «Пусть снаружи дом кажется молчаливым и скромным», – естественно, ему нужна не такая маска, как у фасадов Рингштрассе, которую Лоос называет фальшивой; лицо надуманного языка, со всевозможными экивоками пытающегося сообщить, что за этими стенами живут сплошь благородные вельможи, тогда как в действительности там обитают одни лишенные корней «выскочки». Быть оторванным от своих корней не стыдно, считает Лоос – таковы условия существования современного человека. Молчание, которое он предписывает дому, – ни что иное, как констатация шизофреничности городской жизни: то, что находится внутри, незачем выносить наружу. Всё потому, что наша интимная сущность откололась от нашей социальной сущности. Мы стали отделять то, что думаем, от того, что говорим и делаем.
Лоос понимал, что жизнь современного человека протекает на двух разных уровнях – на уровне индивидуального опыта каждого из нас и на уровне нашего существования как общества. Поэтому он отвергал и фальшь маски, и изобретения «эсперантистов». Лоос считал безнадежным делом пытаться передать внешнее в терминах внутреннего опыта. Это две несводимые системы. Внутреннее говорит на языке культуры, на языке опыта обращения с вещами; внешнее говорит на языке цивилизации, языке информации. Внутренняя сущность – это «другое» по отношению к внешнему, так же как опыт – «другое» по отношению к информации, а культура – «другое» для цивилизации[65]65
Музиль дает гендеризированнное описание этого раздвоения, когда пишет: «…Диотима открыла у себя самой тот известный недуг современного человека, который называется цивилизацией. Это стеснительное состояние, полное мыла, радиоволн, самонадеянной тайнописи математических и химических формул, политической экономии, экспериментальных исследований и неспособности к простому, но высокому общению людей. <…> Цивилизацией было, таким образом, всё, чего не мог объять ее ум. А потому цивилизацией давно уже и прежде всего был ее муж». Роберт Музиль, «Человек без свойств».
[Закрыть]. При этом общественные здания могут спокойно говорить о том, что происходит за их стенами: «Здание суда должно корчить грозную гримасу тайному пороку. Здание банка должно сигналить: здесь твои деньги будут храниться в безопасности у честных людей»[66]66
Лоос А. Архитектура // Орнамент и преступление. С. 74.
[Закрыть]. Между деятельностью и информированием нет противоречия.
Молчание дома по отношению к внешнему миру означает невозможность сообщения с ним; но именно это молчание защищает непередаваемую интимность дома. И тогда молчание – тоже маска. Маска в зиммелевском смысле, маска, о которой Зиммель пишет в эссе «Мода», что она позволяет внутренней сущности сохранять интимность: «Перед старым фламандским домом висит табличка с загадочной надписью: „Внутри я богаче“»[67]67
Simmel G. Fashion // International Quarterly. October 1904. Vol. 10. P. 130.
[Закрыть].

Адольф Лоос, латунная фурнитура серванта в квартире Отто Штоссля, Вена, 1900 год
Когда Лоос говорит о моде, он рассуждает совершенно в духе Зиммеля: «Тот, кто нынче щеголяет бархатным камзолом, – не художник, а скоморох. Мы стали субтильнее и утонченнее. Древние скотоводы различали друг друга по цветам раскраски; современному человеку нужна просто одежда. Наша индивидуальность стала настолько сильна, что ее уже не выразишь через одежду. Отсутствие орнамента – признак духовной силы. Современный человек использует орнаменты древних и чужих культур по своей прихоти. Собственное его творчество проявляется в других вещах»[68]68
Лоос А. Орнамент и преступление [1908] // Орнамент и преступление. С. 50. (Курсив мой. – Б. К.)
[Закрыть]. Простая одежда для Лооса играет роль маски, которую он связывает не только с индивидуальностью, но и с творчеством: «„Критику чистого разума“ не мог создать человек, носящий шляпу с плюмажем из пяти страусиных перьев, Девятую симфонию не мог написать кто-то с кольцом на шее размером с блюдо»[69]69
Loos A. Die Überflüssigen. P. 269.
[Закрыть]. Но где тогда человеку, который принял условия существования в современном мире (переселенцу, диссиденту, путешественнику, изгнаннику, иностранцу, меланхолику или человеку без свойств), искать свою идентичность? Более не защищенный чем-то фиксированным и постоянным, вещами, которые говорят, современный человек оказывается окружен вещами, лишенными смысла. Лоос пишет, что никогда не стал бы применять в своей работе подобные вещи, заставляя их говорить на выдуманном языке или сочиняя для них фальшивую родословную (именно за это он осуждал художников Сецессиона). Современному человеку, как художнику или первобытному человеку, чтобы восстановить порядок в этом мире и найти свое место в нем, необходимо погрузиться в себя и в свое творчество[70]70
Георг Зиммель в самом начале очерка «Большие города и духовная жизнь» (1903) говорит, что современный человек переживает глубочайший конфликт (ставший, добавим от себя, источником всей его культурной продукции), но не с природой, с которой первобытный человек воевал испокон веков, тем более что границы между природой и городом больше не существовало; человек теперь ведет борьбу за самостоятельность и самобытность против насилия со стороны общества, «против нивелирования его и поглощения общественно-техническим механизмом». Цит. по: Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь [1903] // Логос. 2002. № 3–4.
[Закрыть]. Но современному человеку, как и первобытному, нужна маска для того, чтобы это сделать.

Адольф Лоос, Дом Руфера, Вена, 1922 год
Эпоха модерна подразумевает возвращение к функции маски. Но, как отмечает Юбер Дамиш, если в первобытных обществах маска наделяла того, кто ее носил, социальной идентичностью, то современный человек (и художник) пользуется маской, чтобы скрыть свои особенности, оградить свою самобытность[71]71
Ср.: Damisch H. L’Autre ‘Ich’ ou le désir du vide: pour un tombeau d’Adolf Loos // Critique. August – September 1975. Vol. 31. No. 339–340. P. 811.
[Закрыть]. Лоос обобщает, распространяя на «современного человека» то, что Краус приписывал художнику: «Конечно, художник – другой. Но именно поэтому он не должен обнаруживать это перед другими. Для него единственный способ остаться наедине с собой – это слиться с толпой. Если он привлекает к себе внимание чем-то особенным, он делается обыкновенным и наводит своих преследователей на след. Чем больше оснований у художника считать себя не таким как все, тем важнее для него в качестве мимикрии одеваться как посредственность»[72]72
Kraus K. Sprüche und Widersprüche. Munich: Albert Langen, 1909. P. 83.
[Закрыть]. Для Лооса каждый человек из толпы – «художник»; каждый старается не выделяться на фоне других и тщательно маскирует свою внутреннюю сущность, свою сексуальность, но еще и свою созидательную энергию – свое «творчество». В конце концов, современные люди – это новые «первобытные», всем им приходится носить маску. Но для Лооса функция современной маски – полная противоположность первобытной. Если примитивная маска первобытного человека транслировала идентичность ее носителя окружающим, в сущности, конструировала эту идентичность, социальную идентичность, то маска современного человека – это разновидность защиты: внешние различия упраздняются специально для того, чтобы сделать идентичность возможной, потому что у каждого теперь своя, индивидуальная идентичность.
А что на счет современной женщины? Для Лооса, и для большинства писателей рубежа веков, современность однозначно ассоциировалась с фигурой мужчины[73]73
Как отмечает Джанет Уолфф в статье «Невидимая фланерка: женщины и литература эпохи модерна», литераторы-модернисты описывают исключительно мужские переживания: «Отождествляя современность с публичностью в своих сочинениях такие влиятельные авторы, как Бодлер, Зиммель и Беньямин, а позднее Ричард Сеннет и Маршалл Берман, оказались неспособны описать женский опыт восприятия современности». The Invisible Flaneuse: Women and the Literature of Modernity // Theory, Culture and Society. 1985. Vol, 2. No. 3. P. 37–48. См. также работу Сьюзен Бак-Морсс «Фланер, человек-сэндвич и шлюха. Политика бродяжничества» (Buck-Morss S. The Flaneur, the Sandwichman, and the Whore: The Politics of Loitering // New German Critique. Fall 1986. Vol. 39. P. 99–140); в этой работе Бак-Морсс говорит о «шлюхе» как о важной женской фигуре современности. В последние годы появилось много исследований за авторством представителей разных дисциплин, в которых современность рассматривается не только сквозь призму частного женского опыта, но и в свете гендерного конструирования, опирающегося на разделение публичной и частной сфер. См., например, работу Гризельды Поллок «Модернити и пространства феминности» (Pollock G. Modernity and the Spaces of Femininity // Vision and Difference. London; New York: Routledge; Chapman & Hall, 1988. P. 50–90); Джудит Мэйн «Частные романы, публичное кино» (Mayne J. Private Novels, Public Films. Athens; London: University of Georgia Press, 1988); Джулианы Бруно «Прогулки вокруг платоновской пещеры» (Bruno G. Streetwalking around Plato’s Cave // October. Spring 1992. Vol. 60. P. 111–129). Что касается архитектуры, то в ряде недавних исследований тоже представлен новый взгляд на современность; теперь он сфокусирован на преобразовании жилого, а не публичного пространства. Среди прочих следует назвать диссертацию Чачо Сабатера, в которой он исследует трансформа цию барселонского интерьера в контексте «расширения» города по плану Ильдефонса Сердаи-Суньера (плану, традиционно рассматриваемому с чисто градостроительной точки зрения): Primera edad del Ensanche: Arquitectura domestica. Barcelona, 1989; Жорж Тессо «Болезнь места жительства» (Teyssot G. The Disease of the Domicile. Forthcoming from MIT Press); а также авторитетные статьи Робина Эванса на эту тему, включая часто цитируемую «Фигуры, двери, коридоры» (Figures, Doors and Passages. Architectural Design. 1978. Vol. 4. P. 267–278).
[Закрыть]. Женщина и дети – «первобытные», «недостойные дикари», в отличие от героической фигуры современного мужчины, «благородного дикаря». Подобная гендеризация субъекта неотделима от вопроса о маске. Лоос пишет: «Орнамент на службе у женщины будет жить вечно. <…> Орнамент для женщины значит, в сущности, то же, что и для дикаря, – он имеет эротический смысл»[74]74
Loos A. Ornament und Erziehung // Sämtliche Schriften. 1924. Vol. 1. P. 395–396.
[Закрыть]. Если для ребенка, папуаса и женщины орнамент – «естественное явление», то для современного человека он «является признаком вырождения»:
Первый созданный человеком орнамент – крест – был эротического происхождения. Первое произведение искусства создал тот первый художник, который намалевал на стене пещеры крест, чтобы избавится от избытка переполнявших его эмоций. Горизонтальная линия – лежащая женщина. Вертикальная линия – проникающий в нее мужчина. Человек, который это сделал, испытывал тот же порыв, что и Бетховен. <…> Но человек нашего времени, который, следуя своему внутреннему влечению, малюет на стенах эротические символы, – преступник или дегенерат[75]75
Лоос А. Орнамент и преступление. С. 33, 34.
[Закрыть].
И когда это «вырождение» откровенно отождествляется с гомосексуальностью, нападки Лооса на орнамент становятся уже не просто гендерно-нагруженными, а откровенно осуждающими[76]76
Я благодарна Тодду Палмеру за то, что он поднял этот вопрос на семинаре в Принстонском университете.
[Закрыть]. Главной мишенью его нападок становится женоподобный архитектор, «декоратор» (члены Сецессиона и Веркбунда[77]77
Германский производственный союз (Werkbund) – объединение художников, архитекторов, мастеров художественных ремесел, основанное в 1907 году в Мюнхене. – Примеч. ред.
[Закрыть]), Йозеф Ольбрих, Коломан Мозер, Йозеф Хоффман: все эти «дилетанты», «фаты» и «щеголи из предместья», покупающие свои «галстуки с готовым узлом в отделах женской моды»[78]78
Loos A. Underclothes // Neue Freie Presse. 25 September 1898; trans. in: Spoken into the Void. P. 75. См. также: The Leather Goods and Gold– and Silversmith Trades; transl. in: Spoken into the Void. P. 7–9.
[Закрыть]. Проблема современности неотделима от проблемы гендера и сексуальности.
IV
Истинным противником Лооса был не Ольбрих, как принято считать, и не члены Сецессиона, а Йозеф Хоффман[79]79
Буркхардт Рукщо утверждает, что Лоос порвал со Сецессионом в 1902 году после того, как Йозеф Хоффман помешал ему разработать интерьер Зала Ver Sacrum (Ver Sacrum-Zimmer) в Доме Сецессиона. См.: Rukschcio B. Adolf Loos Analyzed: A Study of the Loos Archive in the Albertina Graphic Collection // Lotus International. 1981.Vol. 29. P. 100, n. 5.
[Закрыть]. И современники это знали. Нойтра писал: «Хоффман был тем профессором, которого Лоос старался уничтожить в моих глазах, а может быть, в глазах своего поколения»[80]80
Neutra R., review of «Adolf Loos: Pioneer of Modern Architecture» by L. Münz; G. Künstler // Architectural Forum. July – August 1966. Vol. 125. No. 1. P. 89.
[Закрыть]. Да и сам Лоос писал в предисловии к первому изданию сборника своих статей «Сказанное в пустоту» (Париж, 1921): «Господин Брейер, кропотливо собиравший статьи, отослал их издателю и вскоре получил письмо от редактора, отвечающего в издательстве за художественный отдел, в котором говорилось, что издательство может осуществить публикацию только в том случае, если я соглашусь на изменения и удаление нападок на Йозефа Хоффмана, имя которого, к слову сказать, нигде не упоминается. После этого я отозвал статьи из издательства Kurt Wolff Verlag»[81]81
Loos A. Ins Leere gesprochen. Paris, 1921. P. 6; «Foreword to the First Edition» in: Spoken into the Void. P. 130.
[Закрыть].
Но несмотря на враждебность по отношению друг к другу, разные подходы, которые Лоос и Хоффман демонстрируют, каждый в своей архитектуре, можно интерпретировать как разные способы решения одной и той же дилеммы – преодоления присущего новому времени раскола между приватным и публичным и связанного с ним разделения города на пространство интимного и пространство социального. Хоффман тоже осознавал раздвоение, заставляющее современного индивида делить свое бытие на приватное и публичное, но решал эту проблему по-своему. Хоффман считал, что дом должен быть заранее спроектирован так, чтобы он гармонировал с «характером» его обитателей. Нет ничего более индивидуального, чем характер человека. Однако заказчик не мог самостоятельно добавить к обстановке дома какой-либо предмет или поручить это другому художнику[82]82
Behrens P. The Work of Josef Hoffmann // Journal of the American Institute of Architects. October 1924. P. 426.
[Закрыть]. Такой подход Лоос жестко критиковал. Он считал, что дом растет вместе с его хозяином, и всё, что касается его внутреннего обустройства, забота его обитателей[83]83
См., например: Loos A. Die Interieurs in der Rotunde, 1898.
[Закрыть]. С другой стороны, с точки зрения Петера Беренса, хоффмановская идея о характере достойна восхищения. Для Беренса дом – это произведение искусства. Он также пишет, что архитектура Хоффмана обретает смысл в социальной жизни[84]84
Behrens P. The Work of Josef Hoffmann. P. 421.
[Закрыть], и это замечание снимает все вопросы о том, с каким именно «характером» должен гармонировать дом. Хоффман имел в виду социальный характер. Человек не может оставлять следов в своем собственном доме, потому что дом должен соответствовать той части его характера, которая не принадлежит ему в частном порядке, а отвечает условным социальным нормам, следует обычаю.
И Лоос, и Хоффман понимали, что жизнь в обществе порождает своего рода шизофрению, расщепление личности на «Я приватное» и «Я публичное», как будто вы находитесь на собрании и не понимаете ни слова из того, что там говорят. Такое часто случается с нами за границей, а вернее сказать, сплошь и рядом. Осознавая это отчуждение, оба рассматривали архитектуру как социальный механизм, такой же как одежда или манеры, способ разрешения социальных ситуаций. Разница заключалась в той социальной стратегии, которую каждый из них выбирал. Лоос выбирал стратегию молчания, только это не было молчанием того, кому нечего сказать. Интровертные дома Лооса отворачиваются от внешнего мира, сохраняя молчание человека, который признает невозможность диалога на чужом для себя языке. Это красноречивое молчание. Это не обычное молчание, это отказ от обычая. Это молчание Карла Крауса, писавшего: «…в эту эпоху не ждите от меня ни единого моего собственного слова. Ни единого, кроме вот этих, не позволяющих ложно истолковать мое молчание»[85]85
Цит. по: Беньямин В. Карл Краус // Маски времени. С. 318.
[Закрыть].
В архитектуре Хоффмана объект тоже замыкается на себя, но это не жест интроверта. В данном случае это скорее желание точно зафиксировать границы объекта наподобие монады, как будто из опасения, что его поглотит равнодушная среда (обратите внимание, как четко обозначены границы в постройках Хоффмана, как нарочито в них сконцентрировано напряжение). Но как только эти линии очерчены – как именно, зависит от принятых в обществе этических норм дистанции – объект вступает в диалог, содержание которого не выходит за рамки обычного набора социальных условностей. Тот факт, что его «речь» не имеет значения (она не может иметь значения, она не соответствует совокупности необходимых условностей языка и говорит на языке, если так можно выразиться, придуманных условностей)[86]86
Придуманными я называю такие условности, которые не являются общепринятыми знаками, как лингвистические знаки или знаки традиционной архитектуры. В этом смысле пояснение, которое Беренс считает своим долгом дать по поводу «инаковости» архитектуры Хоффмана, говорит само за себя (см. следующий абзац). В Вене в этом не было необходимости, но для англосаксонского общества, которое не утратило того, что Лоос называет «здравым смыслом», это пояснение нужно было сделать.
[Закрыть] – не важен, потому что здесь нет намерения что-то сообщить, а только прикрыть пустоту формой.
Для Хоффмана жизнь – это форма Искусства. Для Лооса, который настаивает на разоблачении пустоты, жизнь – противоположность Искусства. «Я очень хочу, – пишет Беренс в статье о Хоффмане, написанной им для англоязычных читателей, – чтобы архитектурные произведения, которые я здесь представляю, были увидены с правильной точки зрения: чтобы элемент „инаковости“ в них не был ошибочно понят как манерность или результат сознательного желания создать нечто необычное». Эта инаковость не призвана никого шокировать. В ней нет никакой трансгрессии-ради-познания, никакого авангардизма. А, напротив, есть только, как утверждает Беренс, «тесная связь между его великолепной архитектурой и легким гармоничным очарованием благоустроенной жизни в прекрасной обстановке»[87]87
Behrens P. The Work of Josef Hoffmann. P. 421.
[Закрыть].
Для Хоффмана, как и для Ольбриха, задача искусства – воспитывать: «Творческим личностям предложить пространства, соответствующие их индивидуальности, всем остальным – воспитывать при помощи высокохудожественных интерьеров». Иными словами, задача искусства – нивелировать, интегрировать индивида в социум, заставить его принять установки социума. Всё тот же Ульрих, главный герой романа Музиля «Человек без свойств», озаботившись устройством своего дома, не готов мириться с таким положением дел и снова выступает совершенно в духе Лооса:
Угроза «скажи мне, где ты живешь, и я скажу, кто ты», которую он то и дело вычитывал в журналах по искусству, висела над его головой. После подробного ознакомления с этими журналами он пришел к выводу, что лучше уж ему взять в свои руки отделку собственной личности, и принялся собственноручно делать наброски будущей своей мебели[88]88
Музиль. Человек без свойств.
[Закрыть].
V
Лоос и Хоффман родились в один год (1870), с разницей всего в один месяц; и в одном месте – в Моравии, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи и ставшей после войны частью Чехословакии. Оба потом оказались в Вене.
Если судить по историографии (а делать это можно только с большой осторожностью), то окажется, что траектории интереса к Хоффману и Лоосу обратно симметричны. В последнее время по обе стороны Атлантики выходит больше публикаций, посвященных Лоосу, чем Хоффману. Но при жизни именно Хоффман был окружен вниманием архитектурной прессы, тогда, как Лооса практически не замечали[89]89
Альдо Росси объяснял остракизм, которому всю жизнь подвергался Лоос как архитектор, его «способностью раздражать»: «Несомненно, эти люди, современники Фрейда, прекрасно понимали, что „каждая шутка – это убийство“». Альдо Росси, предисловие к «Сказанному в пустоту» (Spoken Into the Void / trans. S. Sartarelli. P. viii).
[Закрыть]. Это естественным образом превращало Хоффмана в более влиятельную фигуру в общественных кругах, заинтересованных в производстве и репродукции архитектуры, что, в свою очередь, помогло ему добиться больших успехов в реализации собственных проектов[90]90
О творчестве Йозефа Хоффмана см.: Sekler E. F. Josef Hoffmann: The Architectural Work. Princeton: Princeton University Press, 1985.
[Закрыть].
Закат Хоффмана как публичной фигуры[91]91
Girardi V. Josef Hoffmann maestro dimenticato // L’architettura, cronache e storia. October 1956. Vol. 2. No. 12.
[Закрыть] практически совпадает с началом признания Лооса, которое, как и у всех пророков, происходило не в родном отечестве, а в Париже, в кругах, близких к L’Esprit Nouveau. В 1912 году Герварт Вальден опубликовал пять статей Лооса в журнале Der Sturm. Печататься на страницах этого журнала, по словам Рейнера Бэнема, означало иметь выход на, пусть и ограниченную, но международную аудиторию. Именно эти путем слова Лооса дошли до Парижа, где его тексты переиздавались и были оценены дадаистами. Удаленность в пространстве позволяла ему играть роль протагониста, так же как впоследствии удаленность во времени; но между теми временами и нашим существует совсем неслучайная связь, ибо где сегодня признают Лооса, как не в интеллектуальных кругах? Это всё та же, пусть и ограниченная, но международная аудитория, состоящая в определенном смысле из наследников раннего авангарда[92]92
Кое-что из того, что делало Лооса привлекательным для авангардистов, со временем всё же было утрачено, а именно его нигилизм, беспощадная язвительность по отношению к стилю бозар [от франц. beaux-arts – «изящные искусства». – Примеч. ред.], искусствам и ремеслам и вообще ко всему, что можно было посчитать учрежденным на неподлинном основании. Интерес к Лоосу сегодня вызывает даже не его полемический задор, а та герметичность и вместе с тем прозрачность его многозначительного послания, которые позволяют каждому вычитывать в этом послании свой смысл. Если в работах Альдо Росси, Кеннета Фрэмптона, Хосе Кетгласа и Массимо Каччари о Лоосе и есть сходство, то оно должно напоминать нечто, заставившее самого Лооса сказать Витгенштейну: «Ты – это я».
[Закрыть].
Некоторый всплеск интереса к Хоффману тоже объясним: на рынке культурной рекуперации его репутация снова скакнула вверх в 1980-х годах; но я ограничусь здесь лишь этим замечанием[93]93
В то время, когда я впервые писала об этом статью для журнала 9H (1982), Хоффман был «поднят» со дна истории постмодернистами. Как теперь выяснилось, мода на него быстро прошла, а интерес к Лоосу сохранился.
[Закрыть]. Эта «симметрия» между Хоффманом и Лоосом интересует меня постольку, поскольку она свидетельствует об определенном явлении, о том, что пресса (архитектурные журналы) превратилась в средство производства архитектуры при помощи слов, чертежей и фотографий; и говорит о последствиях, к которым это может привести в профессии, структурно связанной с гораздо более долговечными вещами и прочными материалами. Это явление не ускользнуло от внимания Лооса, который неоднократно обличал манипуляции журналистов, выдвигая в качестве главного аргумента бессмертие архитектурного произведения. В очередном отрывке, красноречиво опущенном в первом варианте английского перевода его эссе «Архитектура» (1910), Лоос говорит:
Я очень горжусь тем, что созданные мной интерьеры на фотографиях кажутся совершенно неинтересными. <…> Честное слово, я отказываюсь от публикации в разных архитектурных журналах. Мое тщеславие не требует подобного удовлетворения.
И потому мои призывы, возможно, не производят желаемого эффекта. Обо мне ничего не знают. Но тут-то и проявляется сила моих идей и правильность моего учения. Пусть меня не публикуют, не знают о моей работе, я единственный из тысяч обладаю подлинным влиянием. <…> Срабатывает только сила примера.
Та сила, которой обладали и старые мастера, чье влияние всё быстрее и энергичнее проникало в самые отдаленные уголки земли, хотя – или как раз потому что – еще не было ни почты, ни телеграфа, ни газет[94]94
Loos A. Architektur, 1910. Здесь я использую более поздний перевод Уилфреда Ванга, где есть этот пассаж. См.: The Architecture of Adolf Loos. P. 106. [Цит. по: Лоос А. Архитектура // Орнамент и преступление. С. 61, 63.]
[Закрыть].
Архитектура в таком случае разительно отличается от других средств коммуникации, более абстрактных, более синхронизированных со своим временем. Архитектура передает свое сообщение, не нуждаясь в их помощи. Но почему же Лоос ничего не говорит о печатном слове? Я вернусь к этому вопросу позже. Сейчас мне интересно проследить, как мысли Лооса по поводу архитектуры и публикаций перекликаются с гораздо более известными его мыслями об архитектуре и орнаменте.
Для Лооса орнамент – это то, что превращает архитектуру в товар. Под «орнаментом» он подразумевает нечто «придуманное», не то, что коренится в подлинном порыве страсти или рождается из horror vacui (страха пустоты), эмоциях, которые мы сегодня сдерживаем другими, более изощренными способами. Но где, вопрошает Лоос, будут творения Хоффмана лет через десять?[95]95
«Десять лет назад, одновременно с кафе „Музеум“, Йозеф Хоффман, представляющий Веркбунд в Вене, спроектировал интерьер фирменного магазина свечной фабрики Apollo на Ам-Хоф. Сие творение было расхвалено как символ нашего времени. Сегодня никто этого больше не утверждает. Дистанция в десять лет показала, что высокая оценка была ошибкой. Пройдет еще десять лет, и всем станет ясно и понятно, что нынешние работы в этом направлении не имеют ничего общего со стилем нашего времени». Лоос А. Вырождение культуры [1908] // Орнамент и преступление. С. 29–30.
[Закрыть]
Публикация, как и орнамент, погружая архитектуру во вселенную коммерции, фетишизируя ее, лишает ее возможности трансцендировать. Архитектурные журналы со всем их графическим и фотографическим арсеналом превращают архитектуру в объект потребления[96]96
В этом смысле интересно наблюдение молодого Джона Рёскина о том, что получить фотографию дворца «почти то же самое, что получить» сам дворец: «…каждый камень, и каждая трещинка, и каждое пятнышко на камне – вот они, тут, и, разумеется, никаких ошибок в передаче пропорций». Из письма отцу, Венеция, 7 октября 1845 года (Works of John Ruskin. London: George Allen; New York: Longmans, Green, and Co., 1903. Vol. 3. P. 210, n. 2).
[Закрыть], отправляя ее циркулировать по миру так, будто она разом лишилась объема и массы, и в этом смысле сами ее употребляют. Дело не в эфемерности этих медиа (очевидно, что Лоос ничего не имел против литературы). Проблемой для Лооса была фотография и ее неспособность интерпретировать архитектуру; в противном случае архитектура могла бы жить в фотографии. Когда Лоос говорит, что ему нет нужды даже рисовать эскизы, что «хорошую архитектуру, когда есть что строить, можно описать», что «можно описать даже Парфенон»[97]97
Лоос А. О бережливости / пер. Э. Венгеровой // Почему мужчина должен быть хорошо одет. М.: Стрелка, 2016.
[Закрыть], он осознает, задолго до Бенвениста, что язык – единственная семиотическая система, способная интерпретировать другую семиотическую систему. Но если оставить в стороне трудности, связанные с интерпретацией архитектуры при помощи слов, то Лоос понимал, что фотография делает из архитектуры нечто совсем другое – она превращает ее в новость. А новость, сама по себе, независимо от факта, к которому она отсылает, это событие, которое Краус назвал бы «фактом».
Как произведение искусства отличается от полезной вещи, так архитектура отличается от новости о ней. А все попытки затушевать эту разницу, завуалировать границу между ними, Лоос считал «декораторством».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!