Читать книгу "Туннель"
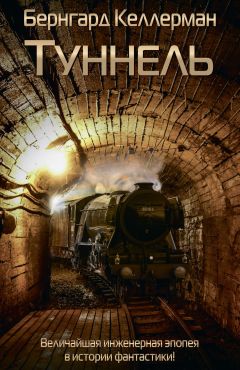
Автор книги: Бернгард Келлерман
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Бернгард Келлерман
Туннель
© Марков А. В., вступительная татья, 2022
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2023
© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2023
Замковый камень утопии
– Перед нами книга об ударниках капиталистического труда, предвестник романа «Источник» Айн Рэнд, – скажут одни.
– Нет, это символистский роман, с постоянным восторгом и вниманием к каждым деталям, где туннель вдруг похож на симфонию, словно его писал Метерлинк или Ибсен, – скажут другие.
– Да нет же, это просто драма, уже не символистская, а близкая экспрессионизму, про сильные характеры и всемогущество судьбы, про то, как технический прогресс не только помогает людям, но и искажает их мысли и чувства, – такова реплика третьих.
– Ни один из ответов не верен: это проповедь социализма, показывающая, что, несмотря на все ужасы эксплуатации, общество станет рано или поздно более свободным, и равенство сделается законом для всего мира, – ответят четвертые.
И все окажутся правы. Бернгард Келлерман (1879-1951) – немецкий писатель, социалист, горячо приветствовавший Великую Октябрьскую революцию и написавший немало в поддержку электрификации и индустриализации в СССР. Но он же – тонкий символист, в своих ранних романах, таких как «Ингеборг» и «Море», показавший, как гамма сложных чувств мешает современному человеку слиться с обществом, как надлежит рвать со своим кругом, чтобы исполнить свое предназначение. В этих романах нюансы чувствительной мысли сочетались со смелыми набросками современного общества; и сатира всякий раз вводилась в действие, где обычный сюжет психологических конфликтов, недоразумений и бесплодных усилий заходил в тупик. «Туннель» (1913) – это первый зрелый роман писателя, в котором характеры и обстоятельства не так важны в сравнении с более общей идеей: а именно – идеей коммуникации, общения людей. В отличие от долгих диалогов в ранних романах, этот роман построен на кратких, телеграфных репликах, словно интертитрах немого кино или заголовках тогдашних газет.
Сюжет романа более чем прост: строительство трансатлантического туннеля, который для писателя делается символом равенства. На теплоходе есть привилегированный первый класс и трюм для большинства, а в поезде, хотя и есть первый, второй и третий классы, пассажиры так или иначе ведут схожий образ жизни. На теплоходе на верхней палубе бал, а в трюме – слезы и горечь оставленного прошлого; на поезде, пусть одни на мягких диванах, а другие – на жестких деревянных лавках, всё равно общее стремление к будущему, общее желание прибыть вовремя, коротая время за книгой. Действительно, телеграф и тоннели для начала ХХ века были тем же, что интернет – для начала XXI века: иллюзией равенства, что синхронизированное сообщение и даст всем возможность равно проявить себя в профессиональной и общественной жизни.
Вспомним: 30 июня 1905 года мир познакомился с исследованием молодого сотрудника Бернского патентного бюро Альберта Эйнштейна «К электродинамике движущихся тел». В начале этой статьи, положившей начало теории относительности, Эйнштейн сказал: «Если я, например, говорю: „Этот поезд прибывает сюда в семь часов“, то это означает примерно следующее: „Указание маленькой стрелки моих часов на семь часов и прибытие поезда суть одновременные события“». Для Эйнштейна такое простое согласование фактов означало, что время не может быть точкой отсчета, но только функцией различных синхронизаций. Но мы видим, что поезд оказывается в романе символом не столько прогресса или скорости (тогда уже были аэропланы, и главный герой романа Келлермана ставит целью, чтобы поезда ходили по тоннелю со скоростью аэро плана), сколько всеобщей слаженности мира, когда мы все знаем, во сколько прибудем на работу и сколько часов проведем в отпуске.
Все люди мира оказываются участниками одного трудового коллектива, одной армии прогресса, подчиняющимися часам так же, как солдаты повинуются приказам своих командиров, но эта мирная армия может разумно распоряжаться ресурсами, а значит, каждым новым большим делом способствовать всеобщему равенству. Впрочем, Келлерман понимает, что равенства сразу не добьешься: в финале романа первый поезд опаздывает. Почему так произошло, вы узнаете при чтении книги; пока что укажем, что это символ того, что прогресс не решает все проблемы. За движением по туннелю поезда, бросившего вызов аэропланам, наблюдает весь мир через «телекинематографы», но быть болельщиком недостаточно, чтобы обеспечить успех команде.
Мир строительства туннеля страшен: во время взрыва гибнет три тысячи человек, после чего чуть ли не весь мир погружается в кризис, а для бунтующих рабочих приготовлены, хотя, к счастью, не пущены в ход, пулеметы – еще один конвейер синхронизации, где выстрелу соответствует непременное смещение ленты. Но здесь нужно иметь в виду одно: образцом для туннеля стал трансатлантический телеграф, по которому передавались биржевые сводки, но по которому могла быть объявлена война. Телеграф с конца XIX века и стал главным средством поддержания колониального порядка: можно было вовремя отправлять корабли, выстраивать армии, запускать продажи и менять биржевые курсы, – и кто имел доступ к телеграфу, имел ключи и к разделяемому мировому господству. Не случайно по телеграфу играли и шахматные партии: шахматы тогда воспринимались как военно-стратегическая игра, жесткий вид спорта, наподобие бокса (в частности, именно поэтому набоковский Лужин – это совершенно метафорический персонаж, ведь такой живой человек не удержался бы в суровом бизнесе шахмат, тогда как Остап Бендер прекрасно понимал связь шахмат и международной дипломатии). В какой-то мере попыткой оспорить агрессию телеграфа сделался телефон: он стал разделяемым благом, раз один телефон принадлежал множеству абонентов, а значит, в чем-то оказался средством демократизации политики.
Почему немецкий писатель вдруг решил создать роман об американском бизнесе и специфической инвестиции в мегапроект? Здесь нужно заметить, что к 1913 году репутация Германии как промышленной державы еще не устоялась, несмотря на все усилия кайзерской власти. Хотя о немецкой пунктуальности уже сложилось немало анекдотов, вроде того что министр образования, посмотрев на часы, может сказать, какой именно глагол сейчас зубрят на уроках во всех школах Германии, эти рассказы больше выдавали желаемое за действительное: например, этот анекдот символизировал культуркампф, политику Бисмарка по замене католических школ на общегражданские с утвержденной бюрократами программой. Немецкие товары проигрывали английским до начала ХХ века, и по требованию промышленников они клеймились унизительной надписью на английском языке Made in Germany – «немецкое качество» означало для англичан конца XIX века примерно то же, что «китайское качество» в конце ХХ века. Америка для немецкого писателя была тем же англоязычным миром, но менее замкнутым, чем Англия: если построить туннель, то множество американских инженеров помогут не только Германии, но и всей Европе справиться с бедностью и отсталостью.
Не меньшие надежды писатель, объездивший в конце 1900-х годов весь мир, побывавший не только в США, но и в Российской империи, возлагал на русский народ и Россию. Его восхищала способность русских людей не только работать самоотверженно, но и, принимая любые решения, не оглядываться на господствующие предрассудки – в этом он предвосхитил размышления антифашиста Дитриха Бонхёффера, который, находясь в нацистских застенках, объяснял движение СССР к победе именно этим – отсутствием предрассудков, привычной для него осторожности и осмотрительности, жизни по готовым правилам. Еще один народ, восторгавший Келлермана, – китайцы, в которых он увидел не только образец трудолюбия, но и умение согласовывать действие, на ходу вырабатывать инструкции, в том числе технические; и здесь он опять же оказался пророком.
Туннели не были в новинку на Западе: уже в 1825 году началось строительство туннеля под Темзой в Лондоне, в 1860 году там же, в Лондоне, стала строиться первая линия метро, в 1869 году туннельный фуникулер появился в Стамбуле, а как раз когда Келлерман побывал в Нью-Йорке, там сооружались туннели под Гудзоном. Но туннель его романа – это особое сооружение, представляющее собой систему шахт, что-то вроде завода, производящего сам себя. Это не просто одно из городских сооружений наравне с водопроводом и электростанцией, это проект, который должен затмить собой шахты и обречь десятки тысяч людей на тяжелый труд ради того, чтобы освободить десятки миллионов людей от тяжелого труда.
Телеграфный стиль романа очень отвечает скорости строительства туннеля, который нужно сдать как можно быстрее, и счет идет не на минуты, а на секунды. Опять же, дело не в том, чтобы побыстрее увидеть готовый объект: дворцы или водопроводы тоже могли строить поспешно и по ночам. Дело в новом отношении к времени: именно счет на секунды определяет и распределение финансовых потоков, и успехи дипломатии, и технические новации, которые должны прибыть на объект. Мак Аллан, будучи энтузиастом мировой стройки, при этом более чем зависим от обстоятельств, помнит о бедном детстве и если убеждает людей, то своими простыми историями, которые сильнее любых плакатов. Именно в этом умении героя всем нравиться, вызывать всеобщую симпатию и тайна романа, и его отличие, как от советских производственных романов вроде «Цемента» Ф. В. Гладкова или «Как закалялась сталь» Н. А. Островского, так и от капиталистических эпопей Айн Рэнд, от утопий и антиутопий. Герой не то чтобы «свой» для рабочих и для инвесторов, вовсе нет, напротив, ему никто не прощает техногенных катастроф. Но он – источник тех слов, тех простых объяснений, что именно происходит, которые и примиряют с прогрессом людей разного происхождения и позволяют русскому, китайцу, американцу и немцу на стройке найти общий язык.
Герою противоположны другие персонажи, которые могут быть неплохими людьми, но не умеют быть симпатичными. Банкир Ллойд, манхэттенский инвестор, который труслив, зависим от денег и биржевых курсов, поверил Мак Аллану только потому, что увидел в нем стратегический ум, архитектора будущего, можно сказать, казну новых валют на двух ногах, но не потому, что ему так уж нужен туннель. Венгерский еврей Вульф, гениальный финансист, но суетливый, не способный совладать со своими страстями к темным махинациям и красивым девушкам. Ллойд и Вульф при этом не могут быть названы антигероями – каждый из них по-своему необходим туннелю; они вовсе не злодеи, но они находятся внутри платонической схемы. Платон представлял разум как возничего, погоняющего двух коней души – гнев и вожделение. Так и Мак Аллан должен справиться с гневливым банкиром и чересчур эмоциональным финансистом, с тем различием, что он не имеет над ним власти, напротив, они имеют над ним полную власть. Единственное, что у него есть, – великое музыкальное чувство, чувство ритма, и особая любовь и к первой, и ко второй жене, но продолжать дальше – значит уже пересказывать роман.
То, что Келлерман был социалистом, видно по тому, что он описал настоящий соцгород – Мак-Сити, где к услугам рабочих все социальные институты – от прачечной до театра – и где можно прожить жизнь, не выходя за пределы города. Эту тему соцгородов он развил потом в романе «Братья Шелленберг» (1925), где предлагалось покрыть всю Германию соцгородами и колхозами, исправив климат, обогатив неплодородные почвы и научившись выращивать правильно леса для грандиозных строек. Для нас это может быть сухая и скучная утопия, но в Германии после Первой мировой войны такой проект показывал, что можно в жизни не спешить, можно не торопиться там, где лес продолжает расти, а земля даст хороший урожай только через несколько лет.
Неудивительно, что Келлерман сразу возненавидел нацистов, будучи убежденным интернационалистом: он немедленно понял, что их торопливость и жажда легких побед приведет страну к катастрофе. Несмотря на все симпатии Келлермана к СССР, власти Третьего рейха его не тронули – возможно, потому, что один из фильмов по «Туннелю» нравился Гитлеру, вероятно, карикатурным изображением еврея Вульфа и американцев, чего не было в самом романе. Келлерман писал в основном в стол и в 1938 году закончил работу над романом «Голубая лента», где изобразил гибель океанского лайнера как результат жадности капиталистических промышленников и нездоровой конкуренции между странами, из-за чего никто не думает о мерах безопасности, а только о рекордах. Понятно, что в преступной Германии, любившей рекорды и победы, такой роман пришелся не ко двору. Только после победы союзников Келлерман вновь получил возможность широко печататься, став одним из организаторов литературной жизни в ГДР.
Можно сказать, что «Туннель» – это первый намек на будущую постгуманистическую литературу наших дней: здесь ошибается не столько человек, сколько техника, а человек – соучастник, но не виновник ее ошибок. Сейчас мы можем читать этот роман как размышление о большой политике накануне Первой мировой войны, прослеживая, где мог взять верх альтруизм и могла бы мировая история пойти иначе, будь этот туннель построен. Но мы знаем, что ни туннели, ни интернет не оставили в прошлом конфликты и взаимные упреки, и поэтому мы можем увидеть в романе то, чего не замечали современники: сколь часто конфликты возникают на пустом месте и как всё же, несмотря на это, в мире много любви и кротости. Эта любовь и кротость кружатся вокруг главного героя, как птицы и ангелы вокруг святого Франциска, несмотря на всю его энергичность и часто отчаянную деловитость – просто мы понимаем, что не в деловитости его успех. Так мы начинаем сознавать, что суть романа – не в коллизиях, конфликтах и интригах, а в умении совпасть с современностью и когда какой-то один роман совпадает с настроением нашей эпохи, мы лучше понимаем и все прочие романы.
Александр Марков, профессор РГГУ26 июля 2022 г., Вязники
Туннель
Часть первая
1Самым крупным событием зимнего сезона в Нью-Йорке в этом году было открытие нового великолепного концертного дворца, выстроенного на Мэдисонской площади. Открытие новой залы ознаменовалось необычайным концертом. Оркестр состоял из двухсот двадцати музыкантов, и каждый из них был всемирно прославленным артистом. Дирижировать этим удивительным оркестром был приглашен немецкий композитор, окруженный ореолом мировой славы, получивший за один вечер неслыханный гонорар в шесть тысяч долларов.
Цены на места поразили даже Нью-Йорк. Дешевле тридцати долларов не было ни одного места в зале, а барышники, торговавшие билетами, поднимали цену за ложу до двухсот долларов и выше. Но каждый, кто считал себя принадлежащим к «обществу», не смел пропустить этого вечера.
К восьми часам Двадцать шестая, Двадцать седьмая и Двадцать восьмая улицы, а также Мэдисон-авеню были запружены шипящими и нетерпеливо вздрагивающими автомобилями. Барышники, торгующие билетами, всю свою жизнь проводящие среди фыркающих автомобилей, покрытые потом, несмотря на двенадцатиградусный мороз, бросались с безумной отвагой, зажав в руке пачку долларов, в середину бесконечного, стремившегося к площади потока яростно гремящих экипажей. Барышники вскакивали на подножки, на места шоферов и даже на крыши автомобилей и пытались заглушить грохот моторов своими охрипшими голосами: «Here you are! Here you are!»[1]1
Сюда! Сюда! – Здесь и далее – примеч. переводчика.
[Закрыть] – «Два места в партере, десятый ряд! Одно место в ложе… Два места в партере!..» Косой град внезапно очистил улицу, точно залп пулеметов.
Но как только открылось окно в автомобиле и раздавалось: «Сюда!», барышники мгновенно появлялись опять и ныряли среди экипажей, как водолазы. Пока они устраивали свои дела и набивали карманы деньгами, на лбу у них замерзали капли пота…
Концерт должен был начаться в восемь часов, но и в четверть девятого необозримая вереница экипажей ждала очереди, чтобы подъехать к сверкающему огнями среди мрака и сырости красному балдахину у входа в новый музыкальный дворец. Под крики барышников, фырканье моторов и стук града, барабанившего по крыше балдахина, выходили из подъезжавших экипажей всё новые и новые группы людей, на которых толпа, стоявшая темной стеной у входа, смотрела с жадным любопытством: драгоценные меха, затейливые прически, сверкающие камни, возгласы, смех и ножки в шелковых чулках и белых туфельках…
Представители изысканного общества Пятой авеню, Бостона, Филадельфии, Буффало и Чикаго наполняли торжественный гигантский натопленный зал, весь в золоте и пурпуре, воздух которого в течение всего концерта дрожал от тысяч быстро колыхавшихся вееров. От белых плеч женщин поднималось облако одуряющих ароматов, иногда совершенно исчезавших в простых запахах лака, штукатурки и масляной краски, присущих новым зданиям. Неисчислимые электрические лампочки на потолке и на хорах блестели так ярко и резко, что только очень крепкие и здоровые люди могли выносить этот поток света.
Парижские художники ввели в моду в эту зиму маленькие венецианские чепчики, которые дамы надевали на низкие прически. Паутинные ткани из кружев, серебро, золото, вышивки и кисти из драгоценностей, жемчуг, бриллианты ослепительно сияли. Так как веера непрерывно дрожали и головы были в постоянном движении, то над перекошенным партером непрерывно искрились и сверкали снопы лучей и то там, то тут вспыхивали огнями бриллианты.
Над этим обществом, столь же новым и пышным, как и концертный зал, неслись звуки музыки старого, давно вышедшего из моды композитора…
Инженер Мак Аллан со своей молодой женой Мод занимал маленькую ложу у самого оркестра. Гобби, его друг, строитель дворца на площади Мэдисон, предоставил в распоряжение Аллана эту ложу бесплатно. Аллан приехал сюда из Буффало, где находилась его фабрика стальных инструментов, не для того, чтобы слушать музыку, в которой он ничего не понимал, а ради десятиминутного разговора с железнодорожным магнатом и банкиром Ллойдом, одним из самых могущественных людей в Соединенных Штатах и одним из богатейших людей земного шара. Встреча с ним имела огромное значение для Аллана.
Вечером, в поезде, Аллан не мог победить своего волнения, и в тот момент, когда он увидел, что ложа, находившаяся напротив – ложа Ллойда, – была пуста, им овладело то же странное беспокойство. Но через несколько минут он заставил себя смотреть на вещи спокойно.
Ллойда еще не было. Но, может быть, он и не будет здесь! А если даже приедет, то и это еще ничего не решает, несмотря на торжествующий тон телеграммы Гобби.
Аллан сел, как человек, решивший ждать и вооружившийся для этого необходимым терпением. Он удобно расположился в кресле, утонув широкими печами в мягкой спинке, вытянул ноги и спокойно осмо трелся кругом. Он не был высок, но широкоплеч и крепко сложен, как боксер. У него была крупная голова, скорее четырехугольной, нежели продолговатой формы, а безбородое сухое лицо отличалось необычайной смуглостью и было покрыто веснушками. Даже теперь, зимой, на щеках у него виднелись следы веснушек. Как у всех, волосы его разделялись ровным пробором; они были темны, мягки, с медно-красным оттенком. Глаза Аллана лежали глубоко в глазных впадинах – светлые, голубовато-серые, с детским выражением. Аллан в общем был похож на морского офицера, только что вернувшегося из плавания, надышавшегося свежим воздухом и сегодня случайно надевшего фрак, который был ему не совсем впору. По первому взгляду он производил впечатление здорового, немного грубоватого, но всё же добродушного человека, довольно интеллигентного, ни в коем случае не выдающегося.
Аллан старался возможно лучше скоротать время. Музыка не подчинила его своей власти, и вместо того, чтобы сосредоточивать и углублять его мысли, она только рассеивала их. Он измерял взглядом размеры огромного зала, удивляясь устройству потолка и лож. Взглянув на колыхавшееся море вееров в партере, он подумал: «Много денег в Соединенных Штатах. Здесь можно предпринять то, что я задумал». Он стал вычислять, во что обходится в час освещение этого концертного дворца. Остановившись на круглой цифре в тысячу долларов, он стал изучать некоторые мужские лица. Женщины его не интересовали. Затем он снова взглянул на пустую ложу Ллойда, на оркестр, правое крыло которого он мог видеть из ложи. Как все люди, не понимающие в музыке, он удивлялся той механической точности, с которой работал оркестр. Аллан даже наклонился немного, чтобы видеть дирижера, рука которого, размахивающая палочкой, иногда поднималась над перилами. Этот худой, узкоплечий изящный джентльмен, которому заплатили за вечер шесть тысяч долларов, был для него настоящей загадкой. Аллан наблюдал за ним долго и внимательно. Даже внешность этого человека казалась ему необыкновенной. Его голова – с крючковатым носом и маленькими живыми глазами, с плотно сжатым ртом и мягкими, откинутыми назад волосами – напоминала голову коршуна. Казалось, он состоял только из кожи, костей и нервов. Однако он спокойно стоял среди хаоса звуков и управлял ими по своему желанию одним мановением белых и, по-видимому, бессильных рук. Аллан восхищался им, как волшебником, проникнуть в тайны которого он и не пытался. Этот человек казался Аллану принадлежащим к отдаленным временам, к какой-то чуждой, непонятной расе, обреченной на вымирание.
В это мгновение дирижер поднял руки вверх, потряс ими, точно в сильном гневе, и в его руках ожила вдруг сверхъестественная сила. Оркестр загремел с неистовой страстью и сразу замолк.
Лавина аплодисментов прокатилась по зале, оглушительно гремя в огромном помещении. Аллан выпрямился и вздохнул, намереваясь встать. Но он ошибся. Музыка возобновилась, и деревянные духовые инструменты начали адажио. Из соседней ложи донесся до него конец разговора:
– …двадцать процентов дивиденда!.. Блестящее дело!..
И Аллану пришлось снова сесть на свое место и ждать. Он принялся изучать кольцо лож, устройство которых было ему не совсем понятно. А в это время жена его, сама хорошая пианистка, всем своим существом отдалась во власть музыки. Рядом со своим мужем Мод казалась нежной и маленькой. Она сидела, склонив набок темную красивую голову, поддерживая ее рукой, затянутой в белую перчатку, и ее прозрачное ушко впитывало волны звуков, которые неслись к ней снизу, сверху, со всех сторон. Вибрация, которой наполняли воздух двести инструментов, потрясала каждый ее нерв. Возбуждение ее было так велико, что на ее нежных матовых щеках появились круглые красные пятна.
Никогда – так казалось ей – она не чувствовала музыки так глубоко и сильно. Даже незначительная мелодия, второстепенный музыкальный мотив будили в ней незнакомое раньше блаженное ощущение. Отдельный звук вдруг вскрывал в ее душе какой-то неведомый ей источник счастья, которое вдруг заливало ее. И чувства, которые вызывала в ней эта музыка, были чистейшей радостью и красотой. Все образы, возникавшие перед ней под влиянием музыки, были окружены сиянием такой красоты, какой действительность не могла ей дать.
Жизнь Мод была так же скромна и проста, как и сама Мод. В этой жизни не было никаких крупных событий, ничего замечательного, и она была похожа на жизнь многих тысяч молодых девушек и женщин. Мод была родом из Бруклина, где у ее отца была типография, и выросла в имении, в Беркшайр-Хилле, воспитанная своей матерью-немкой. Мод получила хорошее образование в школе, посещала в течение двух лет курсы в Чаутакуа и набила свою маленькую голову всевозможной мудростью, чтобы затем всё это позабыть. Хотя она и не обладала большими музыкальными способностями, она всё же хорошо изучила фортепианную игру и закончила музыкальное образование в Мюнхене и Париже у первоклассных профессоров. Она путешествовала со своей матерью (отец ее давно умер), занималась спортом и флиртом с молодыми людьми, как и все молодые девушки. У нее было увлечение в ранней молодости, о котором она теперь и не вспоминала. Она отказала Гобби, архитектору, потому что любила его только как друга, и вышла замуж за инженера Мак Аллана, потому что влюбилась в него. Еще до замужества умерла ее горячо любимая мать, и Мод долго оплакивала ее. На втором году своей супружеской жизни она родила девочку, которую страстно любила. Вот и всё. Ей было двадцать три года, и она была счастлива.
В то время как она в блаженном оцепенении наслаждалась музыкой, в ней, точно под влиянием волшебства, расцветали воспоминания, необычайно отчетливые и полные особого значения. И вдруг ее собственная жизнь показалась ей таинственной и глубокой. Она видела перед собой лицо матери, но чувствовала при этом не горе, а, наоборот, радость и невыразимую любовь. Мать как будто находилась еще среди живых. Одновременно с этим перед ней появился весь ландшафт Беркшайр-Хилля, – те места, где она часто каталась на велосипеде. Но ландшафт этот был полон таинственной красоты и удивительного блеска. Она вспомнила о Гобби и в ту же минуту увидела перед собой свою девичью комнату, заставленную книгами. Она увидела самое себя, сидящую за роялем и разыгрывающую упражнения. А затем снова появился Гобби. Он сидел возле нее на скамье у площадки для тенниса, которую в темноте трудно уже было рассмотреть, и только белые полоски, разделявшие площадку на квадраты, выделялись на темном фоне. Гобби, заложив ногу на ногу, стучал ракеткой по кончику своего белого башмака и ораторствовал. Она ясно увидела, как она улыбалась, потому что Гобби болтал разный любовный вздор. Но веселая музыка, зазвучавшая в оркестре, унесла прочь образ Гобби и вызвала в ее памяти веселый пикник, на котором в первый раз увидела она Аллана. Она гостила у своих знакомых, Линдлеев, летом в Буффало. Пред ней встала картина: два автомобиля, компания, человек двенадцать мужчин и дам. Она ясно различала каждое лицо в эту минуту. Было жарко. Мужчины сняли пиджаки. Земля была сухая и горячая. Решили приготовить чай, и Линдлей крикнул: «Аллан, не разложите ли вы костер?» Аллан ответил: All right[2]2
Хорошо.
[Закрыть]. Мод казалось теперь, что уже с той минуты она полюбила его голос – его мягкий, грудной голос. Она видела отчетливо и теперь, как он раскладывал костер, как тихо собирал и ломал сучья и вообще как он работал. Она видела, как он с засученными рукавами сидел на корточках у огня, тщательно раздувая его. И вдруг она заметила на правой руке у Аллана бледно-голубую татуировку – скрещивающиеся молотки. Она указала на это Грации Гордон, и Грация Гордон (та самая, супружество которой недавно кончилось таким скандалом) взглянула на нее с удивлением и сказала: Don’t you know, my dear?[3]3
Разве вы этого не знали, дорогая?
[Закрыть], и она сообщила ей, что этот Мак Аллан был раньше конюхом в шахте «Дядя Том», рассказала ей о романтической юности этого смуглого, веснушчатого юноши, а он всё сидел на корточках, не обращая внимания на болтающую веселую компанию, и раздувал огонь. И она уже любила его в эту минуту! Конечно, тогда уже она любила его, но только не знала этого до нынешнего дня! И Мод отдалась воспоминаниям о своей любви к Маку Аллану. Она припомнила его удивительное сватовство, венчание, первые месяцы брачной жизни. Затем настало время ожидания ребенка, и появилась на свет ее дочка, маленькая Эдит. Мод никогда не забудет, каким нежным и любящим был Мак, какою заботливостью окружал он ее в то время, которое для каждой жены является мерилом любви мужа.
И вдруг Мод поняла, что и Мак нуждается в ее заботах, как дитя. Никогда она не забудет того времени, когда она узнала, как добр Мак! Волна любви наполнила ее сердце, и она закрыла глаза. Воспоминания и лица вдруг исчезли, и музыка овладела ею всецело. Она больше ни о чем не думала, только слушала…
Вдруг в ушах Мод раздался грохот, точно обрушилась стена. Мод очнулась и глубоко вздохнула. Симфония была окончена. Мак уже стоял, расправляя усталое от неподвижности тело. Партер бесновался.
И Мод встала, немного растерянная, чувствуя легкое головокружение, и начала вдруг неистово аплодировать.
– Аплодируй же, Мак! – крикнула она вне себя от восторга, вся пунцовая от волнения.
Аллан засмеялся над необычным возбуждением Мод и громко зааплодировал, чтобы доставить ей удовольствие.
– Браво! Браво! – кричала Мод звонким, высоким голосом, с влажными от волнения глазами, и перегнулась через барьер ложи.
Дирижер оркестра вытирал побледневшее от утомления лицо и непрерывно раскланивался. Аплодисменты не утихали, и дирижер указал на оркестр. Такая скромность была явным лицемерием и пробудила в Аллане его всегдашнее недоверчивое отношение к артистам, которых он не признавал за настоящих людей и, говоря откровенно, считал их ненужными для жизни. Но Мод присоединилась к новой буре восторженных аплодисментов.
– Мои перчатки лопнули! Посмотри, Мак. Что за артист! Разве всё это не чудесно?
Ее губы дрожали, глаза блестели, точно драгоценные камни, и Мак находил, что она была необычайно хороша в своем экстазе. Он улыбнулся и ответил несколько равнодушнее, чем хотел:
– Да, ловкий парень!
– Он – гений! – воскликнула Мод и снова восторженно зааплодировала. – Ни в Париже, ни в Берлине, ни в Лондоне я не слышала ничего похожего!
Она замолчала и повернулась к двери; в ложу входил Гобби, архитектор.
– Гобби! – воскликнула Мод, продолжая хлопать, потому что она, как и тысячи других, желала, чтобы дирижер вышел еще раз. – Аплодируй же! Он должен выйти. Браво! Браво!
Гобби заткнул уши и свистнул, как уличный мальчишка.
– Гобби, как ты смеешь!
И Мод топнула возмущенно ногой. В этот момент снова показался дирижер, обливавшийся потом и вытиравший затылок носовым платком, и Мод опять бешено зааплодировала.
Гобби выждал, пока шум несколько утих.
– Совсем сошли с ума! – сказал он, громко смеясь. – Такая овация! Я засвистел только для того, чтобы увеличить шум, Мод! Как ты поживаешь, girl? And how are you, old chap?[4]4
…деточка? И ты, старина?
[Закрыть]
Только теперь они могли наконец обменяться приветствиями.
На редкость искренняя дружба связывала этих трех людей. Аллан прекрасно знал о прежних чувствах Гобби к Мод, и хотя об этом никогда не было сказано ни слова, но это обстоятельство всё же придавало особую теплоту и даже некоторую пикантность отношениям обоих мужчин. Гобби всё еще был немного влюблен в Мод, однако он был достаточно умен и тактичен, чтобы не показывать этого. Но женский инстинкт Мод нельзя было обмануть. Она знала, что он любит ее, и это наполняло ее гордой радостью, которая временами отражалась во взгляде ее нежных карих глаз. Она относилась к Гобби как искренно любящая сестра.
Все трое всегда старались быть полезными друг другу, оказывать различные услуги, и Аллан в особенности считал себя обязанным Гобби: благодаря посредничеству и личному поручительству Гобби Аллан смог достать несколько лет назад пятьдесят тысяч долларов для производства технических опытов и устройства фабрики! Гобби, кроме того, защищал интересы Аллана у железнодорожного короля Ллойда, и благодаря его посредничеству в этот вечер должно было состояться свидание Аллана с банкиром. Гобби готов был сделать для Аллана всё, что мог: он искренно восхищался им. Уже в то время, когда Аллан еще ничего другого не изобрел, кроме особого сорта стали, названной алланитом, Гобби говорил всем своим знакомым:









































