Текст книги "Абу Нувас"
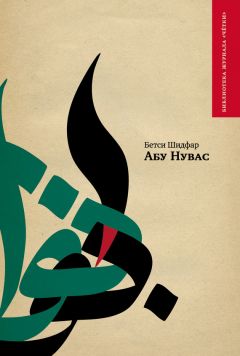
Автор книги: Бетси Шидфар
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Написав письмо, Халаф посыпал его из песочницы просеянным белым песком, свернул, связал толстой шерстяной ниткой, на концы ее накапал сургуча, растопленного на свече, и запечатал своим перстнем. Только когда невольник, сунув в рукав запечатанное письмо, ушел, Халаф немного успокоился. Он очень любил Хасана, своего одноплеменника, в жилах которого текла благородная кровь йеменитов, считал его самым талантливым из всех нынешних молодых поэтов и часто прощал дерзости. Если бы Халаф мог, он избавил бы Хасана от всех мелочных забот и огорчений, но он сам был беден и не мог спасти молодого поэта даже от палок рабов аль-Иджли. «Хасану надо уехать из Басры, – думал он. – Басра стала захолустной окраиной. Ему надо в Багдад, где кипит жизнь, где он найдет и достойных соперников, и друзей. Впрочем, друзей будет не много: зависть не оставляет места дружбе».
IX
В доме Халафа спокойно, ничто не тревожит гостей, будто они отгорожены от света. На третий день хозяин успокаивает Хасана – все улажено. Иджли, конечно, не забыл оскорбления, но после заступничества Мухаммеда ас-Сакафи побоится трогать поэта. Теперь им можно оставить его дом.
– Пойдем к Болотам, – предлагает Хасан.
Болота – в предместье Басры. Правда, там немного пахнет терпкой камышовой гнилью: но, когда дует береговой ветер, прохладнее места в городе не найти. Сюда не добирается запах боен, только скользят по зеленой воде маленькие челноки «озерных арабов»*, живущих на островках среди финиковых пальм. Горожане любят тут отдыхать, и в праздничные дни на Болотах можно увидеть немало лодок. В них сидят щеголи в туго затянутых кафтанах и высоких шапках, обмотанных чалмой из тонкой индийской ткани, певицы в прозрачных покрывалах. Дюжие гребцы налегают на весла, обдавая брызгами проплывающие мимо лодки. Начинается шум и брань, гребцы изощряются в придумывании знаменитых басрийских ругательств.
Но сегодня не праздничный день, и Хасан надеется, что сможет отдохнуть. Как узники, выпущенные из тюрьмы, медленно идут они с Валибой по улицам. Дует береговой ветер. На великой реке Шатт аль-Араб волны легко подбрасывают суда и лодчонки, белые паруса выгнулись, будто надутые щеки ветра, камыши качают тонким станом, словно танцовщицы на пиру. Все это помимо воли Хасана запечатлевается у него в глазах, будит воспоминания, и слова еще не сложенных стихов пляшут на языке, как лодки на воде.
Все ближе подходят они к Болотам. Но настроение Хасана вдруг портится.
– Проклятые рогачи, лучше бы мне встретиться с дьяволом, – говорит он с досадой сквозь зубы.
– Откуда здесь стражники? – удивляется Валиба. – И кафтаны у них черные: это стражники самого халифа!
У самой воды, так, что копыта коней погружены в тину, полукругом стоят всадники. Хасан невольно залюбовался. Высокие, статные скакуны, стройные наездники, неподвижно, как каменные, сидящие в седлах, блеск атласной шерсти коней, черные кафтаны и чалмы на фоне зеленой воды… Вымуштрованные кони стояли почти неподвижно, лишь иногда выдергивая увязшую ногу, легонько звеня обручем, а лица всадников, казалось, были похожи друг на друга.
– Зачем они здесь? – повторил Валиба.
Но тут они услышали далекую дробь барабана. Звуки шли от реки и постепенно все приближались.
– Корабль халифа!
Вниз по реке медленно двигалось украшенное разноцветными шелковыми полотнищами судно. Оно шло на веслах. Два их ряда двигались безостановочно и мерно. «Как ноги сороконожки или скорпиона», – машинально отметил Хасан. Паруса опущены и подвязаны тугими плотными складками. На бортах с обеих сторон возвышались громоздкие сооружения – «огненные машины» для метания горящей нефти, стояли сосуды с горючей смесью из крепко обожженной глины. Это был «харрака»* – большой военный корабль халифа аль-Махди. Хасан слышал о нем, но никогда еще не видел.
За то время, что они провели в доме Халафа, Хасан не получал никаких вестей – хозяин ничего не говорил гостям, чтобы понапрасну не тревожить их. Он лишь вскользь упомянул о том, что вазир халифа, Якуб ибн Дауд, которого Башшар зло высмеял когда-то за скупость, донес аль-Махди о том, что поэт сложил дерзкие и крамольные стихи:
«О сыны Умеййи*, встаньте, как долго вы спали!
Истинным халифом стал Якуб ибн Дауд.
О люди, пропала ваша держава, ищите
Халифа, наместника Аллаха, между бурдюком и лютней».
Осторожный Халаф говорил, что вряд ли Башшар осмелился сложить такие стихи, что это клевета. Но Хасан сразу понял – это стихи Абу Муаза: кто еще может так тонко, в четырех строках, осмеять и властолюбивого временщика Якуба ибн Дауда, и лицемерного халифа, «ревнителя ислама», запретившего Башшару писать любовные стихи! Всем известно, что Махди хорошо знает вольные стихи слепого поэта, и на его пирах невольницы поют только их. Что же касается запретного вина, то халиф лучше других знаком с его вкусом – ведь никто не осмелится дать самому повелителю правоверных пятьдесят кнутов за пьянство*.
Еще Хасан слышал, что новый халиф поклялся не оставить в живых ни одного «зиндика»* – еретика – и назначил на должность их гонителя, «сахиб аз-занадика», человека, известного своей жестокостью.
Но Махди был далеко, и Хасану казалось, что его это не касается – он ведь не придворный и не еретик, ему нечего надеяться на милость повелителя правоверных, бояться меча или костра. Правда, некоторые говорят, что его винные стихи могут навлечь на него гнев набожных мусульман, но вряд ли им заинтересуется сам халиф или «гонитель еретиков» Ибн Нахик, он для них слишком мелкая дичь!
Мысли Хасана были прерваны барабанным боем, который неожиданно стал нестерпимо громким. Хасан поднял глаза. Корабль халифа проходил мимо него. Вдруг Валиба схватил Хасана за руку. Его губы шевелились, но в грохоте барабанов ничего не было слышно. Потом Хасан увидел то, что поразило учителя. На палубе «харраки» на возвышении сидел человек в сверкающей на солнце одежде. Хасан успел увидеть негустую черную бороду, худощавое лицо с орлиным носом, лихорадочно блестевшие глаза. А перед ним – невысокий коренастый человек, высоко поднимая кнут, с силой опускал его на спину лежавшего на палубе. Рядом стоял кто-то, скрестив руки на груди и повернув лицо к халифу. Брызги крови летели на палубу, и Хасану казалось, что она вся залита кровью. Тот, кого избивали, был неподвижен. Если он и кричал, то его стоны заглушал грохот, издаваемый четырьмя барабанщиками, стоявшими позади халифа.
Неожиданно они разом опустили руки. Стало так тихо, что Хасану показалось – он оглох. Чернобородый человек что-то сказал стоящему рядом с ним, поднялся и, повернувшись, направился к шелковому полосатому шатру, стоявшему на палубе. Тут только Хасан услышал, что Валиба шепчет:
– Это сам халиф аль-Махди, а тот, что рядом с ним – Ибн Нахик, я видел его раньше, не дай нам Аллах встретить его еще раз! Они убили кого-то, да не пошлет Аллах милости убийцам и насильникам!
Корабль подошел совсем близко к берегу. Хасан и Валиба услышали, как один из барабанщиков сказал другому:
– Проклятый безбожник, он даже не сказал: «Во славу Аллаха!» – как требует обычай, а когда его стали заставлять, ответил: «Нечего славить Аллаха за такое угощение!»
Второй барабанщик сплюнул на палубу в знак презрения к убитому и добавил:
– Эти басрийцы все такие безбожники, и разбойники к тому же! Тут он заметил Хасана и его учителя и крикнул:
– Эй вы, получайте вашего Абу Муаза, его душа уже отлетела в худшее изо всех мест – в Геенну огненную.
Хасан бросился к воде, но один из конных стражников оттолкнул его древком копья:
– Пошел прочь, не то и с тобой будет то же!
На корабле к телу подошли двое, раскачали его и бросили в воду. Убитый упал далеко, почти у самого берега, а стражники подцепили его копьями и подтащили ближе.
– Пусть гниет здесь, – крикнул один из них. – Неверной собаке, ере тику, подобает истлеть в болоте!
Корабль отплыл. Отряд всадников двинулся по берегу вслед за ним, а Валиба и Хасан бросились к убитому. Они перевернули тело, и Хасан отпрянул. Он узнал изуродованные бельмами глаза, лицо, теперь искаженное судорогой, – это действительно был Башшар ибн Бурд, Абу Муаз, величайший поэт Басры и Багдада, чьих насмешек боялись больше, чем немилости халифа, чьи стихи о любви были известны всем, кто говорил и понимал по-арабски.
– Не может быть… – шептал Валиба дрожащими губами, стараясь вытащить грузное тело старика на берег. Ноги Валибы скользили, полы одежды намокли. Наконец, выбившись из сил, он сказал Хасану:
– Сынок, беги в Басру, найди кого-нибудь из сыновей или родичей Абу Муаза и возвращайся скорее сюда.
Хасан, не глядя под ноги, пустился бежать. Его охватила слабость, в глазах темнело, мокрая от пота одежда прилипла к телу. Он еще полностью не осознал, что случилось. Несколько минут назад они с учителем спокойно гуляли, наслаждаясь прохладой берегового ветра, а теперь все так, будто «небо кусками обрушилось на землю», как сказано в Коране*.
– О, господин мой, о господин! – услышал он, когда подбегал к дому Абу Муаза, вытирая залитое потом лицо. Кто-то опередил его. Наверное, один из рыбаков, проплывавших мимо, увидел тело убитого, узнал его и по каналу добрался до Басры более коротким путем. Хасан почувство вал облегчение – не ему придется передать семье Абу Муаза горестное известие.
Он повернулся и хотел уйти; к нему подошел высокий белобородый старик.
– Что стряслось в доме Абу Муаза? Кто-нибудь умер? – спросил он.
Хасан хотел остановиться и рассказать, что случилось, – ему просто необходимо было сделать это, чтобы разделить с кем-нибудь – с кем угодно – сжимавшую горло тоску, но тут он увидел выезжающих на середину улицы стражников. Опять они! Один, узнав Хасана, едва не наехав на юношу, угрожающе сказал:
– Ты, молодец, что-то слишком часто попадаешься нам на пути, это мо жет плохо кончиться для тебя!
Потом, обратившись к собравшимся у ворот соседям Абу Муаза, крикнул:
– Эй, люди, повелитель правоверных запретил вам провожать на кладбище тело этого еретика, пусть его хоронят только родичи, если только ере тики признают законы родства, а вы расходитесь по домам, чтобы на вас не обрушился гнев халифа!
Напуганные соседи стали расходиться. Хасан, которого белобородый старик взял за рукав, тихонько освободил руку и пошел вместе со всеми. И только дойдя почти до своего дома, вспомнил о своем учителе – он ведь оставил его одного на Болотах!
Когда он вернулся туда, уже наступил полдень. Солнце нестерпимо палило, ветер утих, и от камышей несло сладкой гнилью. Валибы не было, влажная земля поглотила все следы, будто здесь ничего не случилось.
Хасан оглянулся и увидел неподалеку камышовую хижину, не замеченную им раньше. Может быть, учитель зашел туда, чтобы укрыться от полуденного зноя, может быть, живущие здесь рыбаки позвали его? Валибу многие знали в Басре, особенно на Болотах, – в молодости он водил дружбу со старейшиной рыбаков, таким же гулякой и безбожником, как и он когда-то.
Хасан направился к хижине. Снова поднялся ветер, зашелестели камыши, зашумели жесткие листья пальм, которые росли за хижиной. Еще не зайдя внутрь, Хасан увидел учителя, он лежал на циновке, укрывающей земляной пол, голова его была как-то странно закинута. Хасан бросился к Валибе. Сев на пол, положил голову учителя к себе на колени. Валиба открыл глаза:
– Не бойся, сынок, я жив, пока не попал в руки Ибн Нахика. Мне стало нехорошо, и я потерял сознание. Один рыбак из озерных арабов, – они дальние родичи нашего племени, – отнес меня сюда, в свое жилище, а сам пошел за лекарем, чтобы тот пустил мне кровь. Иди, я отдохну здесь, у рыбаков. У них прохладнее и тише. Я не хочу возвращаться сейчас в Басру.
Вечер был душен, воздух, казалось, забивал горло, дышалось с трудом. Хасан всю ночь проворочался на жесткой постели и заснул лишь под утро.
Следующий день он провел дома в полузабытьи, потом вспомнил, что еще Халаф передал ему просьбу – написать риса* на смерть старейшины племени сакиф. Надо было приниматься за работу. Хасан взял калам и начал:
«Слезы льются потоком, не останавливаясь и не переставая…»
Мало-помалу работа захватила его, он забыл, кому посвящаются стихи, и казалось ему, он оплакивает все несчастья разом – убитого Абу Муаза, больного Валибу, рано состарившуюся мать, свою бедность и беспомощность.
Он заметил, что наступил вечер только тогда, когда мать принесла чадящий светильник. Оторвавшись от бумаги, Хасан поморщился от едкой гари:
– Неужели у нас в доме нет масла получше?
И сразу же пожалел: начались привычные жалобы на бедность, скудность достатка, беспутство младшего сына, на то, что дочери еще не выданы замуж, а он столько лет провел в ученье и не может прокормить семью…
Он молча слушал мать. Чувствуя, как сердце наполняется глухим отчаянием, от которого хочется разбить голову о камень или всадить нож в грудь, Хасан свернул бумагу с готовым риса и вышел из дому.
В доме Сакафи все еще вопили и плакали, шел третий день после похорон. Хасана проводили в покои, где находился хозяин.
Во внутреннем портике, окружавшем заросший пальмами и цветами двор, Хасан увидел нескольких молодых невольниц. Одна из них, в оранжевом платье, причитала, легко ударяя себя по щекам кончиками пальцев. Платье бросало огненные отблески на ее смуглое лицо, белки глаз казались ослепительно-яркими, окрашенные хной тонкие пальцы походили на продолговатые виноградинки или плоды унаби*. Было что-то особенно грациозное в этой девушке – длинная округлая шея, гладкая кожа, прямые брови. Проходя мимо нее, Хасан замедлил шаг. Она опустила покрывало, но не очень спешила и бросила на юношу быстрый взгляд. «Глаза, как нарциссы», – подумал Хасан и, невольно обернувшись, увидел, что она смотрит на него из-под покрывала и улыбается. Хасан рассердился: эта девочка в оранжевом платье смеется над его молодостью и редкими усами! Но улыбка смуглой невольницы была не злой, не насмешливой, а по-детски доверчивой, от нее сладко защемило и забилось сердце.
– Пойдем, господин, наш хозяин ждет тебя, – торопил слуга.
Хасан вошел в богато убранную комнату. На возвышении сидели Абд аль-Ваххаб ас-Сакафи, друзья его покойного отца, старейшины и уважаемые люди племени.
Хасана встретили вежливо, усадили, правда, не рядом с хозяином, но на почетном месте, неподалеку от шейхов рода Абд аль-Ваххаба. Гости сидели молча, лишь изредка бормотали благочестивые утешения. Слуги подали мясо и разные приправы, свежий пшеничный хлеб, потом фрукты и сладости.
Поев, гости опять забормотали. Хасан прислушался. Из внутренних покоев доносились причитания плакальщиц, и ему казалось, что он различает голос смуглой девушки в оранжевом платье.
«Сейчас, кажется, настало время для риса», – решил он и, дождавшись, пока гости умолкнут, обратился к хозяину с обычным утешением, а потом начал читать. Его слушали внимательно, некоторые гости даже покачивались в такт: видно, стихи удались. Хозяин молча плакал, не вытирая глаз.
Когда Хасан кончил читать, гости зашумели:
– Ты хорошо описал достоинства нашего шейха Мухаммеда, да пребудет он вечно в милости Аллаха! Он был опорой и защитником нашего рода, пусть приблизит его Аллах к своему престолу!
– Поистине, хоть ты и молод, мастерство твое таково, что слова проникают прямо в сердце!
В дальнем конце комнаты колыхалась занавеска – женщины столпились за ней и молчали, пока поэт декламировал, а когда он кончил, снова раздались причитания. Потом плакальщицы замолчали, и только один голос, мелодичный и свежий, продолжал жаловаться на горе рода Абд аль-Ваххаба, потерявшего лучшего из своих мужей.
– Да благословит Аллах твои уста, Джинан! – сказал хозяин и, сняв с пальца перстень, бросил его плакальщице. Занавеска немного отошла, рука в оранжевом рукаве взяла кольцо.
«Ее зовут Джинан! У нее глаза, как нарциссы, а пальцы, как виноград, она смугла, как грустная луна, взошедшая на похоронах», – подумал Хасан. Он прошептал:
– Я видел смуглую луну, взошедшую
И воссиявшую на похоронах.
Она плачет и рассыпает жемчуг слез из нарциссов очей
И бьет розу щек дикими виноградинками пальцев.
Старик из рода Абд аль-Ваххаба, сидевший рядом с Хасаном, расслышал стихи, укоризненно покачал головой, но тут же, нагнувшись к Хасану, шепотом спросил:
– Чьи это стихи, молодец?
У старика маленькие лукавые глазки, добродушное лицо, видно, что ему очень хочется узнать имя стихотворца.
– Я только что сложил их, увидев одну из плакальщиц-невольниц хозяина по имени Джинан.
– Да благословит Аллах твой разум! – сказал старик так громко, что на них оглянулись. – Скажи мне еще раз эти стихи!
Хасан повторил их, а старик с удовольствием шевелил губами, запоминая слова.
Гости стали расходиться. Хозяин хлопнул в ладоши, и седобородый прислужник с глубоким поклоном подал Хасану на чеканном серебряном блюде расшитый бархатный кошель:
– Хозяин просит тебя взять кошелек вместе с этим блюдом, сработан ным так же искусно, как твои стихи.
Хасан покраснел. Он еще не получал таких богатых подарков. Значит, правду говорит пословица, что сакиф – одно из самых благородных арабских племен! Он принял из рук слуги тяжелое блюдо и хотел поблагодарить щедрого хозяина, но тот предостерегающе поднял ладонь:
– Скажи мне лучше, Абу Нувас, что за стихи ты говорил шейху Абд аль– Муниму, твоему соседу? Он большой любитель поэзии и знает наизусть великое множество касыд древних поэтов. Сядь рядом со мной и скажи мне их.
Хасану пришлось еще раз повторить стихи о Джинан, но он не сказал хозяину, по какому поводу сложил их, – боялся, что тот накажет невольницу за то, что она показалась чужому человеку.
Сакафи осыпал его похвалами и обещал свое покровительство.
Выйдя из зала, Хасан снова прошел через портик. За одной из колонн, где был установлен факел, снова мелькнуло оранжевое платье. Прошелестел тихий смех, зазвенели ножные браслеты.
– Это ты, Джинан? – спросил он вдруг охрипшим голосом.
Она не ответила. Заколыхалось пламя факела. Она хотела убежать, но Хасан успел поймать край покрывала. Девушка остановилась. Он хотел сказать ей, как прекрасны ее глаза, похожие на нарциссы, но издалека послышался шум шагов. Тогда, ощупью найдя руку девушки, неподвижно стоявшей рядом с ним, он положил ей в ладонь тяжелый кошелек.
– Пусть твои браслеты звенят не серебряным, а золотым звоном, – прошептал он быстро и вышел.
Войдя в свою комнату, где все еще чадил светильник, он молча протянул матери гладкое, блеснувшее в полутьме блюдо. Та только ахнула, разглядывая тонкую чеканку:
– Откуда у тебя это, сынок?
– Подарок ас-Сакафи, – с нарочитой небрежностью ответил Хасан и лег, отвернувшись к стене.
Он не хотел никого видеть, чтобы не спугнуть стоящий перед глазами образ Джинан. Значит, не зря так часто писали древние о видении любимой, витающем над изголовьем:
«Блеснула молния на заре из тяжелых туч —
На заре меня посетило видение – образ Суад!» —
так писал его любимый поэт аль-Аша. Хасан думал, что не уснет всю ночь, но усталость и духота сморили его, и он забылся сразу же, как, затрещав, погас пустой светильник.
Разбудил его стук в ворота. Скрип створок, незнакомый женский голос. К нему подошла мать:
– Вставай, сынок, у меня добрая весть для тебя!
Открыв глаза, Хасан увидел в ее руках узелок. Она положила его на постель и, развязав, восхищенно вскрикнула: там был оранжевый шелковый платок, вышитый разноцветными нитками крученого шелка. Под платком – бархатный кошелек, подаренный вчера Хасану, и еще записка, свернутая в трубочку, перевязанная зеленым шнурком и запечатанная воском. Мать посмотрела на сына, улыбнулась и вышла, а Хасан, сняв воск, развернул записку:
«Да не пошлет Аллах привета тому, кто обеспокоил девичье сердце». А затем: «Из твоего подарка я взяла один золотой динар на память, а тебе посылаю этот платок. Да не благословит тебя Аллах за то, что ты ославил меня среди жителей Басры, – ведь слуги нашего дома уже разнесли твои стихи по площадям и рынкам. Я буду сегодня в полдень в лавке Симона-еврея, ювелира, на площади Мирбад. Оставайся с миром».
Хасан вскочил с постели и бросился к дверям. Во дворе хлопотала мать у очага.
– Кто принес письмо? – спросил Хасан.
– Не знаю, какая-то старуха, видно, из богатого дома. Лучше бы тебе не связываться с толстосумами, сынок, только Аллах знает, что у них на уме.
Не отвечая, Хасан развязал кошелек, вынул несколько монет – все полновесные золотые динары – и отдал остальное матери.
– Что это? – посмотрела она на него со страхом. – Неужели за твои стихи?
– Не бойся, мать, – засмеялся Хасан. – Я не умею убивать людей, иначе служил бы в стражниках.
Отломив кусок черствой вчерашней лепешки, он наскоро прожевал ее, запил водой и отправился на Мирбад. Правда, до полудня еще далеко, но Хасан так давно не приходил на площадь, что его тянуло побыть на людях, отдохнуть от одиночества.
Несмотря на ранний час, здесь было людно и шумно. Вот и лавка ювелира, Симона-еврея. Он уже на своем месте, раскладывает золотые и серебряные украшения – перстни, кольца, запястья, ножные браслеты, украшенные персидской бирюзой, розовыми горными рубинами из дальней страны Бадахшан, сердоликом и жемчугом. Любуясь украшениями, Хасан несколько раз прошел мимо лавки, и Симон подозрительно покосился на него. Усмехнувшись, Хасан пошел в другую сторону, на тот край Мирбада, куда выходили балконы дворцов знатных басрийцев.
На площадь выехала шумная ватага всадников. Кони были рослые и холеные, в дорогой сбруе, сверкавшей серебряными и золотыми бляхами и самоцветами, увешанной кистями и бахромой. Реяли пышные страусиные перья. Среди всадников Хасан узнал Аджрада – самого бесшабашного гуляку в Басре. Все знали, что он был влюблен в Амину, дочь знатного араба, и каждое утро проезжал перед ее балконом. Набожные люди осуждали его за беспутство, но Аджрад знатен и богат, и отцу Амины приходилось терпеть позор.
Впереди ехал красивый юноша в черном бархатном кафтане и черной чалме. Спутники обращались к нему с подчеркнутым почтением. Всадники несколько раз проехали мимо балкона Амины, потом повернули и направились в сторону Хасана.
– Привет тебе! – вдруг крикнул Аджрад, осадив перед ним коня.
Тот удивленно поднял голову. Его окружали наездники, один наряднее другого, и все смотрели на него внимательно и дружелюбно.
– Это ведь ты – поэт Абу Нувас, который сложил стихи о вине и плакальщице?
Хасан кивнул. Всадники одобрительно зашумели, а Аджрад сказал:
– Приходи в винную лавку сирийца Юханны, мы будем ждать тебя там. Они двинулись дальше, а Хасан проводил глазами юношу в черном кафтане, прямо и непринужденно державшегося в седле.
У сирийца-христианина Юханны обычно собирались богатые гуляки города. Возле дверей стояли высокие зинджи-невольники виноторговца, которые не пускали тех, кто бедно одет, а в лавке стояли не длинные скамьи, а резные сиденья и низкие мозаичные столики. Аджрад, незнакомый юноша в черном кафтане и их спутники расположились на возвышении, устланном коврами, кроме них в лавке не было никаких гостей, и хозяину приказали не пускать никого.
Прислуживал знатным посетителям сам Юханна – тучный сириец с бычьими глазами и густой иссиня-черной бородой – и несколько мальчиков, одетых в узкие камзолы, перепоясанные низко, почти на бедрах, шелковыми поясами.
Когда вошел Хасан, «сабух», – «утреннее возлияние», как говорили гуляки, – уже началось. Мальчики поставили перед гостями фарфоровые вазы с цветами, разносили чаши с розовым вином, кубки на высоких ножках из иракского стекла с цветными узорами. Аджрад встретил поэта веселым возгласом:
– Добро пожаловать, Абу Нувас, искуснейший из поэтов, воспевший вино в прекрасных стихах! Садись с нами и знай, что сегодня нам оказал честь Фадл ибн Раби*, который надеется услышать твои новые стихи о вине.
Юноша в черном кафтане кивнул и добавил:
– Твои стихи известны уже в Багдаде, и не один поэт завидует им. Садись с нами, мы будем рады твоему присутствию, а если ты скажешь нам свои новые сочинения, мы сумеем оценить их.
Глаза Фадла и Хасана встретились, и они улыбнулись друг другу. «Звезда удачи взошла наконец надо мной», – подумал Хасан. Подождав, пока виночерпий подал вино, Хасан отпил из кубка, а потом начал свои новые стихи о вине. Их еще никто не слышал – он сложил их в доме Халафа:
– Сколько раз, когда ночь была черна, как крылья ворона,
Я стучался с благородными юношами в дом виноторговца…
Стихи были как будто нарочно к случаю, и Хасан, если требовалось, изменял их на ходу. Его прерывали одобрительные возгласы; звенели серебряным звоном чаши, ароматное вино кружило голову.
– Пусти же чашу по кругу – напои благородных арабов, —
произнес Хасан последние строки, и сразу же вокруг зашумели так, что он вздрогнул.
– Клянусь жизнью, я ничего не слышал лучше! – кричал Аджрад. Ему вторили остальные, только Фадл молчал. Неужели ему не понравилось? Хасан выжидающе смотрел на юношу в черном кафтане. Когда шум стих, тот поднял чашу и, обращаясь к поэту, сказал, повторяя один из его бейтов:
– «Выпей же его, прозрачного, как лепесток розы,
И ароматного, как жасмин!» —
Аджрад прав, ты лучший из новых поэтов и не хуже древних. Пей с нами и будь нашим спутником во все дни, если это будет угодно Богу!
Радостные крики возобновились, и веселье продолжилось. Голоса становились все громче. Гости шумели:
– Эй, Юханна, пусть твоя дочь, Зара-лютнистка, споет нам!
В лавку вошло несколько флейтисток, а с ними пухленькая черноглазая сириянка – дочь Юханны – с лютней. Их встретили восторженными криками. Девушки сели на низенькие резные скамейки, и Зара-лютнистка, настроив лютню, стала петь персидские и сирийские песни. Аджрад, расстегнув кафтан, подпевал ей. Хасан пил один кубок за другим. «Еще далеко до полудня», – думал он. Ему не хотелось уходить, не хотелось вновь отдаваться заботам.
Когда песни наскучили, Аджрад стал рассказывать забавные истории о бедуинах:
– Но еще забавнее то, что было с повелителем правоверных Абу Джафаром аль-Мансуром в ночь, когда скончалась его супруга и мать нынешнего халифа, Умм Мухаммед, химьяритка. Говорят, что она взяла с аль-Мансура письменное обязательство – не жениться на других женщинах и не брать себе наложниц, пока она жива. Мансур посылал за самыми известными законниками во все края государства, чтобы они разрешили его от этой клятвы. Но едва какой-нибудь из них приезжал в Багдад или халиф отправлял гонца, Умм Мухаммед посылала своих гонцов, нагруженных мешками с динарами, и ни один из них не помог халифу. Зато в ночь, когда ему сообщили о смерти Умм Мухаммед, он, несмотря на свою скупость, ку пил сразу сотню молодых невольниц!
– Он достойно вознаградил себя за долгое воздержание, – набожным тоном сказал Фадл среди громкого смеха.
– О скупости аль-Мансура рассказывают также, – продолжал Аджрад, – что его постельничий покупал ему одежду за 120 дирхемов, но, боясь, что халиф обвинит его в расточительности, говорил, будто заплатил 60, а халиф давал ему 20.
– А странная кончина Умм Мухаммед похожа на смерть Абу-ль– Аббаса*, – подхватил один из собутыльников. – Все знают, что аль-Мансур подкупил Хасыба-лекаря, которому убить человека – все равно что пропустить молитву. Когда Абу-ль-Аббас заболел, Хасыб дал ему такое лекарство, что тот через два часа умер в мучениях. А когда халифу донесли об этом, он приказал дать Хасыбу 30 плетей и бить легко, а потом послал ему 3000 дирхемов, что для повелителя правоверных было сказочной щедростью.
Но тут Фадл поднял руку:
– Аллах проклял болтунов и благословил молчаливых, – сказал он. – Нам пора. – Потом, обратившись к Хасану, приветливо улыбнулся: – Мой дом в Басре тебе известен, ты будешь желанным гостем у меня в любое время.
Немного кружилась голова, все вокруг казалось еще более ярким. У лавки Симона-ювелира стояло несколько женщин. Еврей кричал, воздевая руки к небу и призывая Бога в свидетели, что продает себе в убыток. Оранжевого платья нигде не было видно, и у Хасана сжалось сердце. Он подошел ближе.
Внезапно прервав свои клятвы, Симон окликнул его:
– Эй, молодец, не ты ли будешь поэт по прозвищу Нувас или что-то вроде этого?
– Да, это я.
– Клянусь своей жизнью, я принял тебя за мошенника, но разница не так уж велика. Иди, там в лавке тебя ждет моя постоянная покупательница, и если бы я не доверял ей как собственной дочери, я ни за что не пустил бы тебя в свою лавку, потому что…
Но Хасан не дослушал. Он бросился в лавку, едва не сбив с ног какую-то почтенную покупательницу болтливого ювелира.
В полутемной задней комнате он увидел Джинан. На этот раз она была не в оранжевом платье, а в темно-голубом, и это даже как-то разочаровало Хасана. Он остановился, не решаясь сесть рядом с девушкой. Она улыбнулась и протянула серебряный перстень, на печати которого искусно вырезано его имя.
– Возьми перстень – это подарок за твои стихи. А твой динар я отдала Симону – он сделает мне из него подвеску к ожерелью. Я позвала тебя сюда, чтобы сказать: мой хозяин и моя госпожа собираются совершить хадж с Фадлом ибн Раби, который сейчас находится в Басре. Если хочешь, отправляйся с нашим караваном, потому что госпожа берет меня с собой в паломничество. Караван отправляется в путь через месяц, но те, кто хо чет ехать, договариваются заранее. А теперь прощай, моя госпожа ждет меня. Я буду здесь ровно через неделю. Если захочешь что-нибудь написать мне, передай через тетушку Зейнаб, она свободно ходит по городу и завтра вечером зайдет к вам.
Джинан встала, закуталась в покрывало и вышла, а Хасан так и не смог ничего сказать ей. После ее ухода в душной комнате остался слабый аромат. «Смесь розовой и жасминной воды», – невольно подумал Хасан, вспомнив службу в лавке продавца благовоний.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































