Текст книги "Вдовий плат (сборник)"
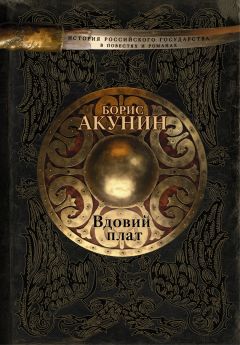
Автор книги: Борис Акунин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Часть вторая
Выборы
Всем дням день
Великий князь погостил в своей новгородской укра́ине два месяца. Потом, насытившись подарками и честью, москвичи отправились восвояси. Обоз, груженный мздой, вытянулся втрое длиннее прежнего.
После грозы 26 ноября, когда Иван Васильевич велел взять под стражу степенного посадника и еще тринадцать именитых горожан, дальше пошло мирно. Никого более не тронули, а из взятых половину отпустили – по заступничеству Настасьи Григориевой. Но посадника Василия Ананьина, Ивана Лошинского и еще нескольких Марфиных сторонников увезли в Москву. Не вышел на свободу и Федор Борецкий, который, как и следовало ожидать, запутанный дьяками, при расспросе наболтал лишнего.
Когда студеным зимним днем провожали великого князя, новоизбранный степенной посадник Фома Курятник встал перед Иваном Васильевичем на колени и поцеловал руку. Такого прежде никогда не бывало. Одни новгородцы тем озадумались, а многие и уязвились, но возобладали облегчение и радость. Уехал наконец, змей ненасытный!
Ради такого избавления Настасья Каменная устроила у себя в палатах большой пир, на который пришла не только Господа, но все вящие люди, до трехсот человек. Не было лишь Борецкой – она горевала по сыну и брату, а еще, должно быть, не хотела видеть торжество соперницы, которую все благодарили за ходатайствования перед великим князем.
Дальше сладилось еще лучше. Посадник Фома с Настасьей был угодлив, ни в чем ей не перечил, наместник Борисов брал корабленики и кланялся, в Господе верховодили свои люди, торговля процветала, григориевские приказчики беспрепятственно ездили по всем низовским землям и, невиданное дело, нигде не облагались поборами, не ведали притеснений.
Так, тихо и прибыльно, миновали остаток зимы, весна, почти всё лето. А в третий день августа всё переменилось. Грянул гром, воссияла радуга, полнеба почернело, полнеба озарилось. Бывают такие дни, когда пред человеком разом раскрываются и ад, и рай.
Утром с Марфиного двора к Изосиму, таясь, прибежал свой, подсадной человечек – прозвищем Хорек, служил у Борецкой комнатным холопом. Сказал, боярыня воет белухой на весь двор. Из Москвы сообщили: помер Федор Исакович в великокняжеской темнице.
Настасья прислушалась к сердцу – не шелохнется ли. Ведь это она здоровенного, полного жизни молодца спровадила на тот свет, обрекла на лютую медленную смерть, которая хуже всякой казни. Восемь месяцев гнил Дурень в кремлевском подвале, и вот – отмучился.
Нет, ничего не шелохнулось. Марфа ради великой цели тоже никого и ничего не щадила. Кому от жизни нужно многого, тот не мелочится, валит лес – щепок не жалеет.
Пополудни, дав злосчастной матери время погоревать, Григориева отправилась на Неревский конец с соболезнованием. Иначе нельзя. Обычаи надо блюсти. Теперь она в Новгороде первая, все смотрят, примечают.
Села в колымагу. Пока ехала на другой конец широкого города, прикидывала, как себя поведет. Ныне Борецкая, конечно, уйдет в монастырь. Она – Хорек доносил – давно говорила домашним, что останется в миру, доколе Феденька жив, а потом ей станет незачем. Пострижется.
Когда Марфа про то скажет, надо ответить ей сердечно: «Из мира уходишь, давай и мы с тобой помиримся, плохое друг дружке простим, обнимемся по-сестрински. Скоро, видно, и мне по твоим стопам, в святую обитель. Устала и я суету суетничать. А и сколько нам, старухам, жить осталось?». Потом обняться, чтобы люди видели и после по городу рассказывали. Если же Марфа обниматься не захочет – ей это пойдет в осуждение, Настасье – в заслугу.
Еще посулить взнос в обитель, куда удалится Борецкая. Щедрый. Рублей на полтораста-двести. Марфа, конечно, и сама для монастыря не поскупится, а все же дар оценит. И новгородцам оно понравится.
Не заметила, как и доехала, за такими-то мыслями.
* * *
Палаты Борецких на Великой улице Настасья раньше видела только снаружи, и нечасто – избегала проезжать через враждебный кусок города. Домина был огромный, белокаменного сложения, в два житья. Въехав в раскрытые ворота и тяжело ступив на землю, Григориева с любопытством огляделась.
Двор был вдвое шире, чем ее собственный, челяди – впятеро, но удивительно показалось не многолюдство, а то, что все вели себя нескорбно: бегали, орали, что-то разгружали. С улицы один за другим влетели трое конных на взмыленных конях, побежали в дом. Будто не к поминкам готовятся, а к войне.
Наверху, в тереме, было еще чуднее.
Борецкая не выла и не рыдала, а сидела в большой пустой зале (на стене только большой образ Спаса), во главе длинного стола, тоже пустого. По обе стороны не родня, не зареванные бабы, а бояре, житьи люди, купцы, попы из Неревских приходов – те, кто за Марфу горой. Был там и дьяк веча Назар, так неловко прислуживавший Настасье на великокняжеском гостевании.
Что за притча?
– А, Настасья. Хорошо, что пожаловала, – сказала Борецкая, не согнутая горем, а наоборот, будто распрямившаяся и еще больше ожелезневшая.
– Только узнала про Федора – сразу к тебе. – Григориева вынула из рукава мокрый платок, поднесла к глазам, нажала – потекли капли. – Скорблю о твоей утрате.
Марфа усмехнулась. Ее глаза были сухи, неистовы.
– Скорбят по скорбящим, а мой Федюша отскорбелся. Освободился из Иродовой неволи. Ныне он у Государя Небесного.
Она перекрестилась – остальные последовали ее примеру. Настасья подумала – креститься или нет. Не стала. А то получится, что это и она Ивана Васильевича считает Иродом. Донесут наместнику Борисову. Ни к чему оно.
– А я знала. – Голос у Борецкой был трепетный, но не от слабости – от сдерживаемой силы. – С рассвета ждала черной вести. Ночью мне сон был. Пал с неба сизый сокол, пронзенный стрелой, ударился оземь, и из того места выросла купина – кипенный цвет. Сон этот вещий.
У тебя других не бывает, подумала Григориева, сочувственно кивая.
– …Про сокола я сразу поняла: сгинул мой Федюша. А про купину сначала было не в разум, но потом и это открылось. То возрожденный Новгород, вновь расцветший, белым цветом благости увенчанный!
Непохоже было, что Марфа собралась в монастырь. Да и горевать она была явно не настроена, а, кажется, вознамерилась взяться за старое. Поэтому и Настасья показное соболезнование с лица стерла, оперлась на посох, прищурилась.
– Что это тебе всё птицы снятся? Курятину на ночь ешь?
Борецкая насмешку будто не услышала:
– Вот что я тебе скажу, Юрьевна. Довольно ты похозяйничала в Новгороде, побаловалась, себя потешила. Отныне по-иному пойдет. Кончилась твоя воля.
Сидящие одобрительно загудели. Тут подобрались сплошь лютые григориевские вороги, один к одному. Вечевой дьяк Назар, чернильная кровь, по-козлиному взблеял:
– Зажда-а-ались, матушка. Моченьки нет!
– Какая такая воля? Что ты несешь, Исаковна? – спокойно ответила Настасья, разглядывая присутствующих и мысленно отмечая тех, кого не ожидала здесь увидеть. – Есть избранный посадник, он и решает.
– Фома-то? – Марфа ухмыльнулась, вдоль стола прокатился смешок. – Не слыхала еще? Не донесли? Захворал Фома тяжкой болезнью. Прислал Назару грамотку: не могу-де больше править, в монастырь уезжаю, душу спасать. Значит, будем выбирать нового посадника. Покажи ей, Назар Ильич.
Сторожко, словно к волчице, подошел дьяк, издали протянул бумагу.
Настасья взглянула.
Рука Фомы Курятника, всё верно. Внизу подписи и печати обоих вечевых блюстителей – дьяка и подвойского. Поторопились заверить.
Лоб под плотным платом покрылся испариной, расшитый агатами ворот стал тесен.
Неужто Железная перекупила Фому? Нет, на такого деньги тратить незачем. Припугнула. И, знать, сильно, коли он даже жаловаться не прибежал, а с перепугу сразу спрятался в монастырь.
– Кого теперь в степенные думаешь? – раздумчиво, не показывая смятения, спросила Григориева, а мысль работала лихорадочно: Борецкая это давно готовила, наверняка будут и другие нежданности.
Так и вышло.
– Где мне, сиротной матери, убогой вдове, о таком большом деле думать? – Борецкая говорила медленно, упивалась своим торжеством. – Завтра Господа собирается. Там мужи опытные, мудрые, не мне чета. Найдут достойных выдвиженцев в избранщики.
– Завтра?! – ахнула Настасья.
– Времена трудные. Нельзя Господину Великому Новгороду без степенного посадника. Ты закон знаешь. Когда посадник помер или, как ныне, удалился из мира, вечный дьяк и вечный подвойский сами назначают срок, а владыка благословляет. Преосвященный уже одобрил. Тоже мыслит, что чем скорее, тем для всех лучше. Потому уже завтра Господа. Пойдем и мы с тобой, Юрьевна. Посидим, послушаем, что решат лучшие мужи.
Значит, и архиепископ с ней в сговоре! У Марфы, конечно, и свои избранщики уже готовы. А противопоставить некого – за один день такие дела не делаются.
– Что ж, – смиренно молвила Настасья. – Завтра так завтра, коли постановили. Приду, пожалуй, послушаю. Там и свидимся, Марфа Исаковна.
Поклонилась всем и вышла, отстукивая посохом.
Походка была медленная, а думы быстрые.
Первое: сыскать Фому, трусливого пса. Может, недалеко уехал, неглубоко спрятался. Второе: к владыке, требовать, чтобы переменил решение, дал хотя бы неделю. Третье: к Семену Борисову. Марфин заговор и ему угроза.
Ах, Марфа, Марфа… Прикидывалась смирившейся, а сама плела сети, ждала часа. Только теперь понятно, какого именно. Пока Москва держала ее сына в заложниках, у Борецкой были связаны руки. А теперь что ей терять, чего бояться? Не Лошинского с Федором, не Василия Ананьина надо было Ивану в оковы ковать, а Борецкую! Но нет на Руси такого завода – женок в темницу сажать. Иначе получится, что государь и великий князь страшится слабого Евиного пола.
Настасья-то давно поняла: легче враждовать с десятью мужами, нежели с одной женкой. Поймет это когда-нибудь и великий князь.
* * *
– Изосима ко мне! Захара Попенка! Олену Акинфиевну! – отрывисто приказала она Луке-письменнику, едва вернувшись домой.
Скидывая на руки прислуге темно-синий шелковый летник, поднимаясь по лестнице в светлицу, думая о тревожном, вдруг с удивлением почувствовала, что на душе хмельно и радостно, словно напилась венгерского вина и скинула лет двадцать. А до сегодняшнего дня, пока всё шло гладко, бывало, и скучала, и томилась, и вздыхала о близкой старости. Вот она – настоящая жизнь: когда ветер в лицо и черные тучи в грозовых сполохах.
Но в ту минуту Настасья про настоящую жизнь знала еще не всё.
Первой пришла невестка. Была она, как всегда со свекровью, хмурая и настороженная, но сегодня боярыня посмотрела на нее с особенным вниманием.
– Я примечаю, Олена, стала ты бледная, опухшая? Нездорова? Ты гляди мне, сейчас хворать нельзя. Снова настает жаркое время. Буду степенного выбирать. Это значит, месяца на три все торговые-хозяйственные дела побоку. Возьмешь их на себя. Готовься сама за зерном на Низ ехать. Дело большое, трудное, тебе необычное.
Каждый сентябрь, сразу после урожая, Каменная объезжала Тверщину, Суздальщину, Владимирщину. Рядилась с низовскими вотчинниками и поместниками о цене ржи, пшеницы, овса, ячменя; отмеряла, проверяла, договаривалась о следующем годе, иногда давала задаток. В хорошую осень привозила обратно в Новгород до пятисот возов зерна, с каждого по полтора рублика чистого прибытка.
– Как я поеду? – сверкнула глазами Олена. – А кто с Юрашей будет?
– Я к нему на время выборов охрану приставлю, покоя ради. Говорю: готовься в путь. Год ныне урожайный, товара много будет.
– Не поеду я, – отрезала невестка. – Боюсь.
Григориева решила, что ослышалась. Чтобы Олена чего-то боялась?
Дальше – того диковинней.
– Непогодно в дороге, тряско. Не поеду. – И отвернулась.
Занятая мыслями о Марфиных кознях, боярыня и теперь еще не поняла. Изумилась больше, чем разгневалась:
– С каких это пор ты стала такая нежная? Тряски напугалась, непогоды устраши…
И вдруг дошло.
– Ты…? Неужто…?
Задохнулась.
Схватила молодку за плечи, стала поворачивать к себе – та воротила лицо.
– Вот что у тебя лик-то водянист! Дай тити пощупать…
Олена оттолкнула от груди Настасьину руку.
– Давно ли? – прошептала свекровь тихо-тихо, будто боялась спугнуть.
– Три месяца, что ли… – буркнула невестка.
– Господи, да как оно у вас сладилось-то?
Та сердито фыркнула. Помрет – не скажет.
Но тут Настасье пришла в голову новая мысль, черная. Она вцепилась Олене в горло.
– От кого понесла?! Правду говори!
Та ощерилась – того и гляди, укусит.
– Если б я кого до себя допустила, твои шептуньи уже давно бы тебе донесли! Не нужен мне никто кроме Юраши. Потому что и ему кроме меня никто на свете не нужен. Даже ты ему не нужна!
Настасья поверила сразу – эта врать не станет, а обидное пропустила мимо ушей.
Не разжимая пальцев, притянула к себе невестку, поцеловала в губы.
– Чудо Господне… Счастье…
В дверь сунулась голова Захара, поповского сына. Он, видно, давно уже постукивал, да Настасья не слышала.
– Уйди!
Голова исчезла.
Олена вытирала рот, кривилась.
– Только знай, Настасья Юрьевна, дите будет не твое – мое. Сама выкормлю, сама выращу. С кормильцами, няньками, мамками ко мне не подступайся.
– Пылинки с тебя сдувать велю. На перине велю носить… – бормотала боярыня, не слыша.
И случилось тут еще одно Божье чудо – впервые за тридцать пять лет вернулся к ней слезный дар. Думала, что глаза давным-давно разучились плакать, но вдруг заволоклось все дрожащей пленкой и щеки стали мокрыми.
Вот какой это был день, третье августа. Всем дням день.


С утра, рано, побывала на Рюриковом городище у Борисова. Тот пока только знал, что степенной посадник отставился, а более ничего. Обленился московский наместник на покойном житье последних месяцев, многих своих соглядатаев отпустил, а великокняжеские денежки на их содержание прибирал к себе в мошну – извечный низовский обычай. Все они, московские, – будто холопы вороватые, норовят с собственного же воза клок сена уволочь. А потому что не свое дело – государево.
– Фома, мышь трусливая, в щель какую-то забился, даже я сыскать не смогла, – говорила Григориева белому от ужаса Семену Никитичу. Он еще и прихварывал, сидел на своем калечном кресле оплывшей квашней. – К преосвященному Феофилу кинулась – не принял. Чревной хворобой скорбен. Владыка всегда чревом скорбен, когда надо что-нибудь важное решать. Ныне в полдень заседает Совет Господы, а никого из дружных Москве людей не будет, даже преподобного Таисия.
– Да как же так?! – ахнул Борисов. – На Господе должны все вящие люди быть. Слыхано ли, чтоб Клоповского архимандрита не пустили?! Ведь не что-нибудь, а постановление о степенных выборах утверждают!
– Боится Таисий. И другие боятся. Сколько их в Новгороде, твоего господина радетелей? Из сорока мужей Совета человека четыре? И пришли бы – рта бы не раскрыли. Кому охота на «поток» попасть? А что до Таисия, ему, говорят, на ворота собаку повесили, к башке привязана мочалка – точь-в-точь как борода у преподобного. Вот он и почел за благо из обители носу не высовывать.
Наместник жалобно ойкнул, Настасья повздыхала. (Ее же люди ту дворняжку и повесили, да и прочим московским подручникам шепнули, чтоб на Господу не совались. Не надо Настасье никого, сама управится.)
– А и я, уж не взыщи, боярин, коли мне дадут слово, про Москву хорошего говорить не стану. Себе дороже выйдет. Притворюсь, будто и я, как все, стою за вольность новгородскую, против вас, низовских. Иначе Марфа на меня весь город натравит.
Вот ради этих слов она к Борисову и заехала. На случай, если у Наместника в Совете все же найдутся тайные доводчики и перескажут ее речи. Теперь, что она там ни объяви, сойдет за уловку.
– Понимаю я, понимаю, – лепетал Семен Никитич, щупая перья бороды. – Эк оно обернулось-то, беда! А хуже всего, что не ко времени. Государь затеял великое дело, от Орды освободиться, присягу Ахмат-хану с себя сложить. Русь сего великого дня двести с лишним лет ждала, еще со времен Александра Ярославича Невского… И с Казанью неладно… Ивану Васильевичу теперь не до Новгорода… Ох, разгневается! И на кого? На меня! Что я, немощный, могу? – причитал Борисов. – А все равно отвечай: не доглядел, упустил!
Так обмяк духом, что даже мешочек с обычным монетным подношением от себя оттолкнул.
– Впору мне тебя дарить, Юрьевна. На тебя одна моя надежда. Ступай с Богом, молиться буду.
И в выцветших глазах заблестели стариковские слезы.
– Ох, не знаю, что и делать, – горестно молвила Каменная, поднимаясь.
Соврала, конечно. Знала.
* * *
Господа собиралась на Владычьем подворье, в парадном зале Грановитой палаты, предназначенном для сбора большого совета, в который входило триста вящих новгородцев. Сегодня присутствовали не просто вящие, а «великие», истинные хозяева Господина Великого Новгорода: отставные посадники и тысяцкие, главы всех пяти концов, настоятели семи соборов и архимандриты главных монастырей, старшины купеческих сотен. За вычетом мужей, известных москволюбием, да без владыки, да без степенного набралось едва за тридцать человек, и в огромной палате было пустовато. Голоса гулко раскатывались под расписными сводчатыми потолками, сплошь в звездчатых накладных швах – потому палата и называлась Грановитой.
Сбоку от владычьего трона и посадничьего кресла, пустых, сидели на стульцах высшие по должности служивый князь Гребенка и степенной тысяцкий Фролко Ашанин, но ни тот, ни другой по установлению вести выборный совет не могли: тысяцкий ведал только торговыми тяжбами, князь – только военными заботами.
За последние годы сложилось так, что на важных заседаниях участники рассаживались не где придется, а со смыслом. Кто собирался поддерживать Настасью Григориеву – справа (Настасья всегда садилась на восточную скамью); сторонники Марфы Борецкой – слева, на заходе, остальные же, пока не определившиеся – с юга, перед Ефимией Горшениной.
Все три великие женки пришли загодя, тихонько расположились на зрительских местах, возле каждой – своя свита. С Железной ее звероподобное идолище Корелша, бойцовский начальник, да послушные псы вечный дьяк с вечным подвойским; с Шелковой муж; Каменная взяла сереброликого Изосима и Захара, который на Господе оказался впервые.
Перед началом совета распределилось так: тринадцать великих перед Марфой, семеро перед Настасьей, прочие перед Ефимией.
В полдень ударили колокольца на часозвоне, и заседание началось.
Встал и заговорил тысяцкий Фролко. Все шушукались, не слушали, потому что объявлял он уже известное: что Фома Андреевич по жестокой и внезапной хвори более посадничать не может, что надобно выбирать нового степенного, что медлить нельзя и Господа должна назначить день выборов, которые ныне будут не зазорные, как в прошлый раз, но по всему старинному обычаю. В этом месте многие переглянулись: если уж Фролко, известный осторожностью, позволяет себе осуждать действия московского государя, быть грозе.
Один из бояр, устроившихся в середине, поднялся с места, словно в глубокой думе, прошелся по залу – пересел на западную сторону, к Марфиным.
– Кто хочет говорить первым, господа новгородцы? – спросил в завершение тысяцкий, но посмотрел при этом не на мужей, а на великих жен, поочередно. Заоборачивались и остальные. Женщинам на Господе говорить, да и присутствовать не полагалось, но об этом, кажется, никто не помнил.
– Я скажу, – громко объявила Борецкая, вставая.
Сегодня она не стала тратить время на обычные, предписанные обычаем сетования по поводу слабости женского ума и своего вдовства, а сразу взяла быка за рога.
– Дозвольте, господа лучшие новгородцы, я всех вас спрошу прямо: есть средь нас такие, кто не хочет постоять за древнюю новгородскую вольность?
Оглядела залу горящими глазами, задержав взор на каждом – только Настасью не удостоила.
– Нету! Нету здесь таких! Кто есть, те не пришли! – дружно ответила палата.
– А есть такие, кто хочет и дальше жить, на Москву оглядываясь? – еще громче вопросила Железная и теперь уж вперила свой бешеный взгляд прямо в Григориеву.
Та качнула головой, удивляясь тому, как круто забирает Марфа, но все подумали, что и Каменная на Москву оглядываться не хочет. Зашумели пуще прежнего:
– Нету! Нету!
Только старый князь Гребенка, человек хоть и пришлый, но давно живущий в Новгороде и всеми уважаемый за редкое сочетание храбрости с рассудительностью, пророкотал:
– Новгород под Москвой не от хотения сидит, боярыня, а от своей слабости. Будто ты не знаешь?
Он очень редко говорил на Господе (ему и не полагалось), тем весомее прозвучали спокойные, рассудительные слова – словно кто-то плеснул водой в распаляющийся костер. Гребенка мог такое сказать, он не раз проливал свою кровь за Новгород, его никто не заподозрил бы в малодушии.
Уважительно ответила ему и Марфа:
– Знаю, княже. А скажи мне, Василий Васильевич, чем Москва нас сильнее?
Он задумался, покряхтел – мыслить вслух старому вояке было непривычно.
– Большим войском, привычным к бою… Единой волей… Низовским холопством: как Иван велит, так все и сделают, никто не заперечит. А у нас тут как пойдет говорильня…
Гребенка махнул рукой.
Многие закивали, соглашаясь.
– Теперь скажи: в чем наша новгородская слабость? – не отставала от князя Борецкая.
Это воеводе было уж совсем трудно, он поскреб затылок под красной шапкой, потом развел руками.
– Так я сама скажу. – Железная больше на него не смотрела, обращалась ко всем. – Мы слабы там, где Москва сильна. У нас нет хорошего войска, одним нам в поле против Ивана не выстоять. Пробовали уже – я старшего сына лишилась, многие из вас тоже родню потеряли. Это первое. А второе – да, нету у нас единства, вечно между собою ругаемся, грыземся. Еще и третья причина есть: Псков. Вроде бы такое же вольное товарищество, как мы, и тоже от Москвы терпит притеснение, но живем мы с псковитянами, словно кошка с собакой. Они в последней войне ударили нам в спину. А и мы перед ними не без греха – тоже, случалось, помогали низовским против Пскова.
Все слушали, не возражая. Марфа говорила истину.
– …Но сейчас, господа лучшие новгородцы, настало золотое время, когда московская сила скована. Казанский царь Ибрагим грозит Ивану войной. Ордынский царь Ахмат свирепеет, что Москва ему не платит дани. Тоже и он в поход собирается. Всю свою рать великий князь должен держать на востоке и на юге. А у него еще и дома неустройство. Родные братья Андрей Углицкий и Борис Волоцкий на Ивана в обиде, что он ими, удельными князьями, помыкает, словно холопами. На Руси пахнет большим мятежом.

– Москва сейчас несильна, но и мы слабы! – крикнул Самсон Клюкин, староста Славенского конца, оглянувшись за поддержкой на Григориеву – он был свой, ближний. – Если воевать придется, опять закончится Шелонью!
В Настасьином кругу Самсона поддержали, но сама боярыня каменно молчала. О чем думает – не догадаться.
У Борецкой был ответ и на это:
– Войска у нас хорошего немного, зато много денег, а на них можно орденских копейщиков и самострельщиков нанять. У короля Казимира полно голодной шляхты – этим только мошной звякни, тысячами прискачут.
– Не больно-то они пять лет назад прискакали, – не унимался Самсон. – Им надо было через псковскую землю идти, а Псков не пропустил.
– Золотая у тебя голова, Самсон Иванович! – восхитилась Марфа – и, кажется, безо всякой язвительности, а всерьез. – В самый корень смотришь! Ключ всему нашему делу в Пскове. Если он с нами заодно, то и Москва не страшна. Псковские нам и деньгами помогут, и дружиной, а главное – пропустят литовское войско.
– С чего бы Пскову быть с нами, коли мы враждуем? – Это уже заговорила Настасья. – Или ты знаешь, чего мы не знаем? Говори.
Все завертели головами с востока на запад: кажется, завязывался главный бой, сейчас заискрит железо о камень.
Но Борецкая повела себя не по-всегдашнему, в свару не ринулась.
– Знаю, Настасья Юрьевна. И скажу. Иван Московский поставил в Псков наместником глупожадного Стригу Оболенского, который извел псковичей поборами и безобразиями. Еле терпят его. Если сейчас мы псковское вече на общее дело позовем – они забудут прежние обиды. Я знаю, что тут надобно сделать, и о том после скажу. Главное же вот что: когда Новгород, Псков и Литва вместе встанут… – Марфа захлебнулась от чувства. – …Москва будет нам нестрашна. Мы ее к татарам ототрем, пускай с ними живет. Сами же воскресим Русь прежнюю, настоящую, исконную – от Новгорода до Киева!
– Киев-то литовский, – с сомнением произнес настоятель Святой Софии. – Не попасть бы нам из огня да в полымя – от Ивана Московского к Казимиру Литовскому.
– У Казимира три четверти народу – люди русские, православные. С нашими деньгами, да в союзе со Псковом мы скоро всю Литву сделаем Русью, – уверенно сказала Борецкая.
Многим это понравилось – почти всем. А тут еще Марфа получила помощь с нежданной стороны.
Поднялась Ефимия Шелковая, певуче произнесла:
– В Киеве и свой православный митрополит есть. Зачем нам московской митрополии держаться? Она служит не Богу, а великому князю. Права Марфа Исаковна. Хватит нам Низу кланяться.
Вот как оно поворачивалось: две великие женки были вместе. Теперь все смотрели на Григориеву.
– За тобой дело, Настасья Юрьевна, – поклонилась ей Борецкая, что было невиданно: боярыня смиряла гордость ради общего дела. – От тебя зависит, быть нашему единству или не быть. Глядите, братья: Ефимия Ондреевна дружна и с литовским двором, и с Орденом; я знаю, как поладить со Псковом; Настасья же кормит с руки великокняжеских братьев, да еще сносится с Ордою. Если в нужный час натравить Андрея с Борисом на Ивана, а Ибрагиму с Ахматом послать денег, чтоб тоже выступили – завертится московский медведь во все стороны. А тут к нам литовская рать подойдет, соберутся наемники. И победим! Порадей за Новгород, Настасья. Не обойтись нам без тебя. Кланяйтесь ей, братья!
И первая поклонилась – в пояс.
Григориева скрипнула зубами. Эк Марфа повернула! Будто она от всей Господы говорит, за общее дело ратует, а Каменная коряжится.
– Ты, может, про торговый убыток думаешь? – изобразила заботу Борецкая, подколодная змея. – Боишься без хлебной торговли остаться? Да если мы с Литвой сговоримся, ты хлеб из Киева повезешь, реками. Не бойся, не прогадаешь. Господа тебе на то грамоту даст – что ты одна можешь из Литвы жито возить. Дадите, братья, Настасье Юрьевне привилею?
– Дадим, дадим! – раздалось со всех сторон.
Куда ж вы от меня денетесь, подумала Каменная. У меня и закупщики опытные, и доставщики, и склады.
Замысел-то был неплох: возить хлеб не с Низа, а из литовских украинных земель. У литовцев не то что у Москвы. Заплати продавцу и вези куда хочешь. А у низовских дьяку дай, мытарю дай, волостелю дай. Иначе не доедешь, не довезешь.
Григориева будто лишь теперь заметила, что все на нее смотрят, а многие и кланяются. Очень удивилась.
– А что вы меня, будто несговорчивую невесту уламываете? Когда это я была новгородской вольности противница? Иное дело, что к Марфе Исаковне у меня доверия нет, притворяться не стану. Она мне вечная зла желательница…
– Ты меня больно любишь! – перебила Железная.
– И я тебя не люблю, это правда. Тесно нам с тобой, Марфа. Локтями толкаемся, и оттого всему новгородскому делу вред. Но что ты сейчас говорила про ослабление московской силы – всё истина. Проторена у меня дорожка и к великокняжеским братьям, и к татарам. Могу устроить так, что они разом накинутся на Ивана. Великий князь настырен, да не глуп. На рожон не полезет. Думаю, и воевать не придется – довольно будет хорошее войско собрать. Если Иван почует, что кус не по зубам – отступится.
Ей кивали еще согласнее, чем Борецкой – радовались, что в кои-то веки все великие женки говорят единое.
Софийский настоятель сказал с сомнением:
– По-земному оно всё вроде так, но как с Богом будет? Мы великому князю на договорной грамоте крест целовали, что не передадимся от него королю. Клятву преступить – перед Господом страшно, а перед нашим законом стыдно. Мы ведь христиане, новгородцы, не татары дикие, не Москва. Если станем свое слово нарушать, чем мы лучше?
Многие набожные тут завздыхали: прав преподобный, грех это. Настасья мысленно оскоромилась – пожелала святоше-законнику нехорошего. С шибко совестливыми вечно самая морока.
Вдруг кто-то слегка толкнул боярыню в бок. Она изумленно повернулась: Захар.
Шепчет:
– Устюжская грамота, Калита.
– Что?
Тогда он, поднявшись и на три стороны поклонившись, заговорил:
– Пречестная Господа, дозволь напомнить старину новгородскую. В 6836 году великий князь московский Иван Данилович Калита в Устюге-городе целовал грамоту, что не тронет на Двине новгородских рыбных ловлей, при многих свидетелях крестно клялся, а в 6842 году клятву свою порушил, за что тогда же приговором великого веча со многими хулами был от новгородского княжения отринут. Тем же великим вечем 6842 года постановлено, чтоб впредь с московскими князьями крестных целований не учинять, а коли доведется, то, памятуя о Калитовской неправде, блюсти то целование не превыше разумности. Грамота с сим решением есть в письмохранилище Святой Софии, можно сыскать.
– А ведь верно! – воскликнул бывший посадник Акинфий Зубов. – Была такая грамота, помню! Кто это с тобой, Настасья Юрьевна?
У Захара с прошлого года отросла пристойная борода, и на прежнего голомордого шпыня он теперь был непохож. Держался чинно, говорил без московской суетливости.
– Это мой ученый книжник Захар Попенок, – сказала Каменная. – Держу его рядом, ибо знает все законы-летописи. Послушайте меня, братие… – Она распрямила стан, плечи – и будто сделалась еще выше. – Не в законническом крючкотворстве дело. Как нам договор разорвать, грамотеи придумают. Хочу предложить вот что. Ныне будем выбирать нового степенного. Тут уж, как водится, повоюем. Выборы есть выборы. Но давайте условимся: чья бы ни взяла, сколько бы ни накопилось новых обид, кого бы посадником ни выбрали, после веча старые счеты забыть. Будем держаться вместе и всю свою лютость обратим против Москвы, а не против друг друга. За волю новгородскую. Вот одолеем низовских, тогда снова начнем меж собой рядиться. Я такую клятву дать готова.
Она размашисто, троекратно перекрестилась, и члены совета начали подниматься с мест. Обнажились головы, замелькали двоеперстно сложенные руки.
– А ты, Марфа? Клянешься?
– Клянусь.
Сотворила знамение и Железная.
– Ты, Ефимья?
– Клянусь, – ответила Шелковая, крестообразно обмахнувшись тонкой рукой.
Все были воодушевлены, у некоторых на глазах блестели слезы.
Настасья была довольна: ее речь затмила Марфину. Потом, рассказывая о заседании, все будут говорить, что это Григориева привела собрание к единству.
Начали выступать другие, но нового ничего не говорили, только распаляли друг друга, красовались перед Господой новгородской истовостью.









































