Текст книги "Вдовий плат (сборник)"
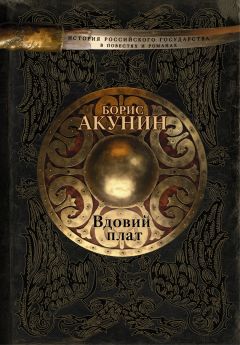
Автор книги: Борис Акунин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Так продолжалось, наверное, с час. Потом опять взяла слово Борецкая.
– Не пора ли перейти от речений к делу, братья? Закон вы все знаете. Ныне в течение десяти дней должно объявить всех выдвиженцев. Хочу, не ожидая срока, прямо сейчас заявить от Неревского конца достойного мужа, лучше которого и не придумать. Дозволите?
Дождавшись, пока все умолкнут, Борецкая спокойно, уверенно продолжила:
– Помните, что мы про Псков говорили? Что для нас сейчас важнее ничего нет? И я сказала, что знаю, как со псковскими задружиться. Если мы выберем посадника, которого в Пскове знают и привечают, дружба сладится сама собой.
– Кого же это? – спросили из залы.
– Аникиту Васильевича Ананьина, вам хорошо известного. Он из вящего посаднического рода, родной сын Василия Ананьина, которого Ирод московский сгноил в темнице за верность новгородской свободе. Аникита Васильевич – муж твердый, честный, речистый, в самом лучшем возрасте. А главное – женат на псковской боярышне. У него в Пскове и родня, и торговые связи. Вот кто нам сейчас нужен, братья. Выберем Ананьина – он со псковитянами сговорится. И тогда всё у нас сложится: и литовская подмога, и крепкий тыл.
Говоря, Марфа смотрела не на своих сторонников (они и так были за нее), не на григориевских (эти слушали хмуро), а на неопределившихся, сидевших перед Ефимией Горшениной.
Настасья с тревогой увидела, что вся середина слушает – соглашается.
– Что, братья? Гож Аникита Ананьин? – спросил тысяцкий.
Большинство ответили: «Гож».
– Запиши его, Назар, – велел тысяцкий. – Один выдвиженец есть. Еще кого предложите, бояре и святые отцы?
Но смотрел при этом на Григориеву. Она молчала.
Получалось, что верх сегодня все же взяла Борецкая. Пришла с готовым выдвиженцем – очень сильным, что уж тут перечить. И теперь, прямо с сегодняшнего дня, Марфины подручники – крикуны с шептальниками – начнут по всем концам уговаривать народ. На выборах кто раньше приступил к улещиванию, кто лучше подготовился, тот и побеждает. Всегда так.
– Ну коли пока больше никого нет, постановим, как предписано обычаем. – Тысяцкий встал, и все тоже поднялись. – Подвойский, прикажи своим бирючам объявить по приходам и улицам, что всяк честной новгородец от сего дня до 14 августа может выдвинуться в концевые избранщики, а великое выборное вече будет, согласно закону, три месяца спустя, 14 ноября… Это что за день?
– Феодоры праведной, греческой царицы, – ответил дьяк Назар, заглянув в святцы.
Женский день, подумала Настасья, глядя на Борецкую, тоже не сводившую с нее торжествующего взгляда.
Поглядим, кто из нас царица.


– Бьюсь, бьюсь с лбяными морщинами, чего только не перепробовала, а всё одно проступают, – пожаловалась Ефимия. Она сидела в кипарисовой купели, наполненной теплым, только что из-под коров парным молоком с примесью разных трав, втирала в кожу какую-то мудреную мазь. – Ты-то хитрее. Укрыла лоб платком, и горя нет.
В мыльне было тепло, влажно, духовито. Настасья сняла и саян, и летник, была в одной рубахе. Плат, конечно, оставила, хоть плотная ткань и пропиталась потом.
– Ковшик с квасом подай, – попросила хозяйка. – И сама испей, хорош.
Они были вдвоем, без служанок. Прямо из Грановитой отправились на подворье Горшениных и уединились, будто бы попариться, а на самом деле – потолковать вдали от чужих ушей, но Ефимия в самом деле затеяла нежиться и говорила про пустое, бабье. Но такая уж она есть, Шелковая. Без Горшениной в задуманном деле было не обойтись, и Настасья сколько могла терпела. В конце концов все же не выдержала:
– Ты слушаешь, что я тебе толкую, иль нет? У Марфы сильный выдвиженец. Неревские его непременно одобрят. Давай посмотрим, что выходит по другим концам.
По закону и обычаю через десять дней каждый из пяти новгородских концов должен был на своем малом вече утвердить из выдвиженцев одного избранщика, которые потом схватятся друг с другом в день великих выборов.
– Давай посмотрим, – кивнула Ефимия, любуясь своей голой рукой – гладкой и белой, словно у юной девки. – Что у тебя на Славне?
– Кого захочу, того и проведу. Невидного какого-нибудь. Может, Захара Попенка. Его в городе мало знают, но славенские мне перечить не станут. Мужичок он смекалистый, послушный. За кого потом велю – за того и поступится.
«Поступаться» в пользу другого избранщика было принято прямо перед великими выборами: из пяти концовских трое отказывались в чью-то пользу, и оставались двое основных. Тут обычно исход и предрешался – еще до подсчета голосов. Три конца всегда больше, чем два. И тем паче четыре, чем один.

– Ну и ради кого твой Попенок поступится? – Шелковая говорила все так же лениво, будто не очень интересуясь разговором. – Наметила уже?
– Наметила. В Федорин день, на выборном вече, он поступится в пользу избранщика от Плотницкого конца.
– Кто же это будет?
– Твой Ондрей Олфимович, – тихо молвила Настасья.
Шелковая уронила в воду моржовый гребень, которым расчесывала волосы.
– Мой Ондрюша? – Ленивости будто не бывало. – Да кто же его выберет?
– А что? Муж у тебя умом гибок, когда надо – краснословен, многим удобен, потому что у него, как и у тебя, нет врагов. Главное же – он как воск в твоих руках. Считай, Новгород будет твой. А уж ты меня, старую свою подругу, я чай, не обидишь.
– Вон ты как удумала… – прошептала Ефимия, качая головой. – Ох, ловка…
Да уж не дура, подумала Григориева. В одиночку ей с Марфой в сей раз было не совладать, это ясно. Ефимия если и помогла бы, то в четверть силы. Зато ради себя Шелковая расстарается. Она всюду вхожа, со всеми дружна. И многим сильным людям города такой промежный исход – и не Марфе, и не Настасье – очень понравится.
– Стало быть, давай глядеть. – Настасья начала загибать пальцы – удобно, по одному на каждый конец. – Неревский – Марфин, Славенский – мой. В Плотницком двинем твоего Ондрея. Там половина улиц меня не любят, но с твоей помощью переможем, будет наш. В Загородском, конечно, посражаемся, но скорей всего не сдюжим, там у Марфы поддержки больше. Остается Людин конец, который будто хвост собачий – то туда вильнет, то сюда. Эх, кабы знать, кого Марфа в людинские избранщики прочит, тогда было б ясно, с какой рогатиной на этого медведя идти…
– Я знаю, – сказала Шелковая, полируя щеточкой ноготь.
– Кого?
Ефимия безмятежно ответила:
– Михайлу, племянника моего.
И тут стало ясно, что Борецкая с нею загодя, еще до Господы столковалась – подкупила честью для родича. Михайла Горшенин совсем молод, в степенные, конечно, не пройдет, но в такие годы выдвинуться в концевые избранщики – уже великая удача. Особенно если на великих выборах поступился в пользу будущего посадника…
– А не сказала, подруженька, – укорила Григориева, не удержавшись.
Ефимия удивленно приподняла щипаную бровь:
– Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Теперь я вижу, что с тобою лучше, чем с Марфой. Значит, мы отныне вместе, ты да я.
– Хорошо, – не стала дальше пенять ей Каменная. – Стало быть, перед великим вечем Захар Попенок и Михайла призовут своих кончанских стоять за твоего Ондрея, и получится, что у нас три конца против Марфиных двух.
– Твоими бы устами. – Ефимия сожалеюще поцокала. – Как только Марфа прознает, что мы с тобой двигаем Ондрея, сразу вместо Михайлы в Людин конец назначит другого.
– Поэтому мы про Ондрея объявим только в самый последний день и в самый последний час. Не успеет Марфа другого подобрать.
Помолчали. Каждая думала о своем.
Горшенина с сомнением молвила:
– Даже если перед великим вечем за нас будут три конца, что мой Ондрюша против Аникиты Ананьина? Будто кочет против ястреба. Сильный у Марфы избранщик. А мой муженек, сама знаешь, только с виду красен…
Теперь, пожалуй, можно было союзницу посвятить и дальше в замысел. Настасья, усмехнувшись, сказала:
– Не робей. Ястреб к тому времени будет сильно пощипанный. Мы против него в Неревском конце «погремца» запустим.
Когда в упряжке из двух лошадей одна попадется злая – грызет, лягает соседку, сбоку на оглобле вешают трещотку, называется «погремец». На бегу он гремит, и норовистая лошадь пугается, голову отворачивает. Не до грызни ей, да и бежит спорее.
В премудрости же новгородских выборов «погремцом» называли выдвиженца, запускаемого в чужой конец. Не для того, чтоб победил, а чтоб расколол вражеский лагерь, замутил воду, науськал одну улицу на другую, замотал-захулил соперника. Часто бывало, что брань и ругань между своими после этого не стихали до великих выборов, когда про «погремца» все давно уже позабыли, и тогда кончане голосовали не заедино, а врозь, многие предпочитали чужого избранщика своему. Игра в «погремца» – дело тонкое, хитрое. Большого искусства требует.
– Где ж ты такого трескучего «погремца» возьмешь, чтобы потрепал Аникиту Ананьина в Неревском конце, насплошь Марфином?
– Есть один на примете, – уклончиво молвила Каменная. – Мой Изосим всюду сует свой серебряный нос, принюхивается, приглядывается. Присмотрел кое-кого. Как раз для такого дела.
– Кого? – с любопытством спросила Ефимия.
– Завтра скажу. Если сладится.
– Ладно. Облей меня из кувшина, молоко смыть. Да разбавь кипяток, обожжешь! Служанка из тебя, Настасьюшка, как из коровы скакун.
Встала в купели – ладная, крепкая, белокожая, будто разрезанная редька.
– Чародействуешь ты что ли? – поразилась Григориева, поливая из серебряного кувшина. – И время тебя не берет.
– Я бы почародействовала, если б научил кто. Нет, старею я. – Ефимия потрогала грудь. – Перси, вишь, книзу тянутся.
– У меня таких и в двадцать лет не было. Как Юрашу выкормила, повисли козьим выменем.
– А не надо было самой. Мы чай не козы, а боярыни.
– Незачем мне было беречься, – дернула углом рта Настасья. – И не для кого.
Вытирая волосы полотенцем, Горшенина пытливо посмотрела ей в глаза.
– Я тебя, Настасья, почти тридцать лет знаю. Всякой видала. Но такой, как нынче, – никогда. Лицо у тебя какое-то… Будто двухслойное. Верхний слой мне знаком: зыркаешь волчицей, которая унюхала овечье стадо. Перед большой сшибкой у тебя всегда такие глаза. Но есть еще что-то, глубже. На тебя непохожее. Огоньки какие-то. Словно радуешься чему-то, но не так, как всегда, а без злобы.
– Я что – если радуюсь, то всегда со злобой? – удивилась Каменная.
– Да. И только, когда победишь кого-нибудь. А тут что-то другое. Ну-ка, говори, что у тебя за радость?
Настасья такой проницательности не очень удивилась. Ефимия только прикидывается пустомелей, а глаз у нее въедливый.
– Внучка у меня будет. Или внук. Понесла Олена от Юраши. Три месяца уже.
Шелковая взвизгнула, кинулась подруге на шею, обдав запахом молока и ароматных трав.
На голубых ясных глазах выступили слезы – они у Ефимии всегда были близко.
– Вот оно, что в жизни-то главное! Прочее – пыль на ветру! Ах, рада я за тебя! Как рада!
– Да. – Настасья плакать не умела, да и улыбаться не очень, поэтому лицо у нее будто заколыхалось. – Есть для кого постараться. И жить мне теперь надо долго. Лет двадцать еще, а хорошо бы и двадцать пять.
– Поживем, – уверенно сказала Горшенина. – Мы, новгородки, до жизни цепкие.


В воскресный августовский заполдень, когда небо сочится тягучим медовым зноем, горячий воздух неподвижен, а пыль искриста, Новгород словно засыпает. В Божий день торгуют только утром, потом – грех. Все уже отстояли обедню, потрапезничали и до предвечерней прохлады разлеглись по лавкам.
В окрестностях великого города и вовсе сонное царство. Дороги опустели, заполья – пригородные посады – затихают. В эту жаркую пору не жужжат даже пчелы, не щебечут птицы, лишь гулко стрекочут бессчетные цикады.
Вода в полувысохшей речушке почти не журчала. Захару показалось, что и колесо старой мельницы перестало крутиться, потому что решило вздремнуть, хоть он знал, что мельня давно заброшена.
Сидели в кустах, укрытые от солнца плотной тенью, но Захара бросало в пот. Он не любил непонятного, тревожился, а тут было непонятно всё: чего ради явились в это глухое место, почему беззвучно крались, зачем засели в кустах и отчего нельзя слово молвить? Чуднее всего, что сама госпожа Настасья здесь. Тоже молчит, не шелохнется. А спросить – у боярыни боязно, у серебряной морды – того страшней.
Изосим ладно, он человек змеиный, потаенный, но как понять Юрьевну? Великая жена, первейшая особа на весь Новгород, а сидит в пустой роще, на кортках, словно простая баба-селянка, и давно, целый час уже. Чего ждем-то?
Сказала только: «Пойдем со мной, Захар Климентьевич. Понадобишься».
Он ей с готовностью: «Куда, госпожа? Что велишь делать?»
Она в ответ коротко: «Куда – увидишь. А делать тебе ничего не надо, просто гляди в оба».
Значит, теперь он будет «Климентьевич», поди ж ты. Едва привык зваться фамилией – Попенок, по родителю-покойнику, а тут еще к отчеству привыкай. Давно ли был Захаркой, стольничьим отроком, у всех на побегушках, а ныне избранщик от Славенского конца в степенные посадники! Господи, не сон ли?
Ну и жизнь – будто шальной конь, который понес вскачь, не разбирая дороги. И не остановишь, и не соскочишь – знай, крепко держись за гриву, из седла не сверзнись.
Главное, как это боярыне можно в такое лихое время быть сам-третьей, в безлюдном месте? А если марфинские прознают? Сейчас, когда началась выборная схватка и сцепились большущие волчицы, всякое возможно. Исчезни безвестно Настасья Григориева – и драке конец. А кто при ней был, про тех и не вспомнят. Сейчас, даже перемещаясь по городу, хозяйка оберегала себя оружными людьми – и вдруг отправилась зачем-то в темную запусть. Ох, нехорошо…
Один только раз шепотом боярыня спросила Изосима:
– А этот-то где? Явился?
– Куда ж он денется? – засвистел страшный человек из-под маски. – Еще ночью доносец кинули, открыли дураку глаза. Засел, ждет. Ты глянь хорошенько. Сарайчик, окошко.
Ничего Захар не понял: кто «он», что за доносец, но на ветхий сарай, сбоку от мельницы, внимательно посмотрел. И вскоре показалось, будто там, в темном малом оконце, что-то шевельнулось.
Эге, да они тут не одни! Кто-то близ мельни тоже затаился, дожидается. Не от него ли прячемся?
– Идет! – прошелестел Изосим, глядя назад, в широкое поле, в дальнем конце которого темнела городская стена.
Оттуда, от Воскресенских ворот, шла баба – по походке судить, молодая.
Захар стал смотреть на нее.
Вот она приблизилась, просеменила почти мимо кустов. Несмотря на жару, замотана в платок, лица почти не видно. На плечи накинут ветхий суконный опашень до пят. Но из-под него мелькали сапожки – синь сафьян, с серебряными оковками. Значит, из богатеньких.
Остановилась, поглядела вокруг. Подошла к мельне, достала ключ. Исчезла за дверью, которая – вот странно – не скрипнула, будто была хорошо смазана.
– Ну то-то, – сказал Изосим уже не шепотом, а вполголоса. – Значит, сложится. Я, честно скажу, за женку слегка… тре’ожился. – Последнее слово он произнес после запинки, проглотив одну букву. – А коли она здесь, то и старый кот скоро нагрянет.
– Ты что в голос-то? – шикнула на него боярыня. – Этот услышит!
– Не услышит. У людей, Настасья Юрьина, устроено так: если кто на что-то жадно глядит – ничё иное не зрит и не слышит. Он нынче только туда глядит. – Изосим показал на мельню. – Жди. Недолго уже.
Григориева тоже заговорила громче:
– Стало быть, ты велел записки подбросить всем троим: и Булавину, и жене его, и Филиппу, снохачу поганому?
Изосим кивнул.
– Гнездышко у них тут, Настасья Юрьина. Снаружи разор, а нанутри – рай.
Теперь Захар начинал кое-что понимать, но пока еще не всё.
Стало быть, жена какого-то Булавина здесь, на заброшенной мельне, тайно встречается с полюбовником, с неким «старым котом» Филиппом. Погоди-ка, уж не о Ярославе ли Булавине, неревском боярине, герое прошлой московской войны речь? Его отец Филипп Яковлевич – известный на весь город похабник. Боярыня его «поганым снохачом» обозвала – это он, значит, с собственной невесткой, при живом сыне, беса тешит?
Мысль, разогнавшись, быстро вычислила остальное.
Изосим подбросил всем троим записки. Жене, наверное, от любовника: приходи на мельню; старику – то ж самое, только от бабы; а еще обманутому мужу, который сейчас затаился в сарайчике.
Оно, конечно, затейно, но что мы-то тут делаем? Почему сама Настасья Каменная в кустах засела?
На это Захар ответа не придумал, и ему стало еще беспокойней. Не вышло бы кровавого лиха…
С поля донесся топот.
В рощу влетел всадник на хорошем коне. Грузно, но спешно прыгнул из седла.
Так и есть, Филипп Булавин. И правда похож на старого котищу: полуседая борода, словно шерсть на морде, круглые горящие глаза.
Наскоро привязал вороного, крикнул:
– Отворяй, душенька! Истомился я!
Захар покачал головой, дивясь бесстыдству. Это ж надо, с родным сыном так!
Дверь отворилась, словно сама собой – опять беззвучно, и боярин, протянув руки для объятья, шагнул внутрь.
– Беда будет, госпожа Настасья, – беспокойно сказал Захар. – Если в сарае Ярослав Булавин, он обоих убьет, он бешеный.
В прошлую войну Ярослав Филиппович, военачальствуя над небольшим конным отрядом, изрядно потрепал псковитян. Про него говорили, что в сече он впадает в неистовство, лезет в самую гущу, рубит не разбирая – бывает, что и своих, если кто подсунется.
– Того нам и надобно, Захар Климентьевич, – спокойно ответила Каменная. – Пускай убьет отца и жену, а двое свидетелей, ты с Изосимом, то увидят.
– З-зачем? – у Попенка задрожал голос.
– Чтоб Булавин у меня вот здесь был. – Боярыня подняла сжатый кулак – он был больше, чем у Захара.
Захар стиснул зубы, чтобы не клацали. Быстро заморгал, соображая.
В мельне распахнулось окно, оттуда донесся женский смех.
В следующее мгновение дощатая дверь сарая чуть не слетела с петель от бешеного удара. Наружу выскочил чернобородый статный молодец с перекошенным от ярости лицом. В руке он сжимал шестопер.
Захара кинуло из жаркого пота в ледяной. Сейчас свершится смертоубийство! Он покосился на Изосима – тот мигнул красивым глазом над маской:
– Рано трястись, Захар. Страшное еще не началось. На нас кинется – тогда и дрожи.
Господи, поледенел Попенок, а ведь правда! Не стал бы этот бешеный свидетелей убивать! Что ему терять-то?
Булавин вломился в мельню, пробив дверь ногой. Изнутри раздались крики: густой, свирепый; стариковский сердитый; женский визгливый.
Что-то загрохотало, обрушилось.
А потом сделалось тихо. Как на кладбище.
– Кажись, готово, – молвила Каменная, немного выждав. – Пойду-ка я с вами, детки. Какой бы он ни был осатаневший, на меня, чай, не кинется.
Раздвинула кусты и пошла вперед, постукивая посохом, – величественная и неторопливая, будто направлялась в церковь или на Господу, а не к месту убийства.
Попенка страх отпустил. При Настасье Юрьевне ничего неподобного случиться не могло.
В мельню он вбежал первым, опередив Изосима.
– Что за крики? – кричал. – Не стряслось ли худа?
Булавин стоял на коленях, зажав виски руками, и мерно раскачивался. Слева, ничком, окунув лицо в багровый подтек, лежал давешний старик. Баба сидела у стены, свесив голову набок. Мертвые глаза пялились в пространство, а крови не было. Шею он ей сломал, что ли?
– Тут злое дело, госпожа Настасья Юрьевна! – завопил Попенок, нарочно произнеся имя-отчество – боярыня еще не дошла до двери.
Убийца поднял мутные глаза, непонимающе уставился на Захара, сморгнул, увидев серебряную маску Изосима, но остановил взгляд на Григориевой.
– Настасья Юрьевна, ты?
Спрятал лицо в ладонях, замотал башкой – верно, подумал, не снится ли ему всё это: кровь, трупы, невесть откуда взявшаяся великая боярыня.
– Ярослав Филиппович? Что это тут? Еду со своими людьми по дороге, слышу крики, – медленно произнесла Каменная. – Постой, это никак жена твоя, Наталья? А седой кто?
Булавин встал, оказавшись выше Захара почти на голову, но вся ярость из боярина вышла. Он был словно пьяный или больной – шатался.
– Вот… Мой срам, мое горе… Два Иуды. Отец родной и жена-бесчестница. Обоих своей рукой порешил за прелюбное дело… Вяжите меня, православные. Ни о чем не жалею. И отпираться не стану!
– Ох, беда какая! – закручинилась Григориева. – Прелюбодейство – грех тяжкий, поделом им обоим, но что с тобой, бедным, будет?
От участливого слова детина всхлипнул, начал утирать слезы.
– Пускай… Моя жизнь кончена…
– За отцеубийство знаешь, что бывает? – так же сожалеюще продолжила боярыня.
– Пускай! – снова повторил Булавин.
– Тебе-то, может, и пускай, а про сынка ты подумал? Легко ли ему будет расти, зная, что мать у него была – лахудра, а батюшка – отцеубийца?
Богатырь заревел пуще прежнего, а Настасья подошла к нему, приобняла, погладила по волосам.
– Я бы на твоем месте, хоть я и баба, то же самое бы сделала. Не за прелюбодейство даже, а за лютое вероломство. Это ж какой надо змеей быть, чтобы мужу со свекром изменять? Это ж каким надо быть сатаной, чтоб родного сына так срамить? Нет, Ярославушко, не отдам я тебя на казнь. Не дозволю такому молодцу жестокой смертью, в позоре сгинуть!
Булавин икнул, уставился на нее – даже слезы высохли.

– А… а как же?
– Таких людей, как ты, на свете мало, – сказала ему Григориева, положив подбородок на рукоять посоха и глядя боярину прямо в мокрые глаза. – На вас земля держится. Законы не для вас писаны. В ком великая сила живет, тот может стать либо великим злодеем, либо великим свершителем. Тут всё от судьбы зависит. Куда она развернет.
– Я ныне злодей, хуже и не бывает, – опустил голову убийца.
– Судьба тебя ко мне развернула. И быть тебе, Ярослав Филиппович, не на плахе, а в Грановитой палате, на первом месте. Бог хочет, чтобы ты Новгороду вольность вернул, всех наших врагов одолел. Я день и ночь думаю, где бы сыскать богатыря в степенные посадники – и вот оно, озарение! Это меня Всевышний сей дорогой послал. Мне – тебя, тебе – меня!
Каменная широко перекрестилась, подняв очи к потолку, и Захар подивился – до того проникновенно она говорила.
– Меня… в степенные? – пролепетал Булавин. – Меня? А как же…
И повел рукой на кровь, на мертвые тела.
– Всё то Изосим устроит. Оставляю его с тобой, он научит. После, ночью, ко мне на двор приходи. Говорить будем. Про великое.
* * *
До места, где остались слуги с лошадьми, идти нужно было через всю немалую рощу, и Захар, конечно, редкой возможностью воспользовался – когда еще окажешься с боярыней наедине.
– Таких, как Булавин, на свете, может, и мало, но ты, госпожа Настасья, одна-единственная, и другой нету, – сказал он. – Этакого медведя заставила под свою дудку плясать! И как быстро! А всего удивительней, что даже запугивать не стала!
Восхищение было совершенно искреннее, Григориева должна была это почувствовать. Всякому человеку, даже великой женке, приятно, когда тобой от души восторгаются.
Оказалось, что слова кстати – Каменной, видно, и самой хотелось поговорить о случившемся.
– У тебя, Захар Климентьевич, ум быстрый. Запомни главный закон, как с людьми обращаться. Какой бы ловкий замысел ты заранее ни удумал, никогда за него намертво не держись. Главное – умей почувствовать человека. Шей наряд по нему, а не пытайся запихнуть в уже сшитое платье. Когда я на Ярослава посмотрела, сразу увидела, что страха в нем вовсе нет. Такого не запугаешь. Я эту породу знаю. Подобный человек – как большой корабль без кормщика: плывет, куда ветер дует, бесстрашно. Если налетит буря – теряет паруса-мачты, норовит разбиться о скалы. Зато с хорошим кормщиком плывет уверенно и гордо. Вернее, с хорошей кормщицей, потому что Булавин никогда другого мужчину выше себя не признает, а женщину – может. Он будет мне верен не от страха, а потому что ему кормщица нужна, он это всем своим нутром чует.
Попенок слушал, затаив дыхание, хоть и понимал, что боярыня не столько с ним, сколько сама с собой говорит. Заглянуть под ее черный плат, прямо в многоумную голову, и подсмотреть, какая там каша варится, – это была удача из удач.
Но дальше Каменная думала молча, и Попенок лезть к ней с разговорами не посмел.
Уже на опушке, подсаживаемая слугами в седло, она сказала:
– Сейчас поедем на Чудинцеву улицу. Там скоро интересно будет.
* * *
На Чудинцевой улице, пограничной между Неревским и Загородским концами, жил Настасьин крестник – настоятель церкви Святого Николы. Она ему когда-то и приход добыла, и каменный храм отстроила, и дом при храме.
Поп высокой гостьи не ждал, весь искланялся, не зная, куда и посадить. Хотел в красный угол, под образа, но боярыня, сославшись на жару, попросилась к открытому оконцу.
– Давненько у тебя не бывала, Иона. Сам знаешь, места тут Марфины. Не любят меня здешние.
– Да и мне нелегко, матушка, – пожаловался священник. – Я зазорное про тебя прихожанам говорить не дозволяю, и Борецкие прихлебатели мне за то жизнь портят. Вот третьего дня…
Он завел долгий рассказ о том, как церковный староста, не иначе как по наказу Железной, затеял пересчитывать свечные деньги и всяко неправедничал, тщась обнаружить недостачу, и придумал, что не хватает-де трех с половиною копеек, а это он, паскуда, воск по майским ценам считал, хотя свечи закуплены еще в марте, по четверть пулы за дюжину…
Захар, сидевший на скамье сбоку, слушал нескончаемую историю, поражаясь терпению Григориевой. И, конечно, тоже поглядывал в окно, пытаясь угадать, что же там может случиться интересного.
Улица как улица. Ходит праздный воскресный люд, отоспавшись после обеда, у церковной паперти ругаются нищие, бабы в цветных платках встали кружком, о чем-то судачат.
Чудинцева улица была пробойная, то есть вела к воротам – Воскресенским, тем самым, за которыми травяное поле, и роща с ручьем, и в роще старая мельня.
Может, час просидели у попа, слушая чепуху. Потом снаружи стало шумно.
– Погоди-ка, Иона, – молвила Григориева, поворачиваясь. – Что за крик?
Люди бежали со всех сторон, взволнованно переговариваясь. «Убили!» «Булавиных убили!» – разобрал Попенок, и сердце у него заколотилось.
От ворот медленно ехала телега, со всех сторон окруженная толпой. Сверху, из окна, поверх голов, было хорошо видно, что́ там, в телеге.
Три неподвижных тела. Нет, неподвижных два. Третье, окровавленное, шевелилось.
Лошадь остановилась прямо перед поповским домом. Несколько зычноголосых мужиков стали кричать, что ехали леском, мимо сломанной мельницы, и увидели на дороге злодейское злодейство: кто-то незадолго перед тем напал на семью бояр Булавиных. Отца Филиппа Яковлевича и боярыню Наталью убили, а Ярослав Филиппович лежал с разрубленной головой, еле живой.
Захар признал одного из рассказчиков – не сразу. Это был свой, григориевский, Зайчата, начальник над «крикунами», только с перекрашенной в рыжину бородой и с повязкой на глазу.
Вон оно, значит, как удумано…
Люди слушали, ахали, ужасались, гадали, кто бы это мог на Булавиных напасть.
Подняли под руки охающего Ярослава. Голова у него была по самые глаза обмотана кровавой тряпкой.
– Не спрашивайте, православные… Налетели какие-то из кустов… Крик услышал: «Получи за старое, вша новгородская!» И ударили чем-то. Боле ничего не видел, не слышал…
– Земля вокруг вся истоптана! – заголосили наперебой Зайчатины люди. – Следы от косых каблуков, какие в Пскове делают! Боярин в ту войну много псковских порубил! Видно, отомстили! А вот, глядите, топор кровавый со сломанным топорищем подобрали! Псковская работа, у нас таких не делают!
Топор – с узким, неновгородским лезвием – пошел по рукам.
– Точно! Псковской топор! – загалдела толпа.
Захар поднялся со скамьи.
– Пойду-ка я, госпожа Настасья, вблизи послушаю…
Стало ему интересно поглядеть, какой из Ярослава Булавина лицедей.
Оказалось, неплохой.
Боярин стоял на телеге, отовсюду видный, да еще поворачивался, чтобы получше себя показать. Размазывал по лицу слезы, говорил несвязно, но чувствительно:
– Ладно меня-то… Но отца старого! Жену неповинную! Ах, сыночек мой, сиротинушка…
Бабы начали жалостливо подвывать.
А в толпе уже сновали григориевские «шептуны». От «крикунов» они отличны тем, что берут не зычностью, а задушевностью.
– Ай, беда! Ай, лихо! Не забыли нам ничего псковские, не простили! Ух, злыдни, и через пять лет достали боярина!
– Аникиту Ананьина в посадники хотите, неревские? Он псковским друг, у него и жена псковская!
– Ярослава Булавина – вот бы кого в посадники! Он за Новгород горой стоит, вон и псковские его боятся!
А некто, ряженый чернецом, убедительно толковал окружным людям, что боярина от неминуемой смерти Господь спас, оттого у псковитянина дрогнула рука, и злые вороги оставили Ярослава Филипповича за мертвого.
Оглянувшись на оконце, Попенок увидел, что Каменная смотрит на него, манит пальцем.
Взбежал на крыльцо, вернулся в горницу.
– Едем, Захар Климентьевич. Через заднюю калитку на соседнюю улицу, и домой. Дальше всё само пойдет, а у нас дел много. Что, хороший у меня «погремец»?
Попенок еле сдержался, чтоб не хлопнуть себя по лбу. Так вот зачем оно всё понадобилось!
– Думаешь Булавина пустить «погремцом» на Неревском конце? Против Ананьина?
– А что ж? Собой пригож, мужикам славен, бабам лестен. Теперь, после смерти родителя, он сам себе голова, над всеми булавинскими вотчинами хозяин.
Но Захар все не мог опомниться:
– На Неревском конце? У Борецкой под носом? Да Марфины псы его в клочки разорвут! Из-за угла зарежут!
– Не зарежут, – уверенно сказала Каменная. – Он ныне на весь Новгород герой. А герои знаешь чем хороши? Их охранять не нужно. Потому что мертвый герой для врагов еще страшнее живого. Случись что теперь с Ярославом – все на Марфу подумают. – Настасья Юрьевна прищурилась и пробормотала почти беззвучное, но Попенок разобрал: – …Может, и понадобится потом… Поглядим…
Захар мысленно ахнул, взирая на многомудрую боярыню с почтительным замиранием.










































