Текст книги "Алмазная колесница"
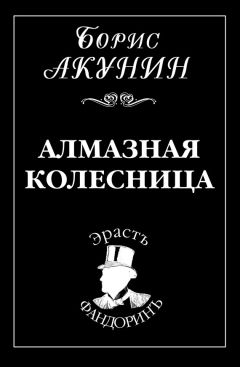
Автор книги: Борис Акунин
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 40 страниц)
Борис Акунин
Алмазная колесница
Том I
ЛОВЕЦ СТРЕКОЗ
КАМИ-НО-КУ
СЛОГ ПЕРВЫЙ,ИМЕЮЩИЙ НЕКОТОРОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОСТОКУ

В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые, тревожные, глухие вести, – в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безымянном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска: «Вышлите немедленно листы следите за больным уплатите расходы».
Штабс-капитан Рыбников тут же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день – на два из Петербурга и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уж никогда туда не возвращался.

Пленение адмирала Рожественского на миноносце «Бедовый»
День у Василия Александровича поначалу складывался самым обычным образом, то есть ужасно хлопотно. Доехав на извозчике до центра города, далее он перемещался исключительно пешком и, несмотря на хромоту (штабс-капитан заметно приволакивал правую ногу), успел посетить невероятное количество мест.
Начал с комендантского управления, где разыскал письмоводителя из учетно-транспортного отдела и с торжественным видом вернул ему занятый третьего дня рубль. Потом наведался на Симеоновскую площадь, в Главное управление казачьих войск, справиться о ходатайстве, поданном еще два месяца назад и увязшем в инстанциях. Оттуда переместился в Военно-железнодорожное ведомство – он давно добивался места архивариуса в тамошнем чертежном отделении. В тот день его маленькую, суетливую фигуру видели и в Управлении генерал-инспектора артиллерии на Захарьевской, и Управлении по ремонтированию на Морской, и даже в Комитете о раненых на Кирочной (Рыбников никак не мог получить справку о контузии в голову под Ляояном).
Повсюду юркий армеец успел примелькаться. Служащие небрежно кивали старому знакомому и поскорей отворачивались, с подчеркнуто озабоченным видом углубляясь в бумаги и деловые беседы. По опыту было известно, что если штабс-капитан привяжется, то вымотает всю душу.

Здание комендантского управления на Садовой улице

Русские офицеры периода Русско-японской войны
Василий Александрович некоторое время крутил стриженой башкой, шмыгал сливообразным носом – выбирал жертву. Выбрав, бесцеремонно садился прямо на стол, начинал раскачивать ногой в потрепанном сапоге, размахивать руками и нести всякий вздор: о скорой победе над японскими макаками, о своих военных вигах, о дороговизне столичной жизни. Послать его к черту было нельзя – все-таки офицер, ранен при Мукдене. Рыбникова поили чаем, угощали папиросами, отвечали на его бестолковые вопросы и поскорее сплавляли в другой отдел, где всё повторялось сызнова.
В третьем часу пополудни штабс-капитан, заглянувший по снабженческому делу в контору Санкт-Петербургского арсенала, вдруг взглянул на свои наручные часы с сияющим, словно зеркальце, стеклом (все тысячу раз слышали историю этого хронометра, якобы подаренного пленным японским маркизом) и ужасно заторопился. Подмигнув желто-коричневым глазом, сказал двум экспедиторам, совершенно замученным его трескотней:
– Славно поболтали. Однако виноват, должен покинуть. Антр-ну, любовное свидание с прекрасной дамой. Томленье страсти и все такое. Как говолят япоськи, куй железный, пока голячий.
Хохотнул, откланялся.
– Ну и фрукт, – вздохнул первый экспедитор, молоденький зауряд-прапорщик. – А вот ведь нашел себе какую-то.
– Врет, интересничает, – успокоил его второй, в том же чине, но гораздо старше годами. – Кто на этакого мальбрука польстится?

Здание Арсенала на Литейном проспекте
Умудренный жизненным опытом экспедитор оказался прав. В квартире на Надеждинской, куда Рыбников долго добирался с Литейного проходными дворами, его ждала не прекрасная дама, а молодой человек в крапчатом пиджаке.
– Ну что же вы так долго? – нервно воскликнул молодой человек, отворив на условленный стук (два раза, потом три, потом после паузы еще два). – Вы Рыбников, да? Я вас сорок минут жду!
– Пришлось немного попетлять. Так, показалось что-то… – ответил Василий Александрович, пройдясь по крохотной квартирке, причем заглянул даже в уборную и за дверь черного хода. – Привезли? Давайте.
– Вот, из Парижа. Мне, знаете ли, было велено не сразу в Петербург, а сначала заехать в Москву, чтобы…
– Знаю, – не дал ему договорить штабс-капитан, беря два конверта – один потолще, второй совсем тонкий.
– Границу пересек очень легко, даже удивительно. На чемодан не взглянули, какой там простукивать. А в Москве встретили странно. Этот Дрозд был довольно нелюбезен, – сообщил крапчатый, которому, видимо, очень хотелось поговорить. – В конце концов, я рискую головой и вправе рассчитывать…
– Прощайте, – вновь оборвал его Василий Александрович, не только рассмотрев, но и прощупав оба конверта пальцами вдоль швов. – Сразу за мной не выходите. Пробудьте здесь не меньше часа – потом можете.
Выйдя из подъезда, штабс-капитан покрутил головой влево-вправо, зажег папироску и своей всегдашней походкой – дерганой, но на удивление резвой – зашагал по улице. Мимо грохотал электрический трамвай. Рыбников вдруг ступил с тротуара на мостовую, перешел на бег и ловко вскочил на подножку.
– Ва-аше благородие, – укоризненно покачал головой кондуктор. – Этак только мальчишки делают. Неровен час сорвались бы… У вас вон ножка хромая.
– Ничего, – бодро ответил Рыбников. – Русский солдат как говорит? Или грудь в крестах, или голова в кустах. А и погибну – не беда. Круглый сирота, плакать некому… Нет, братец, я только так, на минутку, – отмахнулся он от билета и в самом деле через минуту тем же мальчишечьим манером соскочил на проезжую часть.
Увернулся от пролетки, нырнул под радиатор авто, разразившегося истеричным ревом клаксона, и шустро захромал в переулок.
Здесь было совсем пусто – ни экипажей, ни прохожих. Штабс-капитан вскрыл оба конверта. Коротко заглянул в тот, что потолще, увидел учтивое обращение и ровные ряды аккуратно выписанных иероглифов, читать повременил – сунул в карман. Зато второе письмо, написанное стремительной скорописью, всецело завладело вниманием пешехода.
Письмо было такое.
Мой дорогой сын! Я доволен тобой, но пришло время нанести решительный удар – теперь уже не по русскому тылу, и даже не по русской армии, а собственно по России. Наши войска исполнили всё, что могли, но истекли кровью, силы нашей промышленности на исходе. Увы, Время не на нашей стороне. Твоя задача сделать так, чтобы Время перестало быть союзником русских. Нужно, чтобы под царем зашатался трон и ему стало не до войны. Наш друг полковник А. сделал всю предварительную работу. Твоя задача – передать отправленный им груз в Москву, известному тебе адресату. Поторопи его. Больше, чем три-четыре месяца нам не продержаться.
И еще. Очень нужна серьезная диверсия на магистрали. Любой перерыв в снабжении армии Линевича даст отсрочку неминуемой катастрофы. Ты писал, что думал об этом и что у тебя есть идеи. Примени их, время пришло.
Знаю, что требую от тебя почти невозможного. Но ведь тебя учили: «Почти невозможное – возможно».
Матушка просила передать, что молится за тебя.
По прочтении письма на скуластом лице Рыбникова не отразилось никаких чувств. Он чиркнул спичкой, поджег листок и конверт, бросил на землю и растер пепел каблуком. Пошел дальше.
Второе послание было от военного агента в Европе полковника Акаси и почти целиком состояло из цифр и дат. Штабс-капитан пробежал его глазами, перечитывать не стал – память у Василия Александровича была исключительная.

Акаси Мотодзиро
Снова зажег спичку, и пока листок горел, посмотрел на часы, поднеся их чуть не к самому носу.
Здесь Рыбникова ожидал неприятный сюрприз. В зеркальном стеклышке японского хронометра отразился человек в котелке и с тросточкой. Этот господин сидел на корточках, разглядывая что-то на тротуаре – именно в том месте, где штабс-капитан минуту назад спалил письмо от отца.
Письмо – ерунда, оно было сожжено дотла, Василия Александровича больше встревожило другое. Он уже не первый раз подглядывал в свое хитрое стеклышко и прежде никого у себя за спиной не видел. Откуда взялся человек в котелке, вот что было интересно.
Как ни в чем не бывало, Рыбников двинулся дальше, посматривая на часы чаще прежнего. Однако сзади снова никого не было. Черные брови штабс-капитана тревожно изогнулись. Исчезновение любопытного господина озаботило его еще больше, чем появление.
Зевая, Рыбников свернул в подворотню, откуда попал в безлюдный каменный двор. Кинул взгляд на окна (они были мертвые, нежилые) и вдруг, перестав хромать, перебежал к забору, отделявшему двор от соседнего. Изгородь была высоченная, но Василий Александрович проявил сказочную пружинистость – подскочил чуть не на сажень, схватился руками за край и подтянулся. Ему ничего не стоило перемахнуть на ту сторону, но штабс-капитан ограничился тем, что заглянул через край.
Соседний двор оказался жилой – по расчерченному мелом асфальту прыгала на одной ноге тощая девчонка. Другая, поменьше, стояла рядом и смотрела.
Рыбников перелезать не стал. Спрыгнул вниз, отбежал обратно в подворотню, расстегнул ширинку и стал мочиться.
За этим интимным занятием его и застал человек в котелке и с тросточкой, рысцой вбежавший в подворотню.
Остановился, замер как вкопанный.
Василий Александрович засмущался.
– Пардон, приспичило, – сказал он, отряхиваясь и одновременно жестикулируя свободной рукой. – Свинство наше российское, мало общественных латрин. Вот в Японии, говорят, сортиры на каждом шагу. Оттого и не можем побить проклятых мартышек.
Лицо у торопливого господина было настороженное, но видя, что штабс-капитан улыбается, он тоже слегка раздвинул губы под густыми усами.
– Самурай – он ведь как воюет? – продолжал балагурить Рыбников, застегнув штаны и подходя ближе. – Наши солдатушки окоп доверху загадят, а самурай, косоглазая образина, рису натрескается – у него натурально запор. Этак неделю можно до ветру не ходить. Зато уж как с позиции в тыл сменится, дня два с толчка не слезает.
Очень довольный собственным остроумием, штабс-капитан зашелся визгливым смехом и, словно приглашая собеседника разделить свою веселость, легонько ткнул его пальцем в бок.
Усатый не засмеялся, а как-то странно икнул, схватился за левую половину груди и сел на землю.
– Мамочки, – сказал он неожиданно тонким голосом. И еще раз, тихо. – Мамочки…
– Что с вами? – переполошился Рыбников, оглядываясь. – Сердце схватило? Ай-ай, беда! Я сейчас, я врача! Я мигом!
Выбежал в переулок, но там торопиться передумал.
Лицо его сделалось сосредоточенным. Штабс-капитан покачался на каблуках, что-то прикидывая или решая, и повернул обратно в сторону Надеждинской.
СЛОГ ВТОРОЙ,В КОТОРОМ ОБРЫВАЮТСЯ ДВЕ ЗЕМНЫЕ ЮДОЛИ

Евстратий Павлович Мыльников, начальник службы наружного наблюдения Особого отдела Департамента полиции, нарисовал в медальончике серп и молот, по бокам изобразил двух пчелок, сверху фуражку, внизу, на ленточке, латинский девиз: «Усердие и служба». Наклонил лысоватую голову, полюбовался своим творением.
Герб рода Мыльниковых надворный советник составил сам, с глубоким смыслом. Мол, в аристократы не лезу, своего народного происхождения не стыжусь: отец был простым кузнецом (молот), дед – землепашцем (серп), но благодаря усердию (пчелки) и государевой службе (фуражка) вознесся высоко, в соответствии с заслугами.
Права потомственного дворянства Евстратий Павлович получил еще в прошлом году, вкупе с Владимиром третьей степени, но Геральдическая палата всё волокитствовала с утверждением герба, всё придиралась. Серп с молотом и пчелок одобрила, а на фуражку заартачилась – якобы слишком похожа на коронетку, предназначенную лишь для титулованных особ.

Полицейместер, награжденный орденом Св. Владимира 3-й степени (носился на шее)
В последнее время у Мыльникова образовалась привычка: пребывая в задумчивости, рисовать на бумажке милую сердцу эмблему. Поначалу никак не давались пчелы, но со временем Евстратий Павлович так наловчился – любо-дорого посмотреть. Вот и теперь он старательно заштриховывал черные полоски на брюшке тружениц, сам же нет-нет, да и поглядывал на стопку, что лежала слева от его локтя. Документ, погрузивший надворного советника в задумчивость, назывался «Дневник наблюдения по гор. С.-Петербургу за почетным гражданином Андроном Семеновым Комаровским (кличка «Дерганый») за 15 мая 1905 года». Лицо, именующее себя Комаровским (имелись веские основания подозревать, что паспорт фальшивый), было передано по эстафете от Московского Охранного отделения на предмет установления контактов и связей.
И вот на тебе.
Объект принят от филера из московского Летучего отряда на вокзале в 7 час. 25 мин. Сопровождающий (филер Гнатюк) сообщил, что в дороге Дерганый ни с кем не разговаривал, из купе выходил только по естественной надобности.
Приняв объект, проследовали за ним на двух извозчиках до дома Бунтинга на Надеждинской улице. Там Дерганый поднялся на четвертый этаж, в квартиру № 7 и более оттуда не выходил. Квартира № 7 снята неким Цвиллингом, жителем Гельсингфорса, который однако появляется здесь крайне редко (последний раз, по свидетельству дворника, был в начале зимы).
В 12 час. 38 мин. электрическим звонком объект вызвал дворника. Под видом дворника к нему поднялся филер Максименко. Дерганый дал рубль, велел купить булку, колбасы и пару пива. В квартире кроме него, похоже, никого не было.
Принеся заказ, Максименко получил на чай сдачу (17 коп.). Обратил внимание на то, что объект сильно нервничает. Словно бы кого-то или чего-то ждет.
В 3 часа 15 мин. в подъезд вошел офицер, коему дана кличка «Калмык». (Штабс-капитан, с воротником интендантского ведомства, прихрамывает на правую ногу, небольшого роста, скуластый, волосы черные).
Поднялся в квартиру № 7, но через 4 мин. спустился и направился в сторону ул. Бассейной. За ним отряжен филер Максименко.
Дерганый из подъезда не выходил. В 3 часа 31 мин. подошел к окну, стоял, смотрел во двор, после отошел.
Максименко до сего момента не вернулся.
Дежурство по наружному наблюдению ныне (8 час. вечера) сдаю команде старшего филера Зябликова.
Ст. филер Смуров
Вроде бы коротко и ясно.
Коротко-то коротко, да ни хрена не ясно.
Полтора часа назад Евстратию Павловичу, только что получившему вышеприведенное донесение, протелефонировали из полицейского участка на Бассейной. Сообщили, что во дворе дома по Митавскому переулку обнаружен мертвый мужчина с удостоверением на имя филера Летучего отряда Василия Максименко. Десяти минут не прошло – надворный советник уж был на месте происшествия и лично убедился: да, Максименко. Признаков насильственной смерти, равно как следов борьбы или беспорядка в одежде никаких. Опытнейший Карл Степаныч, медицинский эксперт, безо всяких вскрытий сразу сказал: остановка сердца, по всем приметам.

Митавский переулок, где погиб филер Максименко
Ну, Мыльников, конечно, попереживал, даже всплакнул о старом товарище, с которым прослужили бок о бок десять годков, в каких только переделках не бывали. Кстати, и Владимир, благодаря которому возник новый дворянский род, тоже добыт не без участия Василия.
В прошлом году, в мае месяце, от гонконгского консула поступило секретное сообщение, что в направлении Суэцкого канала, а именно в город Аден, следуют четыре японца под видом коммерсантов. Только никакие они не коммерсанты, а морские офицеры: два минера и два водолаза. Собираются установить подводные бомбы по пути следования крейсеров Черноморской эскадры, отправленных на Дальний Восток.
Евстратий Павлович прихватил с собой шестерых лучших агентов, настоящих волкодавов (в том числе и покойника Максименку), махнули в Аден и там, на базаре, изобразив загулявших моряков, устроили поножовщину – порезали япошек к чертовой теще, а багаж ихний потопили в бухте. Крейсера прошли без сучка без задоринки. Их, правда, макаки потом всё одно разгрохали, но это уж, как говорится, не с нас спрос.
Вот какого сотрудника лишился надворный советник. Добро бы в лихом деле, а то остановка сердца.

Летучий отряд сыскной полиции
Распорядившись насчет бренных останков, Мыльников вернулся к себе на Фонтанку, перечел донесение по поводу Дерганого и что-то забеспокоился. Отрядил Леньку Зябликова, очень толкового паренька, на Надеждинскую – проверить квартиру № 7.
И что же? Не подвело чутье старого волкодава.
Десять минут назад Зябликов протелефонировал. Так, мол, и так, обрядился водопроводчиком, стал звонить-стучать в седьмую – никакого ответа. Тогда вскрыл дверь отмычкой.
Дерганый висит в петле, у окна, на занавесочном карнизе. По всем признакам самоубийство: синяки-ссадины отсутствуют, на столе бумажка и карандаш – будто человек собирался написать прощальную записку, да передумал.
Послушал Евстратий Павлович взволнованную скороговорку агента, велел дожидаться экспертной группы, а сам уселся к столу и давай герб рисовать – для прояснения ума, а еще более для успокоения нервов.
Нервы у надворного советника в последнее время были ни к черту. В медицинском заключении обозначено: «Общая неврастения как результат переутомления; расширение сердечной сумки; опухлость легких и частичное поражение спинного мозга, могущее угрожать параличом». Параличом! За всё в жизни платить приходится, и обычно много дороже, чем предполагал.
Вот и потомственный дворянин, и начальник наиважнейшего отделения, оклад шесть тысяч целковых, да что оклад – тридцать тысяч неподотчета, мечта любого чиновника. А здоровья нет, и что теперь всё злато земли? Евстратия Павловича мучила еженощная бессонница, а если уснешь – того хуже: нехорошие сны, поганые, с чертовщиной. Пробудишься в холодном поту, и зуб на зуб не попадает. Все мерещится по углам некое скверное шевеление и словно подхихикивает кто-то, неявственно, но с глумом, а то вдруг возьмет и завоет. На шестом десятке Мыльников, гроза террористов и иностранных шпионов, стал с зажженной лампадкой спать. И для святости, и чтоб темноты по закутам не было. Укатали сивку крутые горки…
В прошлый год запросился в отставку – благо, и деньжонки подкоплены, и мызка прикуплена, в хорошем грибном месте, на Финском заливе. А тут война. Начальник Особого отдела, директор департамента, сам министр упрашивали: не выдавайте, Евстратий Павлович, не бросайте в лихое время. Как откажешь?
Надворный советник заставил себя вернуться мыслью к насущному. Подергал длинный запорожский ус, потом нарисовал на бумажке два кружочка, между ними – волнистую линию, сверху – знак вопроса.
Два фактика, каждый сам по себе более-менее понятный.
Ну, умер Василий Максименко, не выдержало надорванное служебными тяготами сердце. Бывает.
Почетный гражданин Комаровский, черт его знает кто такой (москвичи позавчера зацепили у эсэровской конспиративной явки), повесился. Это с неврастениками-революционерами тоже случается.
Но чтоб два отчасти связанных между собою бытия, две, так сказать, пересекающиеся земные юдоли вдруг взяли и оборвались одновременно? Больно чудно. Что такое «юдоль», Евстратий Павлович представлял себе неявственно, но слово ему нравилось – он частенько воображал, как бредет по жизни этой самой юдолью, узенькой и извилистой, зажатой меж суровых скал.
Что за Калмык? Зачем заходил к Дерганому – по делу или, может, по ошибке (пробыл-то всего четыре минуты)? И что это Максименку в глухой двор понесло?
Ох, не нравился Мыльникову этот самый Калмык. Не штабс-капитан, а прямо какой-то Ангел Смерти (тут надворный советник перекрестился): от одного человека вышел – тот возьми да повесься; другой человек за Калмыком пошел, да и окочурился по-собачьи, в поганой подворотне.
Мыльников рядом с гербом попробовал нарисовать косоглазую калмыцкую физию, но получилось непохоже – навыка не было.
Ах, Калмык-Калмык, где-то ты сейчас?
А штабс-капитан Рыбников, столь метко окрещенный филерами (лицо у него и вправду было несколько калмыковатое), проводил вечер этого хлопотного дня в еще большей суете и беготне.
После происшествия в Митавском переулке он заскочил на телеграф и отбил две депешки: одну местную, на станцию Колпино, другую дальнюю, в Иркутск, причем поругался с приемщиком из-за тарифов – возмутился, что за телеграммы в Иркутск берут по 10 копеек за слово. Приемщик объяснил, что телеграфные сообщения в азиатскую часть империи расцениваются по двойной таксе, и даже показал прейскурант, но штабс-капитан и слушать не хотел.
– Какая же это Азия? – вопил Рыбников, жалобно оглядываясь вокруг. – Вы слыхали, господа, как он про Иркутск? Да это великолепнейший город, настоящая Европа! Да-с! Вы там не бывали, так и не говорите, а я служил-с, три незабываемых года! Что ж это такое, господа? Грабеж среди бела дня!
Поскандалив, Василий Александрович переместился в очередь к международному окошку и отправил телеграмму в Париж, по срочному тарифу, то есть аж по 30 копеек за слово, но здесь уже вел себя тихо, не возмущался.
Затем неугомонный штабс-капитан заковылял на Николаевский вокзал, куда поспел как раз к отходу девятичасового курьерского.

Николаевский вокзал в Санкт-Петербурге
Хотел купить билет второго класса – в кассе не оказалось.
– Что ж, я не виноват, – с видимым удовольствием сообщил Рыбников очереди. – Придется в третьем, хоть и офицер. Казенная надобность, не имею права не ехать. Вот-с шесть целковиков, извольте билетик.
– В третьем тем более нет, – ответил кассир. – Есть в первом, за 15 рублей.
– За сколько?! – ахнул Василий Александрович. – Я вам не сын Ротшильда! Я, если желаете знать, вообще сирота!
Ему стали объяснять, что нехватка мест, что количество пассажирских поездов до Москвы сокращено по причине военных перевозок. И этот-то билет, что в первый класс, освободился по чистой случайности, две минуты назад. Какая-то дама пожелала ехать в купе одна, а это запрещено постановлением начальника дороги, заставили пассажирку лишний билет сдать.
– Так что, берете или нет? – нетерпеливо спросил кассир.
Жалобно ругаясь, штабс-капитан купил дорогущий билет, но потребовал «бумажку с печатью», что более дешевых билетов в наличии не было. Еле от него отвязались – отправили за «бумажкой» к дежурному по вокзалу, но штабс-капитан туда не пошел, а вместо этого заскочил в камеру хранения.
Забрал оттуда дешевенький чемодан и длинный узкий тубус, в каких обыкновенно носят чертежи.
А там уж пора было на перрон – дали первый звонок.

На вокзальном перроне

Проводы новоиспеченных морских офицеров на Николаевском вокзале в Санкт-Петербурге в 1905 г.









































