Текст книги "Я+Я. Жизнь карикатуриста. Прелюдия"
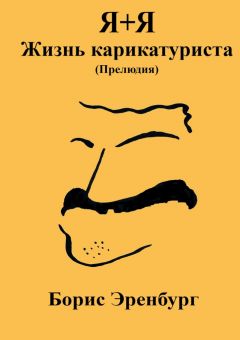
Автор книги: Борис Эренбург
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
А Новый Год, мой самый любимый праздник! Ежегодняя гирлянда, салат «оливье» – самый главный деликатес, вкушаемый в положении лежа под елкой, волшебный аромат апельсинов, вскрывание отверткой грецких орехов и кораблики-скорлупки с мачтами-спичками…

Сколько я себя помню, был я очень влюбчив. Еще в детском саду «роман» с дочерью воспитательницы (только не думайте, не ради лишнего стакана компота!) побудил меня выбрать круглосуточный вариант, так как это позволяло мне дольше быть с нею рядом. Потом, с первого по четвертый класс, была Оля Сивожелезова, потом…
Вообще-то я – бабник по призванию. Но в отличие от многих я – бабник «душка», который поглощен заботой об «ее» чувствах и мыслях, о том, что она сказала до-, в процессе и после… Женщины, как правило, коварно пользуются этим. Поэтому беру не количеством, а качеством.
Учился я в школе номер 6, которая находилась в одном здании со школой номер 1. Помню, как после уроков именно у входа в 1-ю школу встретил меня отец и сообщил о покупке телевизора. Это был черно-белый «Спутник – 2», который сопровождал нас много лет. Вообще-то я не большой любитель телевидения, несмотря даже на то, что одно время вел в Челябинске карикатурное обозрение… Да и первые несколько лет супружеской жизни прошли у нас с женой без «ящика», что шокировало многих…
Моей первой учительницей была Ширинская Нина Ивановна – очень распространенное русское имя. в лаборатории, где я много лет спустя работал по распределению, среди 20 женщин было 5 Нин Ивановн. А вот учительницу параллельного класса звали Олимпиада Андреевна…
Помню, как Нина Ивановна долго не могла мне втолковать, как будет множественное число от слова «весна»: «вёсна», – произносила она. Несмотря на это, первый класс я окончил на отлично – никогда больше такого со мной не повторялось, разве что спустя 10 лет, уже в институте. Были у меня друзья, были, как и у всех, враги.
Кулачная моя дуэль с Рафиком до сих пор напоминает мне о себе плохо отгибаемым большим пальцем правой руки.

Вообще-то я не склонен к насилию. Правда, однажды, не помню почему, я уколол мою соседку по парте пером ручки в плечо. Была кровь, была головомойка… Этот вот случай жестокости явился, пожалуй, первой острой пружинкой в довольно старомодном матрасе моей совести – по прекрасному стихотворению Шефнера:
«И совесть, ночной комендант общежитья,
Ворочается на железном матрасе…»
Кирьяков Леша, бородатый медлительный «слесарь-интеллигент» из Челябинского Теплотехнического института, поклонник Виктора Астафьева, знавший наизусть Ильфа-Петрова, и не только, «подарил» его мне…
Впрочем, я верю в воздаяние: может быть, именно та первая пружинка и стала причиной возникновения в моем теле первой нехорошей клеточки, общежитье каковых сейчас вот пришлось уничтожать мечом хирурга и огнем радиоактивного йода – пружинок-то впоследствии накопилось немало…
Так как родители работали, а бабушки-дедушки жили в тысячах километров от нас, я в течение дня предоставлен был самому себе. Мне выдавались деньги на ресторан, где одна из официанток обязалась меня привечать – помню «азу по-татарски». На сдачу я «кутил»: покупал газировку, ходил в кино. Это, кстати, обучило меня практическому счету и привило уважение к математике.
Кинотеатр на улице Красноармейской – главной улице города – назывался «Победа».
Помню бархатно-красное полотнище над входом в зрительный зал:
«Из всех искусств для нас
важнейшим является кино»
В. И. Ленин
С тех пор именно сэтим лозунгом связана в моем подсознании теория ленинизма – с ним и с прекрасным артистом Ю. Никулиным в «Ко мне, Мухтар!». Иногда я наведывался в парк с обновлявшейся ежедневно на пологом травяном стенде цветочной датой.
Моя самостоятельность приносила иногда огорчавшие родителей плоды.

Весьма популярна была у нас, мальчишек, игра в «чику» на мелкие монетки; кажется, на других уличных диалектах она называлась «пристенок» (помните, у Высоцкого?).
Примерно тогда же, в 7 – 8 летнем возрасте, мы начали покуривать: собирали окурки, вынимали из них остатки табака и крутили самокрутки. Время от времени то одному, то другому из нас здорово влетало от родителей, но толку об этих вздрючек было мало.
Неудивительно, что мама пыталась отравить мне жизнь знакомствами с мальчиками из «интеллигентных» семей и игрой на пианино, которой меня обучали частные учителя: попытка «поступить» меня в музыкальную школу окончилась таким позором, что мама помирала со смеху, вспоминая мой провал.
Слава богу, эти попытки мамы быстро закончились: никогда я не имел интеллигентных друзей, никогда впоследствии меня не тянуло к музыке.
Кстати, именно с одной из частных учителок связан мой первый сексуальный «опыт»: уронив ноты на пол, я полез за ними под инструмент, повернул голову и обнаружил, что под недлинной юбкой прячется миллион резиночек, шнурочков, пряжек… впрочем, не могу сказать, что это сильно меня впечатлило. Правда, с тех пор во мне сильно развилась способность видеть сквозь женскую одежду: если не каждую, то уж наверняка каждую вторую женщину я мысленно раздеваю со всеми подробностями.

К спорту меня тоже никогда не тянуло; правда, на Новый Год мне подарили хоккейную клюшку… так она и досталась кому-то девственницей после нашего отъезда. Да, еще на первом курсе института я примерно пол-года занимался штангой.
Летом мы ходили на речку Самарку – помню длинный мост и дамбу, по которой приходилось карабкаться, чтобы сократить путь. Иногда выбирались в лес.
Впоследствии мы переехали на улицу Галактионова, 34. Именно оттуда трещина на костяной рукоятке папиного кортика, который я пытался превратить в метательный инструмент. Кстати, это не было первой попыткой превратить его в нечто, вовсе не отвечающее его предназначению. Вот милая история: после окончания Академии, получив погоны и кортик, отец приехал в Речицу, где у деда ждала его мама. Боясь всяческого оружия, мама незаметно сплавила кортик резнику Шерману, жившему напротив. Отец узнал об этом, будучи уже на месте службы, в Североморске. Что было сказано им по этому поводу маме, и чего стоило ему вернуть свое номерное личное оружие, можно только догадываться…
С кортиком я рос, носил я его через плечо, на портупее с бронзовыми львами. Однажды какой-то бдительный прохожий поймал меня, вооруженного, сидящим у калитки, и привел за шиворот к отцу. Сейчас портупея с трудом застегивается на моей, мягко выражаясь, талии…
В Израиль кортик приехал в разобранном виде, разложенным в разные ящики. Я очень люблю фотографию, на которой мой кортик в руках моей младшенькой, Леночки, в ее маленьких, нежных, шелковых ручках, и называю я этот снимок «Детство Юдифи»…
Был у меня велосипед, были пустые пулеметные ленты и прочее списанное снаряжение, была кобура, прошедшая со мною путь от Североморска через все мое детство, всегда дополнявшая матросский новогодний наряд. Эта кобура из грубой пупырчатой кожи и с наружным кармашком для запасной обоймы, плотно закрывавшаяся сверху в отличие от современных стриптизно-нескромных мини-кобур, осталась в Речице и в моей памяти…
Был у меня закадычный друг Лешка Филиппов.
Однажды на Лешкином дне рожденья, судя по всему, восьмом или девятом, на предложение его мамы прочитать стихи, я выдал частушку, которую где-то вычитал:
«Эх, яблочко, да на тарелочке,
Надоела мне жена, пойду к девочке»…
По сей день я ощущаю на себе ошеломленные взгляды присутствовавших при этом безобразии взрослых. С тех пор я чрезвычайно чувствителен к реакции публики на устные и письменные шедевры моего гения.
Лешкин отец был, по-видимому, ювелиром: помню его рабочий стол со всевозможными фантастическими инструментами. На их закрытой веранде валялись многочисленные тома сочинений Сталина – помню, что Лешкина очень старенькая бабушка говорила что-то по их поводу, но что…
Именно к Лешке я помчался за помощью, когда вдруг рыжей Монне Лизе – подруге нашего дворового кота Микеланджело – вздумалось рожать в моем присутствии. Вместе мы завороженно наблюдали, как появляются на свет крошечные мокрые создания и как их мать перекусывает розовые пуповины…

Через много лет, в Израиле, ласковая местная кошка по имени Шишка, данном ей моею старшенькой из-за удивительной способности путаться под ногами и биться головой об дверь, получила политическое убежище в нашем крошечном садике. Когда-то, будучи котенком, она дважды была нами спасена от неминуемой смерти: первый раз застряла под пластиковой поливочной трубой и уже почти не дышала, второй – сильно простыла, и мать ее, совершенно дикая и безымянная, принесла ее, полуживую, к нашей двери, упрямым мяуканьем вызвала нас поздно вечером и настояла на лечении дитяти. Ватные тампоны и насильственное кормление теплым молоком с антибиотиком через разовый шприц сделали свой дело. Один из ее сыновей, элегантной черно-белой окраски бандит Чарли – «Великий Немой», долго продолжал посещать наши пенаты, хоть в руки и не давался.
Летом в дорожной пыли мы с друзьями находили гильзы и патроны аж времен гражданской войны. А на городском рынке, в двойном заборе была заточена и забыта старая тачанка – только что без пулемета и буденновцев. Зато у моего школьного друга Генки был крошечный, но настоящий дамский револьвер без патронов.
Голь на выдумки хитра: мы добывали патроны от мелкашки и обматывали их медной проволокой, дабы не болтались в барабане…
До сих пор храню я солдатика из моей металлической гвардии, голова с которого снесена была выстрелом в упор.
Однажды, когда мы упражнялись в стрельбе по сучковатым доскам, за нами погнался сторож дровяного склада. В течение долгих лет широкий шрам над правой коленкой напоминал мне о моем полете через забор с торчавшим из него здоровенным гвоздем…
По сей день я обожаю оружие, люблю его разглядывать, ощущать его гладкую тяжесть. Помню, как рубил сучья зазубренным ятаганом, пока частные хозяева на соседней улице наливали молоко в мой бидон. А на стене в их гостиной висела пара дуэльных пистолетов, пара казачьих шашек и пика.
Несколько раз отец брал меня на стрельбище, где я получал массу удовольствия: вначале стрелял по мишеням вместе с солдатами, а потом получал в свое распоряжение «Калашников» – разумеется, без рожка, и играл сам с собой в войну, слоняясь по лесу или сидя в сбитой танковой башне, «стреляя» по всему, что вызывало во мне желаний пальнуть.
Городской тир был для меня местом притяжения и мотовства. Больше всего любил я стрелять по резиновым игрушкам. Впоследствии, на учебных сборах после окончания военной кафедры, я даже занял первое место по стрельбе из автомата – ума не приложу, куда подевалась та краснознаменная грамота…

А недавно окончил я курс практической стрельбы – здесь, в Израиле, это зачастую необходимо. Особенно для того, чья работа связана с поездками по стране.
Стреляю я из пистолетов разных типов, и постоянно вспоминаю тот крошечный Генкин револьвер и бессмертного резинового бегемота, ухмылявшегося мне в лицо в Бузулукском тире…
И когда в минуту бесконечного мрака холодный гладкий ствол моего «Глока» ласкает мой висок, омывает меня счастливая волна откровения: есть все же нечто сильнее разочарования, сильнее болезни, сильнее одиночества…
Бывал я и на работе у отца, в гарнизонном госпитале, где был у меня «приятель» – фельдшер Калятка, любитель поэзии, привязанный к моему отцу. Кто-то сфотографировал меня там у микроскопа – эта фотография предсказала мою взрослую профессию: ибо, карикатурист я, конечно, карикатурист, но в параллели с физикой металлов и металловедением.
Я постоянно ощущаю непосредственную связь и взаимозависимость между прошлым и будущим, между вчерашней игрой и сегодняшним делом. Ведь игра – один из основных признаков детства. Более того, это одна из прерогатив детства, его главное преимущество…
Так с грустью заключаем мы, взрослые, забывая о том, что крутится в нашей галактике Планета Игр. Небольшая, на первый взгляд ничем не примечательная, кроме своей обитаемости и голубизны…
Дети Планеты начинают играть, только-только успев родиться. У них есть все необходимое для этого: куклы, игрушечные дома и животные, игрушечные скрипки и пистолеты, игрушечные машинки и танки… В играх дети растут. Первые радости и обиды, первые синяки и победы приносят детям их игры и игрушки. В играх дети узнают, что есть на свете справедливость и есть власть, есть удовольствия и есть боль. И что в каждой игре обязательно есть правила, и что любая игра рано или поздно кончается.
И если кто-то не хочет играть, он может выйти из игры. И если детям старая игра уже не нравится, они спокойно и дружно начинают новую.
Но дети растут – растут вместе с детьми их игры: в царя и слуг, в преступление и наказание, в да и нет, в войну, в деньги, в дочки-матери. Многим хочется быть царем, генералом, директором, потому что это приносит много очень приятных игрушек. Но царю нужны подданные, генералу – солдаты.

И вот в игру втягиваются все новые и новые участники – ведь без этого игра теряет смысл. Забываются правила – те, что соблюдались в детстве: не драться, не обижать младших, меняться ролями. Участники забывают о том, что это игра, они начинают думать, что делают серьезное и единственно необходимое дело.
Они пытаются переименовать свою планету в Планету Дел. А тот, кто не забыл правил и пытается выйти из игры, признается опасным и оказывается отверженным.
Время от времени те, кто тоже хотят играть самыми красивыми игрушками, устраивают перевороты в своих игрушечных государствах с игрушечными границами.
Во время этих игрушечных переворотов на настоящие города падают отнюдь не игрушечные снаряды и льется настоящая кровь. А в других играх игрушечное слово, сказанное с игрушечной трибуны, зажигает настоящую грусть или радость в неигрушечных глазах, и игрушечный приказ, отданный в игрушечном кабинете настоящего мореного дуба, неигрушечной пулей пробивает самые настоящие сердца.
А наиболее хитрые понимают, что, если пирожков не хватает на всех, накладно драться из-за существующих. Нужно выпекать новые, специально для себя. Они придумывают новые игры, называя их науками, теориями и учениями. В новых играх все обстоит, как и в старых: те же начальники и подчиненные, те же игрушечные деньги, на которые покупаются и продаются разум и колбаса, совесть и драгоценности. Те же игрушечные битвы, но не на зеленых холмах планеты, а в разукрашенных залах.
После этих битв врачи делают очень реальные уколы во вполне реальные вены жертв игрушечных страстей, и над их реальными телами звучат настоящие траурные марши и игрушечные слова прощания.
Время от времени начинаются игры в переговоры о договорах, устанавливающих новые правила для старых игр. Игрушечные конференции позволяют игрушечным делегациям разъезжать по прекрасной Планете Игр и поднимать бокалы за красиво сервированными настоящими столами. И нет конца этим играм.

Из Бузулука отца перевели в Казахстан, в госпиталь гарнизона города Уральска.
Помню, что через несколько лет, будучи уже в Челябинске на гражданке, отец получил невероятно теплое письмо от сотрудников уральского госпиталя. Я его храню по сей день – дай и мне Б-г удостоиться такой любви и такого уважения.
Так что в 5-й класс я пошел уже в бывшей столице казачьего края, бывшем «Яицком городке». Первое неизгладимое впечатление от Уральска – дорога от вокзала до дома, где нам предстояло жить: все было усеяно лягушками, – тротуары, дороги, газоны. Ну прямо по Торе – одна из казней Египетских. Впоследствии ничего подобного нигде и никогда видеть мне не приходилось…
Жили мы в военном городке Сокол, а учился я в школе номер 35, где на переменках мы пили воду из общей кружки, прикованной цепочкой к жестяному баку. Недавно попалось мне в руки письмо от Валеры Кузнецова, с которым я сидел за одной партой в 5-г классе и с которым мы изводили учителей болтовней на уроках.
Ира, сестра моя, начала учиться в этой же школе. Помню: недалеко от упомянутого бака с водой я грубо обошелся однажды с ней, малышкой, подошедшей ко мне, старшему брату; что-то вроде «иди отсюда, рыжая ведьма»… До сего дня болит во мне ее недоумевающий взгляд из под золотисто-русой челки. Еще одна пружинка…

Девочка, в которую я был влюблен, Валя Неверова, так никогда и не узнала о моей любви. Причина была проста: книжка, которую я подложил ей в парту на 8 Марта, вместе с запиской была переведена учителем другой ученице; у Вали оказалось слишком много поклонников, а педагогическая справедливость требовала… Мое объяснение, таким образом, попало не по адресу, что несколько усложнило мне жизнь…
Зато моя дворовая «пассия» Марина Горбачева, жившая дверь-в-дверь, стала товарищем моих игр (еще не любовных!), и долго цифры 4—14 (Г-М) оставались для меня магическими. Около нашего подъезда ошивался рыжий с гладкими висячими ушами пес по имени Дворник.
Через год меня перевели в школу номер 532, где училось много детей железнодорожников, «интернатских», семьи которых проживали на разных «Буранных полустанках». Ребята были неплохие, немногим отличались от нас, «городских». Среди них было много казахов – помню, были девочка-казашка, красавица писаная.
Была в нашем классе девочка по фамилии Родина – я ее почему-то не любил…
Правда, символично?

В Уральске подружился я с Андреем Аллиным и Сашей Кузнецовым. Сашка был очень хороший, интересный парень, но я не любил бывать у него дома из-за его матери, разгуливавшей по квартире в нижнем белье, что мне тогдашнему не слишком импонировало (а может быть, наоборот?…).
С Андреем, очень любившим технику, мы сидели над самодельными приемниками, изготавливали бомбочки, смешивая серу, селитру и прочие ингредиенты. Ах, как шумно и ярко взрывали они свои черные изолентовые оболочки… До сего дня храню я кусок черного каучука – по-моему, от троллейбусного рога – которым мы с Андреем перебрасывались, как мячом, беседуя на ступеньках его подъезда. Он же, по-моему, подарил мне лезвие ножа, которое вот уже больше 30 лет я не могу собраться оснастить рукояткой.
Андрей-то и сыграл главную роль в моей «карьере» художника. Он заманил меня в Дом Пионеров, но вместо авиамодельного кружка мои родители, после основательного скандала, настояли на кружке рисования. Как я им за это благодарен… Помню огромную и сложную линогравюру нашего учителя, посвященную Пушкину: ветер, дилижанс…
То были незабываемо-волшебные вечера: натюрморт, линогравюра, за стеной хоровое
«…Орлята учатся летать…», а в перерывах осторожное фехтование на настоящих шашках – аксессуарах драмкружка…

В Доме Пионеров происходили встречи юных филателистов, и я увлекся собиранием марок, склонность к которому мерцает в моей душе по сей день.
Уральск же стал для меня школой встреч иного рода. Как вспоминает моя мама, достаточно было ей выйти вечером на улицу и высмотреть группу ребят самого подозрительного вида, как она непременно находила среди них меня.
Всегда я тянулся к блатным, приблатненным, и отношения мои с ними были самыми сердечными. Мимикрия, видимо, у меня в крови – я очень легко иду на контакт.
С подругами труднее. Хоть я и бабник, но со своими «прибабахами». Помню поворот аллеи, ведущей вдоль ограды военчасти, и женщину, подтягивающую чулок на высоком бедре… Она, эта незнакомка, так и осталась во мне символом сексуальности. С тех пор недо…, полу… волнуют меня сильнее, нежели грубоватая и «честная» открытость и дозволенность: мол, дашь – не дашь…
Были в нашем городке и несколько еврейско-военных семей, с которыми водили знакомство родители: Сашка Голубь и Яшка Тайц тоже были моими приятелями.
Все мои друзья располагались по определенным пластам моей многослойной жизни: школьные, по двору, по улице, по маркам. По маркам Сашка (Длинный) и Юрка Угрюмов, по двору Сашка Дорожко, обладатель махрового банного халата и волосатых ног.
Был Вовка Березуцкий, носивший огромный перстень и воображавший себя магистром некоего ордена по борьбе со вселенской несправедливостью, был Женька Сидинин. Был Игорь Мальцев, не вернувший мне книгу «Армянские сказки», в которых невестка «испускала ветер», что меня весьма смущало. Был Баркель – казах, сын ректора Пединститута. Он единственный, кто знал, что я еврей, и дал мне однажды понять это. Был некто Рабинович, имевший огромные кляссеры с марками разных стран.
Однажды он предложил мне «сделку»: я получаю удар по голове большим альбомом и, пройдя эту экзекуцию, получаю этот альбом в подарок. То, что я пишу эти строки, несомненное свидетельство несостоявшейся сделки…
Степь, в пору цветения тюльпанов. Древнее мусульманское кладбище с пышущими жаром каменными плитами, еще не успевшая пожелтеть трава, цветы и масса ужей… Этих симпатичных небольших змеек с желтыми пятнами у глаз мы сажали в бутылки и пугали ими наших девчонок – дам сердца, да и не дам…
В старой дубовой роще, пряталась обрамленная кладбищем церковь. Не знаю, что за работы там велись: то ли копались новые могилы, то ли канал к реке Урал (или Чаган?), но на дне этих «раскопок» мы часто находили черепа, и даже таскали их домой, к ужасу родителей.
Зимой заливались дворовые катки.
Иногда мы с отцом ходили на городской каток. После Уральска я, пожалуй, больше на коньках не катался.
Упомянул реку Урал – Яик в прошлом – не забыть бы черную икру. Постоянно в холодильнике дома стояли литровая банка черной икры. Для нас, жителей осетрово-белужьих краев, она была довольно обычной добавкой к ежедневному рациону, включавшему чудесную казахскую говяжью тушенку, которую я ел прямо из банки.
О благословенный период застоя, о 60-е, «гордые, пузатые»!

К слову сказать, да и к стыду тоже, к этому «золотому» периоду относится и начало понимания мною проблемы общественного статуса, что ли… Не помню, чем тот мальчик отличался от других, но равным он не был, и испытывал я к нему снисходительную жалость… Помню, я сижу у подоконника, а он – с другой стороны окна, и я не приглашаю его войти, я «позволяю» ему говорить с собою… кажется, я в этот момент лепил что-то из пластилина.
Вначале семья наша жила в одной из комнат 3-комнатной квартиры. К Любе – молодой женщине, то ли вдове, то ли разводке, жившей с дочерью Иришкой, мама моя ревновала отца. И было к чему – я имею в виду эту самую Любу…
А с другими нашими соседями: семьей Сааркопель, Мейнхардом и Натальей, отношения не омрачались ничем. Мейнхард, огромный офицер-эстонец, изобретатель и охотник, мастер-золотые руки, говорил на своем эстонско-русском: «Я от усталости падаль!». Был у него предмет моего вожделения – охотничий нож с рукояткой, сделанной из доски от затонувшего судна, нескольких сотен лет засола в Балтийских водах…
Эта доска сыграла свою роль, выполнила свое сверх-предназначение: стройматериал-обломок кораблекрушения-рукоять ножа-несколько ячеек в моей памяти. Строители суденышка были бы очень удивлены… Лично я серьезно – почти болезненно – принимаю свою роль в роли вещей, с которыми сталкиваюсь. Если это спичка – я ее зажигаю, даже если нужна мне она для ковыряния в ухе, если это бумага – я пишу на ней с обеих сторон…
В Уральске начались у меня непонятные приступы болей живота. К слову сказать, эти приступы посещали меня долгие годы, и точка поставлена была лишь в Израиле, удалением желчного пузыря, коего российскими исследованиями в моей брюшной (фу!) полости обнаружить не удалось. Так что пришлось мне периодически быть госпитализированным в хирургических отделениях.
Многого я там насмотрелся и многому научился, а главное – легко сходиться с самыми разными людьми, фамилия которых могла быть даже Крестоверов. Каково?!

В Уральске же, учась в 7-м классе, я в первый раз в жизни сильно «возжелал» одеваться по моде. В те годы носили брюки-клеш от колен, и наш учитель, молодой казах, щеголял в таковых перед нами. Не помню, чтобы мне хотелось чего-то модненького с тех пор – я абсолютно безразличен к одежде.
Мой характер бережет меня от этих гонок – я живу в убеждении (иллюзии?), что человек красит одежду… Дело в том, что жили мы в небольших городках, где вопрос модной одежды, как правило, если и стоял, то не остро… Так что одежда мне, как правило, шилась и перешивалась: брюки – из военной «диагонали», пиджаки – из отцовских кителей. Мой свадебный костюм был, пожалуй, первым купленным в магазине готовым «элегантным» костюмом…
Однажды в школе, во время урока, кто-то угодил мне прямо в лоб яблоком. Вскочив с места, ударом по лицу я сбил своего обидчика на пол. То ли этот эпизод, то ли новая любовь по фамилии Крумина, девочка, обладавшая развитой грудью и мягким нравом, согласившаяся быть моей подружкой, стали поводом для моего избиения. Оно состоялось после уроков, в последний учебный день перед зимними каникулами. Бил меня парень из полублатных по фамилии Воробьев, считавший меня немцем из-за моей фамилии. Двое моих приятелей, Карп и Клещ стояли в толпе зрителей, когда я упал под ударами, не успев оказать сопротивления, поскользнувшись на ледовой сколзанке. Домой я явился с совершенно заплывшим глазом, и тут узнал о предстоящем переезде. В эту школу я уже не вернулся…
Самое время вернуться к теме наших кочевий. Особенность жизни семьи офицера состояла, как правило, в отсутствии постоянной, своей квартиры. Все места нашего жительства были не полностью благоустроены, имели лишь частичные удобства. Жили мы всегда на условиях временности – например, лишь за год до отъезда из Уральска нам вместо уже упомянутой комнаты в общей квартире выделили 3-х комнатную квартиру находившегося в длительной командировке офицера; правда, в одной из комнат были заперты его домашние вещи. Не было у нас, детей, постоянных школ и друзей. С одной стороны, все эти переезды позволяли увидеть мир, но с другой я всегда завидовал тем, кто мог позволить себе заявить: «А, этот! С ним мы еще в ясли вместе ходили!»
И все же понятия родного города и друзей детства имеются даже у меня, и связаны они с Речицей, где жил дед Израиль. Каждое лето, на каникулы, отец или мама находили способ подбросить нас с сестрой туда на 2 – 3 месяца, а перед 1 Сентября забрать назад.
По великолепной пыльной улице Урицкого ежедневно проходило стадо коров, сопровождаемое пастухом, и мы прерывали свой пыльный футбол и сидели на воротах, поджимая ноги, когда какой-нибудь ретивый бычок предпочитал дороге тротуар.

Мы – это я, это Ленька (Илья) Булкин, Юрка и Сашка Панько (местные), Мишка Пугач, Гарик Плоткин, Сережа и Андрюша Половинко (ленинградцы), Мишка Виленский (гомельчанин). Мишка Пугач был стройным парнем с длинной талией и томным голосом, отличным футболистом. В дальнейшем он перебрался в Москву, где мы с ним как-то встретились во время одной из моих командировок.
С Гариком мы позже встретились в Ленинграде, куда я также был заброшен по делам службы. Эти контакты вне нашего детства не вернули нас друг другу – впрочем, странно было бы на это рассчитывать. Ленька – кругленький «Булочка», с родителями – дядей Моней и тетей Фридой, низкорослыми и губастенькими, жил с новой квартире в одном доме с моими дядей Сашей и тетей Люсей.
Его дед и бабка были соседями моего деда. Насколько я знаю, Моня в молодости ухаживал за Люсей… Кстати, на крыше этой пятиэтажки, «строившейся» дядей Сашей, состоялся мой первый урок электросварки.
Мы гоняли на велосипедах с руками и без рук, играли на деньги в карты, сидя в беседке, которую построил мой дед под огромным кустом сирени, ветви которой служили нам сырьем для изготовления и луков, и стрел к ним. Там же обитал крупный самостийный кот Пиня. Там же иногда накрывался стол, ломившийся от белорусско-еврейской еды: картошки со сметаной, драников (вкуснейших картофельных оладий), вареной кукурузы, любимого дедова свекольного борща. Впоследствии Ленькин дед построил альтернативную беседку в глубине двора, и мы перебрались туда.
К азартным играм я был всегда склонен, но удачливым игроком не был – слишком увлекался. Как говорится, не везет в карты – везет в любви… Будучи на дипломе в Свердловске, я умудрился втянуться в преферанс. Боже, какие «паровозы» цепляли мне мои партнеры на мизерах! Однажды я проигрался до такой степени, что вынужден был питаться в течение двух недель исключительно «Завтраком туриста» по 35 копеек в день, кусковым сахаром и водой. Потом отыгрался, и даже получил в счет выигрыша «Панчатантру» – книгу индийской мудрости, сопровождающую меня и здесь, в Израиле.
Зато однажды мне повезло действительно по-крупному – правда, не в карты, а в телевизионной игре. Не имея ни малейшего понятия о предмете игры: ценах на различные товары, – я выиграл на израильском телевидении всяких разностей, включая машину, на 25 тысяч долларов. В течение нескольких месяцев после этой передачи я был воистину национальным героем: люди меня узнавали на улице, в магазинах, на светофорах, стремились прикоснуться ко мне, как к святому. До сих пор в памяти многих я «тот самый, что выиграл «Ситроен»…

Так вот, мы носились на велосипедах, играли в мушкетеров. Всегда к моему приезду Леньку переводили к деду, Срулю Рысину, матершиннику и хитрецу.
Иногда мы таскались в кино «Беларусь», реже в «Россию», изредка посещали новый торговый 3-х этажный торговый центр «Ведрич». Частенько крутились мы в парке, у постамента с танком-тридцатьчетверкой. Меня всегда тянуло к танкам. Свидетельство тому моя первая публикация, «состоявшаяся» в школьной стенгазете:
«Я мечтаю быть танкистом.
Я много читал об их подвигах и хочу быть похожим на них».
Кстати, тридцатьчетверка выглядит гораздо мужественнее танков современных, настолько же, насколько коротко стриженый мужчина выглядит мужественнее панков, хиппи и прочих, с болтающимися косичками-хвостиками-серьгами-цепочками…
Обычно нас можно было найти на песке у Днепра…
К Днепру тех времен нужно было спуститься с обрыва или через парк, или по крутому асфальту переулка. Затем – деревянный мостик через узкую протоку, и вот мы бредем, увязая в песке, к берегу, оставляя справа рощицу лозняка. Можно было пройти и налево, немного вверх по течению, где берег был крут, полоса песка была совсем узкой и к ней вплотную подходили трава и деревья. Но мы шли прямо, и у небольшого полуострова, напоминавшего Кольский, располагались своим таборком. Там мы дремали на жарком солнышке, меж волейбольно-футбольными хороводами, поедали яблоки, зарывая огрызки глубоко в песок.
Маленькими мы купались в штакетниковом «лягушатнике», подрастая, заплывали до середины реки, поджидая волны от проходивших теплоходов и проносившихся моторок. С тех пор я – убежденный представитель «Бич-бойз»: свирепый загар, узкие плавки, а главное – готовность проводить все отпуска на реке-озере-море, пребывая в убеждении, что только таков полноценный отдых.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































