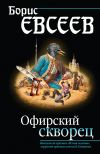Текст книги "Лавка нищих. Русские каприччио"

Автор книги: Борис Евсеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
– Нет! Что вы! Даже не думайте! Я живая! Я помирить вас хочу… Укусите, ежели не верите! Вот… Вот мое тело… Берите… Пробуйте…
Продолжая нести мягкую околесицу, Кира сдирала тем временем с соперницы последние лоскутки одежды.
– Гадюка… Тварь! – очнулась окончательно моя приятельница и, разомкнув кулачок, неожиданно выпустила острые коготки прямо Кире в лицо. Она целила в глаза, но Кира чуть отступила, и длинный ноготь среднего пальца, падая вниз, глубоко вонзился в пухловатую шею.
– Так… так… так… – вышептывала Кира, – а теперь язычком, теперь губами, прошу вас! – Она вдруг ловко притянула голову соперницы к себе, та мимовольно ткнулась губами в пораненную шею, раздался чуть слышный смокчущий всхлип, за ним слабый стон…
– Есть, есть, е-е-е! – крикнула Кира.
Внезапная перемена со всеми нами происшедшая поразила меня.
Кира – нежная, чуть полнокровная, деликатная и неумелая в любви, – Кира зашлась вдруг в наглом, диком хохоте и валясь рядом со мной на тряпки, грубо дернула на себя мою приятельницу. Та, опускаясь на пол, всхлипнула, а затем тихо, но безудержно завыла.
Незадолго перед тем я снова выпил глоток вина из горлышка высокой рейнской бутылки и вдруг совершенно опьянел. Но и сквозь хмель я чувствовал в происходящем какую-то опасность и нарастающую по отношению ко мне враждебность. И хотя Кира тут же дикий хохот свой прервала, стала как и прежде смеяться – кротко, нежно, – потом начала что-то неясное тараторить, подталкивать мою приятельницу ко мне, – из нее словно повыпустили закачанный в ткани и полости тела воздух. Лицо Киры враз исхудало, осунулось, из глаз исчез обширный лаковый блеск, ушла радость, за которую как за соломинку я зацепился утром. Теперь глаза ее выражали одно хищноватое и жесткое довольство. Казалось, Кира получила именно то, что желала, да еще и кое-что в придачу получила.
«Придача» же, как почудилось мне, в смутительном ночном свете, состояла вот в чем: это мне, мне предстояло прокусить, либо проткнуть насквозь бархатную шейку! И сейчас Кира, казалось, радовалась именно тому, что так кстати подвернулась моя приятельница, что не я, случайно встреченный, но до темноты в глазах ей понравившийся прохожий, сделал это…
Кира продолжала подталкивать приятельницу ко мне. Голову мою вертело как в луна-парке, опьянение и дурнота нарастали… Непонятно как – мы соединились. И тут же Кира, изловчившись, прижала свою не засохшую ранку близ уха к губам моей подергивающейся в последних судорогах страсти партнерши. Та, видно, не сознавая, что делает, опять с легким хрустом потянула в себя кровь. Кира хриплым звоночком рассмеялась, и я опять услышал в голосе ее утреннее счастье. А приятельница моя – замерла, окостенела. Кожа на лице ее стала грубой, свекольной, веки покраснели, по телу спиралью прошла и тут же стихла еще одна судорога: на этот раз рвотная…
– Вина… Вина выпейте! – вновь нежная, опять робкая Кира вскочила и, слегка оттягивая книзу влипшую в спину рубаху, кинулась к столу. Она налила четверть стакана, потом примерилась, немного добавила и чуть не силой заставила мою приятельницу выпить. Та выпила, шатаясь, встала, дошла до соломенного качающегося кресла и, кинув на кресло что-то из одежды, тяжко в него опустилась.
– Она подмешала в вино какой-то дряни, – деревянным голосом сказала, глядя куда-то в пространство и словно в пространство это пророча, моя приятельница. – Нам стобой каюк.
– И не думала, не думала! – прежние извиняющиеся нотки послышались в голосе Киры. – А вино я в лавке беру, на Покровском бульваре! Просто у него вкус такой необычный. Вот мне и понравилось!
Я молчал. Головная боль возобновилась с новой силой. Странное и непреодолимое влечение к встреченной утром женщине натыкалось на смутные мысли о том, что она, возможно, не вполне психически здорова: оттого и хрипит здесь сладко, оттого и летает по даче, отяжелев от моего семени, как комар-кровосос нежный!.. «Ну какой кровосос? – успокаивал я себя, – те кровь пьют, а она наоборот, отдает… Только зачем, зачем?»
Надо было что-то делать, как-то менять положение.
Меня опередила Кира.
– Ну дальше вы уж тут без меня. Я свою вину, – она выделила последнее слово, – искупила. Легонько, легко мне теперь… Кровь лишняя из меня ушла… – Она содрала влипшую ей в спину мою рубаху, уже не стесняясь голизны, подхватила с полу брошенную одежду, быстро натянула ее, сказала: «целуй сюда», показала пальчиком на правую щеку, но вместо нее, рассмеявшись, подставила все то же порванное острым ногтем заушье…
Это кровь, кровь с вином изменили мою жизнь! Я вдруг почувствовал зарождающийся во мне гадкий хаос, почувствовал такую же, как и всюду вокруг, – в поселке, на станции, в стране – тяжко-запойную тихо-кровавую нудьгу…
Кровь не до конца еще запеклась, я ткнулся в нее губами, Кира сказала: «ну, прощевай!», сбрызнула ранку на шее вином, фыркнула, уронила бутылку на пол и, подхватив свою коричневую кожаную сумочку, кинулась с веранды вон.
Вкус у крови был странный. Была она резкая, холодная, горьковато-кислая, как оставленная на ночь на подоконнике настойка из трав, отдавала торфяником, болотами.
Я поднял бутылку, поставил на стол. Вина в ней оставалось еще много, стакана на два. Бутылка при падении треснула, но вино сквозь трещину не сочилось. Чуть поколебавшись и стараясь не смотреть на вжавшуюся в кресло университетскую мою приятельницу, я бросился на улицу.
Увидев, как Кира, обмотав ремень сумки вокруг шеи, перелезает через забор старухиной дачи, я хотел крикнуть, чтобы она осталась, что все, что произошло – чепуха, что именно в ней, в Кире – обходительной, робкой и неловкой в любви – мне почудилось что-то давно забытое или может никогда не испробованное, почудилась не просто страсть мужчины к женщине, а нечто радостно-божественное, неплотское, наверное давно уже на земле не существующее… И никакая кровь здесь ничего не значит! И…
«И никакой кровь не ешьте, – вдруг вспомнил я. – Ибо душа всякого тела есть кровь его».
«Белиберда! Чушь! Кровь есть кровь, а душа есть душа! В конце концов пьем же мы кровь Христову, причащаясь!»– хотел завопить я, но вдруг в испуге смолк. Крик этот так и остался во мне, лопнул пузырем в горле. Чуть помедлив, вернулся я на веранду, глянул на мертво сидящую в кресле и цветом тела почти с этим креслом сливающуюся приятельницу, хотел дать ей вина, но потом передумал и как был, в брюках и без рубашки, заторопился по майскому холодку на станцию, за Кирой.
Я шел и не слышал собственных шагов. Хмель, еще недавно стучавший и мягко взрывавшийся в ушах, загустел, стал глухим и плотным, как вата. Я был уверен, что последний поезд на Москву уже ушел, и что Кира через несколько минут, виновато наклонив голову, взблескивая ресницами и до головокружения притягивая меня изящной своей полнотой, пойдет со станции мне навстречу.
Я ошибся.
Поезд, подтянув к станции свое до отчаяния разбитое, даже как показалось, расчлененное тело, остановился. Я побежал, понял, что не успеваю, резко остановился. Состав тронулся… Через несколько секунд я выпрыгнул на платформу – там было пусто.
Вернувшись на старухину дачу, я увидел все так же мертво сидящую в кресле приятельницу, подхватил со стола бутылку, лег на пол и, подложив под голову какое-то полено, стал пить легкое, ароматное, отдающее стафидами или еще чем-то сказочно-райским вино из горлышка. Через минуту, отодрав себя от бутылки, я глянул в окно, понял, что мимо старухиной дачи крадется, как рослый поселковый вор с двумя верткими молодыми петушками за пазухой, рассвет, что заснуть все одно не удастся и, напялив на себя чью-то драную робу, заспешил к реке, к болотам…
Майский день разгорается. Сухая гроза, долго сбиравшая в кулечках вздутого неба едкую черную пяль, вдруг сыплется, как сажа из вспоротого ножом мешка, куда-то за лес. Постояв у горбленного моста, где два года назад повстречалась мне полноватая, влитая в темно-каштановую стрижку, с ямочкой на одной из щек женщина, я возвращаюсь на снимаемую мной, теперь уже не каменную – денег на это нет, – а крохотную, с курятник, дачу.
Передо мной на столе хлипком, косеньком стоит треснувшая, накрепко впечатанная в грязно-серые доски бутылка. «Македонско вино», – написано на этикетке. В бутылку вставлен огарок свечи. Иногда по вечерам, когда стихает сорный весенний ветер, в желтоватых рысьих сумерках я зажигаю свечу, всматриваюсь в бутылочное зеркало и вспоминаю их обеих.
Вспоминаю потому, что обе они пропали. Умерли? Ушли? Нажрались какой-то дряни, насосались болотом и ржавчиной пахнущей крови, которая на земле никого держать не может? А мне оставили вместе себя, вместо теплого женского тела дымно-кислое, обморочное вино?..
Впрочем, про приятельницу мою университетскую я знаю точно, что она уехала переводчицей на юг, в Пенджаб, там осела, натурализовалась, но заболела тропической лихорадкой, и теперь совсем плоха.
За Кирой я несколько раз, вспоминая ее бессвязный лепет про компьютерных бабочек, про посредническую фирму, сверхурочную работу по ночам и въедливого лысачка-начальника, ездил на Тайнинку. Но следов никаких не нашел. Я думал, она отыщет меня сама, но ошибся и здесь.
Почему? Почему она не искала меня, не приезжала? И почему тогда, в ту же ночь я почувствовал мертвую, звериную тоску?
Впрочем, тоску эту я чувствую и сейчас. И женщины, вереницей проходящие передо мной по аллеям дачного поселка, вызывают во мне лишь угрюмое раздражение или едкий смех. Я смотрю на них, ищу среди них сам не знаю какую и вижу лишь вьющуюся над ними лживость, вздорную стрекозью сухость. А Кира… Другой мир принесла она с собой на краешках губ! В другой мир и ушла…
– Это бродит в тебе душа утонувшей здесь программистки, – весело скрежещет над ухом состоявшая когда-то в услужении у одной из царских балерин старуха-соседка.
Но я не верю ей. Это ведь все глупости про призраков! Кира живая была! Живая!
– Не осерчаете, ежели потревожу Вас?
– Пустое…
– Сегодня такой странный день…
– Я бы скорей сказал тяжелый…
Я сижу у хлипкого столика перед облитой затвердевшими ручейками парафина пустой бутылкой и вспоминаю, как взблескивал и искрился мост. Я вспоминаю, я чувствую на губах вкус невесть откуда взявшегося вина, и дневные, терзающие душу резким бесцветным пламенем видения плывут передо мной. И ползут на меня из воздуха огромные белые черви, которые заводятся, говорят, в винных бочках.
Наконец, утвердив перед мысленным своим взором полноватую, чуть старомодно одетую женщину, я закрываю глаза. Но потом открываю их вновь, чтобы до будущего лета все так же поглядывать на лес, скрежетать зубами, курить, пробовать все доступные мне по цене вина и тут же эту жалкую блевотину, ничуть не напоминающую дивный любовный напиток, выливать рядом с собой, в ноздреватую огородную землю…
Всё! Всё вокруг – бодяга! Компьютерные игры в болотах! Полеты бабочек и лун на запертых дачах! Нищая, раздробленная страна! Жизнь, которая дает нам сосать свою дурную кровь! И винный хаос вокруг: вино черное, вино зеленое, вино колдовское. Горькое винище времени. Пряное вино любви. Сладчайшее вино забытья… Вино, винище, яд.
Вино вместо крови? Вино вместо женщин? Тогда будь оно навеки проклято! Изничтожить его, избыть… Или наоборот, выпить до дна, чтобы понять наконец разницу между ним, вином и кровью?
Выпить! И тогда спадет с меня тяжкая любовная лихорадка, против которой я, наученный ненавидящей электричество старухой-соседкой, все время шепчу один и тот же заговор:
«На горе Фавор три архангела… Три юрода сидят. Три царевича… Держат на коленях три бочонка. В тех бочонках три дырочки проверчивают…»
КУРДУПЕЛЬ
Курдупель – горбатый карлик – любит обряжаться Дедом Морозом.
Зимой те, кто побогаче и посмешливей, – ставят его под домашние елки. Ну а летом – ему нравится в валенках, в красной шапке подойти к Лавре, постоять и покрасоваться на виду у всех. Он давным-давно приехал с Западной Украины. Оттуда и привез с собой это странное слово: «курдупель».
Слово-то привез, а в семинарию не поступил. Сперва – кривлялся, плакал, жаловался на церковных бюрократов, не захотевших понять: не в росте дело! Сидел на полу в магазинах, приставал без дела к покупателям…
Однако в городе странным образом прижился: сердобольных и сочувствующих – тьма тьмущая.
– Ты гля! Дед Мороз – летом! А сажай его к нам! Новый год в июне справим. Ну! Набрызгай ему шампанского в пробочку Гляди, побежал как! Маломерка, а шустрый!
Посадили в джип и забыли. Два часа рвали колесами округу, орали, пели.
Когда остановились промяться, он потихоньку вылез, карабкаясь, ломая ногти, устроился на крыше машины. Распластавшись, огляделся: видит его кто-нибудь или нет?
Джип тронулся, и вместе с возрастанием скорости движения – стала расти обида. От ее нестерпимости курдупель хотел даже вскочить, перегнуться, выкрикнуть водителю сквозь стекло что-то грозное.
Может, даже страшное церковное проклятие всем, без толку колесящим по свету, всем, не знающим правды о маленьких и очень надежных лесных существах, от которых и произошел он, курдупель, – выкрикнуть!
Но большинство церковных слов были им прочно позабыты.
Тогда, шепча привычное: «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарок мне принес, пидарас горбатый», – он решил на ходу спрыгнуть с машины.
Как раз въезжали под мост. Хоть было и высоко – он осторожно прикинул расстояние до нижнего обода мостовой арки, потом даже быстренько измерил растопыренными пальцами свой рост.
Полностью приготовился и только тут почувствовал: за эти двадцать лет он, кажется, сильно подрос!
«Может, и не курдупель теперь, может, уже и не уродец?»
Радость обуяла карлика. Захотелось снова упасть и вдоволь поваляться на забранной толстыми прутьями автомобильной крыше.
Но не рассчитал, зацепился за какую-то автомобильную скобу или, может, торчащий винт, – полетел вниз.
Не веря, что можно так вот запросто, после двадцати двух лет суматошно-неясной жизни и полной неподготовленности к смерти, пропасть, – успел крикнуть себе: «Назад! Назз…»
Однако земля лесных карликов и уродцев, земля курдупелей и недопущенных к экзаменам семинаристов мапомерок, узко смеясь стебельками свежей травы, уже летела ему навстречу.
Водитель джипа в зеркало заднего вида увидел: мелькнуло что-то красное.
Машина встала. Маломерку – подобрали. Искалеченного, обмазанного дерьмом и кровью, уложили на сиденье, увезли с собой: то ли перевязывать, лечить, то ли затем, чтобы где-нибудь по дороге спустить потихоньку с откоса.
Больше у Лавры его не видели.
Два-три раза – словно отколупнули пробочку в бутылке с нашатырем – щекотнуло ноздри знакомых его имя. Дальше – ничего, пустой воздух.
Как тот пузырек газа в наперсточке с шампанским: был, лопнул, нет.
ЧУКАГО
В Сергиевом старинном Посаде, в малярно-строительном закутке, невдалеке от дома, где жил когда-то отец Павел Флоренский – чему есть табличка, – обитает Большой Кузя.
Здоровенный такой парнище. Кулаки беспрерывно чешутся. Чешутся просто так, без обиды, незлобно: сходил, ударил, завалил. Поднял, водой обрызнул, пошел себе дальше.
Два раза – едва не посадили. Но оба раза те, кого завалил он, взяли заявления обратно. Взяли не из страха: из любви.
Кузю Большого и вправду любят: два метра росту, улыбчивый, нежный, однако в нежности сильный, – вечерами он выходит из дому на улицу и, перекрестившись, идет к ресторану «Золотое кольцо».
Встав недалеко от входа, подбоченясь, ждет.
Вся охрана его давно и прекрасно знает. Известен он и шлюшкам заезженьким, и милиции, то всклокоченной, то полусонной.
– Статься, народный театр будет, – возвещает Кузя величаво, подражая чему-то древнему, ему, Кузе, недостаточно известному.
Никто ему и не думает мешать.
Однако театра всё нет и нет, Большой Кузя стоит и стоит. Оно и понятно: Кузя выискивает машину побогаче – лучше джип – ждет, пока выйдут пассажиры, затем медленно приближается, кланяется по-русски в пояс, спрашивает, чуть окая:
– В Чукаго не желаете съездить? Или послать туда кого – не желаете? Одномоментно!
Джипешник сперва ни черта не понимает, потом начинает улавливать, радостно кивает.
Удар, подсечка, владелец джипа на земле.
Дело – летом. («Зимой – не фонтан».) Воздух чист. Картина ясна и знакома до боли. Но есть в этом народном театре и новизна. В чем она – сразу не скажешь, а есть…
Ну а дальше – вот что.
Большой Кузя, закончив с джипешником, начинает подымать в воздух всех богатеньких по очереди, потом – всех тех, кто попадет под руку, и кто, по его мнению, будет таким обращением доволен.
Он подсекает человека, как сноп, и при этом издает характерный, воздушно-капельный и в то же время локомотивно-дорожный звук: чук-чук, чук-чук.
«Отчукав» очередного «пользователя услуг», Кузя хватает его под мышку и почти без натуги кидает в близлежащую запруду. «Пользователь услуг» – это словосочетание выдумал сам Кузя – барахтается, ругается…
Но из ресторана «пользователю» уже несут на серебряном подносе чарочку, он выпивает, перестает копить злобу, радость начинает переполнять его, да и всех окружающих тоже.
Откуда радость? Да оттуда: Кузя делает всё складно, дерзко. Все довольны – все смеются.
– В Чукаго! Чук-чук-чук. В Чукаго! Чук-чук… Кузя ласково теребит красный поясок.
Он не пьет, не матерится, только улыбается во всю свою широкую будку. Иногда трогает мясистым пальцем мягкую темную, юношескую бородку.
Всем приятно. Приятно местным, приезжим, а особенно иностранным гостям: русская удаль!
Так что слез нет, обид нет: чуть крови, выплюнутый зуб, два-три сломанных пальца, благолепие, согласие, лад.
– В Чукаго! Надо же так придумать… – сплевывает едва проступившую на губе кровь дядя Шустик.
Дядя вымок, как хлющ, но веселью его нет границ. Шустик, ясное дело, не иностранец, он местный, пожилой, семейный. Ходит к «Золотому кольцу», исключительно чтобы полюбоваться на Кузю. Иногда и поучаствовать.
– Чукаго, Чукаго, – слегка заносясь, как пострадавший за правду, деланно шепелявит он. – Хорошо это ты, Кузя, придумал. И ехать никуды не надо, получил в зубы – и а'кей!
– Чукаго, Чукаго! Кому американский город представить?
Кузя готов к любым поворотам. Он добр и щедр. И только кулак его в эту веселую минуту слегка занемел от боли: случайно вместо челюсти въехал в какую-то железяку. Но ничего, до свадьбы заживет.
Вечер продолжается, веселье нарастает.
– Кузя – домой!
Это – мать. Ее Кузя слушает беспрекословно.
Околоресторанный люд тихо вздыхает: очередная поездка в Соединенные Штаты Америки – откладывается до завтра.
БУКВЫ
Он был – «М». Она – «РЖД».
От имен и ласковых прозвищ остались одни буквы. Плюс обезвешенные тела, плюс истлевшие легкие. Отринув родительскую роскошь, они умирали здесь, в чужом городе, у трех вокзалов. Год назад они были вычислены и выкрадены главарями московских нищих. Их прооперировали. Ему отняли ногу. Ей – руку. Десять месяцев они – парой – ишачили на «дядю», потом сбежали. Однако к тому времени легкая «травка», а потом и силком навязанный «герыч»– выжгли вместилища душ дотла.
Кое-какие деньги у них оставались. Как раз на пару смертельных доз. Однако что-то удерживало. В последние часы, лежа в каменном заблеванном закутке, они снова – все-таки филологи «с университетом» – говорили о буквах.
– Буквы страсти?
– Эль, точка. О, точка. Жэ, точка. Мягкий знак.
– Буквы жизни?
– Б. О. Г.
– Буквы ночи?
– С. Т. Р. А. Х. С. Т. Р. А. Х!
– Буквы неба?
– З. В. Ё…
– Буквы любви?
– У. Л. Ё. У. Л. Ё. Т.
Тягостный наркодым стлался по низу у трех вокзалов. Но, уходя к небу, – светлел, делался чистым, прозрачным.
– Гляди, – сказал водитель скорой водителю «канарейки», – вроде буквой лежат.
– Чего? – «канареечный» сержант зевнул.
– Как буква «Лэ» говорю, лежат они.
– Дались тебе эти буквы. Помог бы грузить лучше. Тяжкий улет живых еще «букв» – начался.
Ночь. Бесконечные множества звезд. «РЖД», «М».
ДВА ДУДУКА
московская новелла
«Когда с человека живьем сдирают кожу – он плачет. Сперва от обиды и гнева, потом от боли.
Когда вынимают жилы – медленно, моток за мотком накручивая их на палку, – он вопит. Ломают кости – пугаясь гадкого треска, – едва дышит.
Ну а когда содранные-вынутые-переломанные кожа – жилы – кости перетираются временем в пыль, от человека остаются только губы и пальцы.
Вот тогда-то Господь и дает ему в руки дудук! Тогда-то человек и начинает играть на этой волшебной дудке».
Саркис Геворкович – Сарик-джан – сидит на углу парковочной площадки, чуть сбоку от дверей ресторана. И если не играет, то думает.
Мысли его бегут кругами и все время возвращаются к одному и тому же: к морю, горам, к навсегда покинутой и теперь чужой столице, улегшейся перед штормящим Каспием, как хорошо загоревшая, знающая себе цену дама перед фотоаппаратом.
Мысли возвращаются к одному и тому же, а музыка – нет, не возвращается. Музыка плывет себе куда хочет. И никто, ни Сарик-джан, ни где-то в отдалении взлетающие и садящиеся ангелы-серафимы – не могут эту музыку зауздать и куда-нибудь по своим надобностям направить.
Сарик-джан никогда не знает, что он сыграет в следующую минуту, и от сладкой неизвестности будущего у него часто захватывает дух.
Дух захватывает и у тех, кто Саркиса слушает.
Звук дудука – как голос крохотного человечка, влезшего в дудку с девятью отверстиями, человечка лишенного костей, кожи и жил, – хватает за рукав, останавливает. Звук этот, вырванный из человечьего нутра, то ли пыткой, то ли какой-то великой неназываемой силой, – не похож ни на какой другой звук мира. И не хватает этому звуку только басовой основы, не хватает тянущего нескончаемую и тревожную ноту второго дудука.
Сарик-джан в Москве уже без малого двадцать лет.
Но привыкнуть никак не может. Родственники суетятся, торгуют, ездят отдыхать на озеро Севан. А он – нет. Он никуда не ездит, потому что ему нужен только один город. Но съездить туда, где родился, где теперь неулыбчивые чужие люди и не осталось, по слухам, ни одного армянина – он не может.
Раньше Сарик-джан был сапожником. Очень хорошим сапожником. Теперь он глава преуспевающего семейства и никем не работает. Да и какие сапоги, какие туфли-лодочки – в пятьдесят с лишним лет!
Сапожником он быть перестал, а человеком остался. И только один дудук оставаться человеком ему, кажется, ипомогает.
Но это сейчас дудук – главное. А двадцать лет назад, переехав в Москву, Сарик-джан о дудуке, на котором выучился играть еще в детстве, и вместе с которым его еще в конце 70-х приглашали в ансамбль армянской народной музыки, – и не вспоминал.
Да и до того ли было! Город огромный и шумный, город наполненный акающей речью, город, разъедающий дымом нежные слизистые оболочки, – пугал его. Тихо передвигаясь от лотка к лотку, он дышал, как вынутая из Каспия рыба, брошенная на кипящий маслом московский противень.
И только вечерами испуг проходил. Прохлада и умиротворение, опускавшиеся на Москву, опускались и на Саркиса.
Вскоре поверх жары и прохлады нарисовались два контура. Один – ломкий, засушенный, тонконогий; другой – с гривой волос, с изломанной какой-то болезнью спиной: русские, как и он, переехали с юга, с Кавказа.
Русских звали Семен и Савва. Они тоже были слегка придавлены Москвой. Но быстро нашлись: сойдясь на богатом привкусе коньяка «Ани», стали крепко – конечно, после работы – поддавать.
Это Семен стал звать его так ласково и завораживающе: Сарик-джан. И сперва Сарик-джан тоже пил (или – «вкушал», как говорил все тот же длиннющий, латаный-перелатаный Семен) вместе с ними. Но потом не выдержал, отвалился.
Говорливый Семен и молчащий Савва в таинственном сумраке московских ночей – а скорей, в огромной бочке коньяка «Ани» – растворились.
Сарик-джан остался один на один со своим испугом, с суетливыми и куда-то – уже совсем по-московски – вечно спешащими родичами, с великой и устрашающей пустотой впереди.
Тут-то он и вспомнил о старинном, с девятью отверстиями и двойной тростью, которую так приятно смочить губами, дудуке.
В деньгах Сарик-джан не нуждался. Не нуждался он и в одежде. Терпел даже жесткие, с неправильно рассчитанным подъемом и неудобным задником, туфли фабрики «Заря».
Ему ничего не нужно было!
Но слушатели ему были нужны. Дома внуки врубали «металл» и «рэп». Сперва Сарик-джан пытался в своей комнате тихонько этой музыке подыгрывать. На дудуке. Потом понял: выделанный словно из цельной человеческой кости и обернутый трепетной кожей дудук с «металлом» никак не сочетается.
Дудук был живой, «металл» – мертвый.
Сарик-джан устроился играть в ресторан. Сперва в русский, потом почему-то в латиноамериканский. Там слушали, свернув деньги трубочкой, пытались вставить их в отверстие дудки, хлопали по плечу, прищелкивали пальцами. Но настоящего понимания звука в этих ресторанах не было.
Как-то в случайном разговоре выскочил вдруг ресторан «Бакинский дворик». Сарик-джан хотел ехать туда немедля, сразу же. Но поостерегся: в «Дворике» хозяйничали враги, азербайджанцы.
Прошел год.
Сарик-джан боялся и унывал, но поехал.
Один раз в ресторане ему сыграть удалось.
Когда замолкла электрическая скрипка, он вдруг поднялся из-за столика, вынул из хозяйственной сумки дудук, взошел на маленькую эстраду и сыграл песню. Какую-то песню 30-х годов. Он забыл, что это была за песня, но точно помнил: не армянская и не азербайджанская. Песню он уснастил богатым орнаментом и завершил длинным низким звуком. Такой звук он слышал когда-то ночью во время отлива: Каспий уходил, его место занимала тьма.
Звук уходящего моря и наплывающей тьмы он и сыграл.
Его вежливо выслушали и так же вежливо – «мы же культурные люди» – указали на дверь.
Больше Сарик-джан в ресторан не заходил. Иногда только, приоткрыв дверь, заглядывал, чтобы поймать ноздрями запах настоящего бакинского кебаба.
У ресторана Сарик-джану играть никто не запрещал. За дверью ресторана земля была московская.
Сарик-джан стал через день играть возле ресторана.
Стояла дивная московская осень.
Она стояла уже третий месяц и никуда не собиралась уходить. И третий месяц Сарик-джан играл у стен ресторана, который, в свою очередь был водвинут в громадный, сладко нелепый, построенный какими-то кубиками еще в начале прошлого столетия дом.
Когда проходил трамвай, Сарик-джан делал паузу. А после паузы, чтобы его лучше слышали, подходил ближе к дверям. Денег он не брал. Если подавали или клали рядом, прервав игру, вежливо отказывался. Он играл и ему было хорошо. Однако чего-то и не хватало.
Вскоре Сарик-джан понял: ему не хватает второго голоса.
Этот мальчик появился неожиданно. Он три дня стоял рядом, три дня слушал. Кажется, он не умел говорить по-русски. Поэтому через три дня показал рукой: хочу играть.
Даже не особо присматриваясь, Сарик-джан понял. Этот неохотно разговаривающий мальчик кого-то ему напоминает.
И тогда он вспомнил один из эпизодов своей давно прошедшей, а может быть, уже и давно закончившейся жизни.
Вспомнил смерть одной знакомой девушки, вспомнил, как кручинился несколько лет.
Девушку звали Айгуль. Она была азербайджанка. Жила – не то, чтобы близко от Саркиса, но и не слишком далеко. Айгуль любила гулять по набережной близ нефтяных пятен и бирюзового моря. Однажды она любовалась мачтами сухогруза и поднятой им мелкой, цветной от нефти волной. Сарик-джан подошел, и они познакомились.
Была весна, середина мая.
– Ты предаешь свой народ, – говорили Саркису родственники. И еще:
– Это так же противоестественно, как если бы человек любил ослицу. Ты можешь с ней – с ослицей – забавляться, но любить ее не смеешь, нет!
Даже говорили:
– Выкинь эту несчастную из головы, а не то мы вышвырнем тебя из дому.
Но выкидывать не пришлось.
Ровно через месяц девушка Айгуль утонула. До 19 лет ей не разрешали купаться в море. Наконец, разрешили, она поехала с подругами в Шихово и там в первый же день утонула.
Было тогда Саркису двадцать семь. Следующие восемь лет прошли в неясном томлении. Наконец Саркис женился. А через четыре года грянули бакинские события. Пришлось вместе с двумя малыми детьми, минуя выставленные у аэропорта танки, минуя зевачий – сперва развеселый, а потом разъярившийся – люд, бежать на Север.
Началась другая, вовсе не схожая с прежней жизнь.
Сыновья рано женились. Пошли внуки. Все привыкли, а Сарик-джан – нет.
И вдруг теперь – этот мальчик. Нежностью движений и желтовато-оливковым лунным лицом он был похож на Айгуль, мог быть его внуком. Сарик-джан гнал от себя эту мысль, как недостойную ни его самого, ни его многострадального народа.
Но до конца избавиться от мысли не мог.
На следующий день Сарик-джан принес к ресторану второй дудук. Для мальчика. Однако никакого учения в тот день не вышло. Мальчика заперли в ресторане, где он прислуживал, и выходить не велели.
Так прошло три дня. Сарик-джан играл, делал перерывы, опять играл. И все время поглядывал на длинную сумку с торчащими вверх ручками, в которой хранился второй дудук.
Через три дня мальчик кое-как спустился из окна второго этажа, подбежал к Сарик-джану, улыбнулся и сразу протянул руку к лежащему в сумке второму дудуку. Он ухватил инструмент одной рукой и, смешно надувая щеки, стал что было сил дуть в него.
– Э, нет, – проворчал Сарик-джан. – Тут ведь уметь надо.
Светило солнце, по-прежнему было очень тепло. Сарик-джан прямо на улице стал учить мальчика игре на дудуке. Уже через день мальчик важно выводил один и тот же звук, а Сарик-джан завивал кольца неистребимой, как страсть, мелодии.
Музыка сразу пошла другая.
Первый дудук налегал волной, потом звук его уходил в тишину и становился как дым: истончался, пропадал.
Второй дудук тянул нескончаемую, как любовная грусть, ноту.
Первый дудук звенел трамвайной дугой, хохотал, покрякивал.
Второй – как горбатый черный баклан висел и висел над пустынной набережной.
Первый – ниспадал и развеществлялся.
Второй был бесконечен.
Первый был человеком, потерявшим кости, жилы и всю, до последнего лоскутка, кожу.
Второй – чувствовал себя молодым, вечнозеленым деревом, врастающим потихоньку в московский шум и гам…
Люди из ресторана играть не мешали. Мальчик был ничей. Хотя и своекровный. Но какой-то полунемой, туповато на все, кроме музыки, отзывавшийся. Ну а старый армян не стоил того, чтобы пачкать об него руки.
Однажды они припозднились. Играли с перерывами на пирожки и легкую уличную дрему – почти до пяти вечера. У мальчика от важности исполняемого дела высоко подымались плечи. У Сарик-джана от усталости немели щеки, сох рот, уходила слюна.
Вдруг мимо проехала черная здоровенная, торжественная, как катафалк, машина с квадратным кузовом. Машина подрулила прямо к ресторанным дверям. Из катафалка медленно, едва не расползаясь по асфальту, вылез на свет Божий посетитель с двумя охранниками.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.