Текст книги "Лигр"
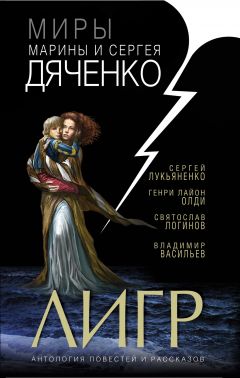
Автор книги: Борис Харькин
Жанр: Книги про волшебников, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Там был покой.
И тишина.
* * *
Сон был долгим и мягким – в тугой пелене было темно и сладко. Куколка цедила капли телесного блаженства, чувствуя, как зудят и заживают раны на теле, как мерно и спокойно бьется сердце – не людское, а исковерканное природой, качающее черную жидкость, затаившее в себе обиду. Помнящее боль и отчуждение, каждый удар, каждое гневное и испуганное слово. Сердце, которое все пыталось затянуть невидимые дыры, но никак не могло этого сделать.
Все это долгое время, засыпая и пробуждаясь, она мучилась лишь одним вопросом: «За что?»…
* * *
Плыть большим, могучим, обтекаемым телом, взрезая воду, было приятно – погружаешь на глубину и уходишь в сплошное спокойствие, выныриваешь, подставляя округлые бока солнечным лучам, ощущаешь тепло на коже. Сказка.
Первое время, помня страшный опыт, они уходили далеко-далеко от берега и резвились в волнах, обдавая друг друга фонтанами и расслабленно балансируя у самой поверхности. Питались рыбой, скрывались от чадящих черным дымом, ободранных и ржавых редких катеров.
Однако все когда-то надоедает и съедается скукой – не выдержав соблазна, они небольшой стайкой подплыли к берегу, к его скалистой стороне, где редко можно было увидеть заблудшего человека. Песок золотило светом, скалы краснели рудой, кое-где чахлые деревца посылали на воду изумрудные блики. Она поплыла на мелководье, издалека увидев в воде босые темные ноги, поднимающие муть резкими движениями стоп. Сородичи испуганно гудели ей вслед, но она не оборачивалась.
Серебристый блеск волос видно было даже не зрением, сколько чем-то старым, давно похороненным в сердце, быстро и сильно качающем черную кровь. Запахло морской солью, выбелившей торчащую из воды скалу, страхом вкупе с человеческой паникой, и дымным жарким воздухом.
Она окунулась в прохладные воды моря, чуть остудившие пыл и упокоившие широким поглаживанием по черной, огромной спине.
– Дальфины! – закричал мужчина, сидящий на камнях, далеко от нависающих скал, у самой кромки, где светлое мелководье с некрупным золотистым песком уходило в чернеющие глубины. Он подставил ладони рупором, усиливая звук, но голос его был негромким и бесцветным. Призывающим, но опустошенным.
Дальфин.
Так она узнала, что стала дальфинихой.
Подплыла, немного опасливо косясь маслинами глаз, но желая поддаться тому всепоглощающе восторженному, одержимому взгляду, когда утлая лодка уносила его все дальше и дальше от черного, тонкого тела. Доверяла этому взгляду.
Дальфиниха подплыла близко, почти касаясь обтекаемым боком худых голых ног с поджатыми бело-серыми пальцами. Он протянул руку и бережно, осторожно коснулся ее глянцевой, гладкой спины, в то время как лицо его оставалось бесстрастным, каменным. Она вытянула голову над поверхностью, моргая влажными глазами, и примолкла, вглядываясь, пытаясь разгадать его загадку.
Теплая человеческая рука гладила черную кожу, окуная пальцы в морскую воду. Его торчащие в разные стороны, седые, светлые волосы стали гораздо короче. Неровно обрезанные, они заметно потускнели, но их слабоватый блеск отражался в черных зрачках дальфинихи, дробясь мелкими камешками света.
Откуда-то со скал доносился слабый дымок костра и жарящегося мяса – дальфины на горизонте опасливо били хвостами по поверхности и фыркали водой, но на вершине людей не было видно, и дальфиниха оставалась у человека, подставляя громоздкую морду под его ладонь.
Молчание не было тягостным или давящим, мужчина был погружен куда-то глубоко в себя, дальфиниха наслаждалась кратким моментом спокойствия. Его рука успокаивала, даровала поддержку и чувство единения, которого ей так не хватало в черных глубинах. Просто быть кому-то нужной, с кем-то связанной общим прошлым и разделять краткие мгновения настоящего. Вот так, в молчании и солнечном свете, соединяясь касаниями. Море мерно и тихо бормотало, убаюкивающе слизывая со скал наросшие буроватые водоросли.
– Эх ты, дальфин, дальфин… Плаваешь себе, таращишь глаза, а вся ваша наука… Все мои исследования… А, к черту! – Он отдернул руку и спрятал лицо в ладонях, раскачиваясь как маятник. Дальфиниха окунула голову, смачивая ссохшиеся глаза, и вновь вынырнула на поверхность, практически укладываясь головой на колени к нему. Мужчина одним глазом, сквозь пальцы, посмотрел на нее и буркнул тихонько:
– А жена моя и сестренка младшая не пережили этой мрыги… Пока я с камерами за вами по всему морю носился, их разорвали глефы… Иронично, правда? – Улыбка тронула его губы, но глаза оставались холодными, а руки начали едва заметно подрагивать. – Стоит ли вся эта наука жизни моей жены, моей сестры? Стоит, наверное, в глобальном смысле, а так – да черт его знает.
Она молчала, только касалась кожей человеческого тепла, пытаясь продлить моменты спокойствия. В его голосе было столько обжигающей боли, что сердце вновь испуганно застучало, но то, как он себя с ней вел, как не боялся и не причинял боли, заставляло ее держаться рядом, надеяться, что это не окончится мгновением.
Он размашистым движением последний раз провел по ее голове, едва ощутимо щелкнул по носу и поднялся на ноги, натягивая на влажную кожу стоптанные кроссовки, и начал выбираться из скал на берег. Перепрыгивая на каждый новый камень, он все больше сутулился, будто придавливаемый грузом возвращения от бесконечной морской глади в обугленные городские руины, все еще хранившие в своих недрах прах и кости. Она плыла за ним, рядом, низко гудя, пытаясь привлечь внимание, пока брюхо не заскребло колючим песком, а солнце не стало прижигать пологую спину. Он карикатурно балансировал, шагая со скалы на скалу, пошатывался и пару раз чуть не свалился в воду, но все же добрался до отвесного склона и начал взбираться на него – худой, костлявый, скрюченный.
На берегу стояли люди – их группки на такой высоте выглядели черными столбиками. Они стояли почти неподвижно, очень тихо перешептываясь, все еще пытаясь поверить в то, что видели пару мгновений назад. Как совершенно сумасшедший мужчина ладонями обнимал огромного дальфина.
Он поднялся на вершину – его подхватывали под руки, помогали забраться, и вот он уже стал одним из пятнышек – черным, едва различимым, вытянутым. Поднявшись, ни разу не обернулся.
Она уходила в море с сородичами, чуть отошедшими к горизонту, испуганно трубящими, но все же не бросающими ее на произвол судьбы. Они плыли медленно и степенно, уходя все глубже и глубже, погружаясь к темному, но такому спокойному дну.
На сердце у дальфинихи было тяжело. Она и сама не знала, почему это грызущее чувство прочно обосновалось в ее нутре, но каждый раз, вспоминая потухшие глаза и жалкую улыбку, ей вновь хотелось выйти на берег, подняться на своих с трудом разгибающихся коленях и сделать пару шагов ему навстречу.
Сама не зная почему.
* * *
Снова темнота, буравящая едва различимое топкое дно, на котором колышутся большие, полупрозрачные, заполненные студнем яйца. Стоят близко-близко друг к другу, прижавшись выпуклыми боками, будто хотят согреться. Огромные тонкие черные глефы вот-вот разорвут оболочку и вынырнут в первый раз, увидев над головой россыпи звезд и чадящий город неподалеку.
Счастливые.
Сколько у них еще впереди.
Она проплыла над ними, огромная, неповоротливая, громоздкая, и задумалась на мгновение – смотрит ли кто-то на нее сейчас, в темноте, полуслепыми глазами сквозь тонкие веки? Как когда-то она, свернувшись в тугой клубочек, провожала взглядом неясную тень гигантского материнского тела, плывущего сквозь ледяные воды?
Она и не заметила, как выплыла на поверхность – там едва-едва зарождался рассвет, и робкое солнце вышелушивало из темных волн всю стужу, лаская багрянцем линию горизонта. Дальфиниха подпрыгнула, купаясь в робком свете, чувствуя, что осталось недолго. Ее жизнь подходила к концу, и ей хотелось взять от этого мира всю его свежесть и весь этот цвет. Все тепло.
Резвясь в волнах, она слишком близко подплыла к берегу, и слишком поздно заметила замершего на небольшом возвышении мужчину, приложившего ладонь козырьком ко лбу, прикрывая глаза от солнца. Он крепко стоял на земле, широко расставив ноги, выпрямив спину и выставив первым лучам широкий живот. Он заметно округлился за почти двадцать лет, и в первое время она его даже не узнала за этими торчащими щеками, широкими руками и всей фигурой – он стал более статным, спокойным в движениях и позе.
Она прыгнула прямо перед ним, кувыркнувшись в воздухе, как самый обычный дельфин, подставив брюхо теплу, выгибаясь и показывая – я тоже не просто так провела все это время, видишь. Может, ей показалось, но он улыбнулся – широкая ухмылка спокойно, как влитая, легла на лицо.
Из разномастной палатки на вершине вынырнули две девчушки, лет по семнадцать, с заплетенными косами, хохочущие, быстрые, тоненькие. Они подлетели к нему и повисли на шее, тесно прижимаясь, ощущая надвигающий апокалипсис, испуганные, но искренне любящие. Увидев дальфиниху, испугались, спрятались за спину, а он объяснял им что-то тихо, неторопливо, спокойно.
Девчушки с интересом разглядывали ее огромную тушу, и она отвечала им тем же.
Дальфиниха вынырнула у самого берега, задирая морду, прощаясь с его дочерьми, с миром вокруг, с ним. Он был первым, кого она увидела, – молодой двадцатилетний парнишка, юный, самонадеянный, верящий в бесконечную пользу науки, уже успевший обрести огромную любовь и поклясться в вечной преданности, обрести надежду и потерять ее в тот же миг. Он же стал и последним, кто встретится ей в этой жизни – сорокалетний мужчина, уверенный в себе, довольный жизнью, сделавший свой выбор и считающий его единственно верным. Главное, что теперь он четко знал, чего хочет в жизни и за что будет бороться.
Семья. Он обрел себя в ней и искренне был в ней счастлив.
Он кивнул ее мыслям, обнимая дочерей за плечи, и направился к палатке. А она вновь поплыла в глубину, ощущая смутную радость от того, что жизнь теперь его полна смысла. И этот, в целом совершенно незнакомый ей человек был очень дорог ей, может потому, что встречался в самые важные моменты, которые навсегда отпечатались в ее нутре.
Дальфиниха плыла и плыла прямо в солнце, которое выглядело лишь пятнышком на ненатуральном, почти картонном небосводе, вспоминая широкую мужскую фигуру, и перед глазами ее возникала сама собой надпись: «Новый цикл – новая жизнь». Она вспоминала. Затертый плакат в почтовом ящике в подъезде, где пахло кошками и борщом, крошечные сандалики, шелест листвы в парке после полудня, жаркое солнце на пляже, где песок забивается даже в самую душу. Вспомнила горячий воздух, удушливый жар, земную тряску и огромную волну.
А потом вспомнила черноту, и прохладу яйца, и первый вдох кислорода, и небольшой ободранный катер, качающийся на волнах.
Она прощалась с миром и плыла все вперед и вперед, далеко-далеко, где не кружат чайки, не плавают пакеты и не слышен людской гул. Плыла, а мир вокруг нее все светлел и светлел, теряя сумеречные тона. Колкая боль в душе растворялась талыми лужицами, принимая в себя спокойствие и гармонию перед скорой встречей со смертью. Прощая.
Над городом в последний раз в этом цикле поднималось солнце.
Татьяна Тихонова
Второй
Короткая и пронзительно трагическая повесть «Волчья сыть»: история цивилизации разумных… нет, не просто овец – агнцев. Повышенно стадных, непоправимо кротких. Беспомощных перед хищником. Но при этом способных мыслить, чувствовать, творить. Иногда даже – приносить себя в жертву.
Что им делать, если привычная, много поколений действующая защита от волков вдруг перестала работать? Уйти под защиту людей, прекратить быть самими собой, через еще несколько поколений сделаться обычными овцами, «неразумными»? Многие действительно уйдут, решив, что это все-таки лучше, чем смерть здесь и сейчас. Да что там многие – абсолютное большинство!
Но будут и те, кто останется.
Солнце клонилось к горизонту. Тени выстраивались возле приземистых домов, громоздились друг на друга. Небо белесо-голубое, в разводах, будто кто пролил в него молоко, да так и оставил… Скоро придет третий, сменит. Иначе нельзя. Иначе сон возьмет свое, а это беда.
– Сейчас ты меня не понимаешь, тебе все равно, – говорил десятник Гул, его лицо добродушно шевелилось бровями, щеками, редкими колючими усами, – ты был слишком мал, чтобы помнить. Но когда увидишь, как волк рвет кого-то из своих, как кровь хлещет из того, кто вот только что дышал и жил, вспомнишь мои слова. Не спи. За нами город, клан воинов – это все, что защищает его от волков. А они совсем озверели в последнее время. Зла такого и старики не помнят.
Второй мрачно смотрел на лес. Глаза его, близко посаженные, внимательные, будто цеплялись придирчиво ко всему. Вытянувшись вперед, он прислушивался. Тревожно встряхивался и опять замирал.
Развалины большого города лежали чуть правее, вдоль реки. Жители давно ушли оттуда. Выстроили частокол и укрылись за ним. Чтобы спасти детей и своих близких. Теперь все живут вот за такими стенами. Маленькие поселения разбросаны по степи и над оврагами.
Пришли в упадок города, дороги, школы, больницы – все, чем гордились. Теперь можно только растерянно удивляться некоторым вещам… неужели мы такое умели. А люди… а что люди… их никто не видел, ни Второй, ни его друзья. Только старики рассказывали, как рассказывали им. Будто бы один безумный ученый, добравшись в эти места, долго жил здесь. Изучал жизнь разумного и неразумного стада. Вел беседы со стариками.
«Ходили слухи, – говорил Ученый, – что разумные стада давно исчезли, часть ушла к людям, часть съедена волками, часть ассимилировалась и уже и не помнят своих городов! Потомки Молли, кто бы мог подумать! Ну разве можно так бояться волков?» – удивлялся он.
Подолгу закрывался в лаборатории. А потом объявил, что получил химеру, состоящую из волка и одного из неразумных. Кто же не знает, что такое волк. Все знают – зверь, ночной ужас. Ясно-понятно, кто такой неразумный. Жующее, шелковистое, пасущееся, сонное, вот что это такое. А что такое химера, никто не знал, и посмотреть ходили все. Это существо поселилось на цепи возле дома Ученого. Обросшее серой шерстью, оно походило на неразумного, было невероятно добрым и глупым, а однажды спутало руку кормящего с едой.
Тогда Ученый сказал, что не будет больше так рисковать, он сделает проще. Через некоторое время народ зашептался: «Ученый-то теперь мальчишку, сироту, что без руки остался, серым сделал, совсем как того, на цепи. Что же это творится?»
Ученый же лишь улыбался: «Ничего ему не сделается, а страха у него не будет». Часто выводил мальчишку на крыльцо своего дома. Мальчик видел в толпе детей, бежал к ним. А дети пугались его. Он был выше всех, широк в груди, неловок. Быстро набирал скорость. Ногами тяжелыми и мосластыми подминал под себя двор, взбивал пыль, с радостью нарезая круги за сверстниками. Смешной, неуклюжий. А в глаза заглянешь, оторопь берет – там непонятное.
«В моей груди сердце волка». Так рассказывал тот, который остался без руки. А что там было у него в груди на самом деле, никто не знал. Поселение, где все это случилось, стояло почти у границы с землями людей. Было меньше всего разрушено, стена вокруг него высилась каменная. Время от времени десятник Гул собирал мальчишек, оставшихся без семьи, и уводил туда.
Второй вздохнул. Что бы ни билось сейчас в его груди, то время вспоминалось хорошим. Там, в том времени, еще живы все его друзья. И Луг, и Мел, и Туман. О них очень заботились. Они много тренировались, учились защищать, и были надеждой. Они и теперь – единственная надежда…
Сменщик пришел вовремя.
– Пока далеко, – сказал Второй. – За дальним яром.
Тот кивнул. Говорить больше ничего не хотелось. Да и что говорить, вой протяжный и многоголосый тянулся вот уже часа три, едва из леса поползли сумерки. Но так было каждый день. Каждую ночь. Ко всему привыкаешь.
Второй спустился по теплым, нагретым за день бревнам. Дорога, перемолотая сотнями ног, усыпанная сладко пахнущей и колкой соломой, петляла среди домов. Выпала роса. Второй изредка встряхивал головой, раздраженно щурился.
Он торопился, прислушивался по привычке. Пока вой не смолк, пока не перешел в хриплое дыхание приближающейся стаи.
Стадо – оно и есть стадо. Погибают крайние, потом следующие крайние, потом следующие за ними крайние. Хочешь выжить, живи в стаде. Локоть одного чувствует локоть другого. Упал один, второй подхватил его ребенка и вырастил. На том держится город. Когда город решил сделать своих крайних подобными волкам, Второй не знал.
«Знание как колючка, застрявшая в шерсти, – говорил Лидер, – ни самому покоя, ни другим. Но с паршивой овцы хоть шерсти клок, в ученые, в ученые их. Отдельный дом, отдельные ясли их детям, чтобы не мешали другим. Одиночество, что может быть хуже. Стадо спасает от одиночества».
Лидер. А раньше, говорят, был другой Лидер. Кто его знает. Раньше вообще не было разумных и неразумных, стриженых и нестриженых, было одно стадо, с которого люди брали шерсть и мясо. А у людей, говорят, вообще нет стада. Значит, он, Второй, и есть человек? Не нужно было ему стадо. Мешали ему локоть справа и слева. Но воины все такие. А может, это волки такие. И он, Второй – теперь тоже волк? Волк он и в стае может, и один неплохо перебьется.
Второй шел, втянув голову в плечи, привычно считывая все звуки и запахи, усиленные в десятки раз. Они гудели в голове, как пчелы в улье в жаркий июльский день.
Разговоры тихие в домах, у стола за вечерним чаем… Ших-ших – чиркают по траве его шаги, отражаясь от стены дома… Легкий вздох ребенка во сне в замкнутом глухом пространстве спальни без окна… Мягкое и тихое – радость… надо же, тепло какое… Шшшш – шелест травы придорожной идет мусорно и надоедливо, режет кромкой ненужного звука картинку на части…
Город небольшой, улицы темные и узкие. Слышно дыхание сотен жителей. Спокойное и ровное. Слух на дежурстве обостряется, и чутье делается звериным. Хотя откуда живущему в стаде знать, какое оно на самом деле у зверя. Уж точно не такое, как если возвращаешься из отпуска, когда долго не видел крови. Тогда мир вокруг кажется тихим, укутанным пуховым одеялом облаков, звенит кузнечиками и дышит разнотравьем, ты сыт и полон этим миром, самим собой и Дымкой.
А тут запахи и звуки гремят, обступают, тревожат, держат начеку. Будто стоит туманище, ты никого не видишь, лишь чуешь, как капает голодная слюна за спиной…
Ночь тихая и безветренная. Запах сена тревожит, спать не хочется. Дойти до сенных валков и тепличных улиц. Здесь никого. Только там, возле качелей, у яслей, виден тонкий, будто хрупкий силуэт. Дымка поеживается в ответ, мягко смеется. Трется щекой о щеку. В ее шепоте улыбка, знает, что он и слова не может сейчас сказать. Потом. Ее дыхание, запах накрывают его с головой. Снова и снова тянутся друг к другу. Уснули только под утро.
Разбудил дождь. Но в сене тепло. Не хочется ни о чем думать, лишь лежать и сквозь шорох капель по сену слышать дыхание Дымки.
В этой сонной тишине послышались шаги. Кто-то быстро идет, останавливается и снова почти бежит. Но десятника не узнает по хромоте только новобранец. Здорово ему тогда досталось, он об этом ничего не рассказывает.
– Отставить меня жалеть, устроили тут, понимаешь! – заорет на тебя и добавит тихо, уставив взгляд куда-то сквозь тебя: – Тогда просто досталось всем, парень…
Сейчас Гул бежал, припадая на больную ногу, касаясь всего, что могло удержать его в равновесии. Слышно, как раз-другой задел за валки, тихая ругань, опять упор в мокрую балку, поскользнулся.
– Второй! Ты где, волчья сыть… чую ведь, рядом… найду…
– Здесь я, не кричи.
Что-то случилось. Второй обернулся, Дымка, взъерошенная и сонная, с тревогой следила за ним. Еще бы, вся семья вырезана волками, в общественных яслях они вместе воспитывались. Тогда ученые и отобрали сирот-мальчишек для отправки к людям. И имя тогда же отобрали.
– Ненавижу твое имя, – сказала однажды Дымка, – буду звать тебя Дым, как деда моего звали.
Это старый Дым ей рассказал, как в давние времена целый Город ушел к людям. Помощь им обещали и защиту от волков. Сначала за стрижку, а потом и за мясо. «Как такое возможно!» – возмущенно хлопала доверчивыми глазами Дымка.
Встречи их были украдкой: «Можно, но лучше нельзя», – говорил об этом Гул.
Нельзя привязываться ни к кому. Крайние. На погибель первые. Капканы ставить, волка чуять да первыми полечь или кровь отравленную по волчьему племени пустить – это можно, потому что нет страха перед волком. А дети и женщины в подполье успеют спуститься. И город жить будет.
Второй поспешил за десятником по дороге, ведущей из города. В домах еще не горел свет, тихо падали капли с деревьев после ночного дождя, с огородов на крышах тянуло укропным духом. Где-то послышался стук калитки. Звуки мирные и тихие, и не подумать, что рядом случилась беда. Но Гул просто так не прибежит.
Ступали они неслышно, шли друг за другом, присогнувшись. Десятник был пониже ростом, шире, и седой совсем – шкура его будто солью присыпана. Взгляд тяжелый из-под лохматых бровей скользнул по Второму неприветливо.
– Поможешь мне. На Клеверной дом ночью вырезали. Шестеро. Все капканы обошли, но один попался. Еще живой, матерый, ученым надо переправить его. Боюсь, один не справлюсь. Дрыхнете все на точке, гады.
– Сам там постой, когда от запаха воли выть хочется, – огрызнулся Второй.
– Опять свое завел, «воля» ему… Вот погонит стадо прочь от себя, один останешься, почуешь тогда волю… Воля… Овца ты в волчьей шкуре, посмотри на себя… Третий вон, наверное, тоже на волю захотел.
– Где он?
– А нет его. Вышка пуста. И след простыл.
Второй и десятник замолчали. Перешли на рысь. Гул скрылся в плотной стене сырого тумана.
Сквозь мокрые белые клочья пелены послышалось дыхание бегущего. Прерывистое. Гонит быстро и легко. Дух звериный, тяжелый, идет от него. Молодой волк, голодный. Жадно тянет носом воздух, встряхивается, слышно, как шебуршит шкура от холки до копчика. Фыркает, зло выдыхает. Звуки гремят, надвигаются, ноги зверя подминают торопливо дорогу под себя. Ближе, еще ближе. Шаг бегущего сбился. Утробный голодный зевок. Клацнули зубы.
Десятник где-то впереди, в тумане, захрипел. Потянулся острый запах близкой крови. Страха нет, придавливающего тяжестью исконного страха жертвы, что помнится с той страшной ночи. Когда он, совсем ребенок, заползши в щель между сундуками и припав щекой к шершавым доскам пола, ждал. Но сытый волк лишь всосал шумно воздух над ним, постоял, качнув большой, мокрой от крови мордой. И ушел. Повезло, тогда просто повезло.
Сейчас густая влажная пелена заволокла все вокруг. Появились из тумана ноги, вымахнули из белых клочьев, разбрасывая в стороны гремящие, хлюпающие и чвакающие сырой травой звуки. Скрежет врезающихся в землю и корни когтей. Опять зубы лязгнули.
А страха не было. Была ярость, захлестывающая волной, перехватывающая горло в странный рычащий звук, сужающая мир до точки впереди, до цели.
Второй боднул в толстые шишки коленей. Подпрыгнул и хрястнул ногами в грудь отлетевшему на спину волку. Раздался хруст. Волк хакнул, вскинулся тяжело, начал подниматься. Следующий удар ногами пришелся по голове зверя.
«Если не ты, то тебя, – говорил всегда Гул, когда мальчишка медлил в тренировочном бою, жалел противника. – Вот сейчас стоишь столбом, как дурак последний! А он тебя опрокинет за ноги, да в глотку. Сам сдохнет, но и тебя прихватит. Бей, говорю!»
Волк захрипел и откинулся, уставился, застывая, в моросящее дождем небо.
Второй дернулся в сторону, в туман. Покатился под уклон с дороги, скользя по мокрой траве. Запах десятника, резкий, клокочущий, чуялся совсем не далеко. Запах Гула, и не только. Волк, еще один, совсем близко. Они всегда идут из леса цепочкой, один за другим обходят стену, ищут…
На галечной отмели, возле ручья, вывернувшись неловко, лежал Гул. Живой. Точно живой. Кровь из порванной груди толчками выпихивалась, собираясь в лужу и тут же впитываясь в землю.
Видно было, как десятник полз, кровавый след тянулся к капкану. Гулу повезло, очень повезло. Глаза волка, злые, набрякшие болью, встретились с глазами Второго. Зверь ощерился, захрипел, шерсть на загривке встала дыбом. Вскочил и потянул капкан за собой, завертелся вокруг железяки, взвыл, прыгнул в сторону Второго. И свалился как подкошенный. Перебитая кость осколком торчала из ноги.
Этот подождет, никуда уже не денется. А вот Гул…
– Брось меня, Дым, – просипел Гул.
– Здесь недалеко… Бросить, ага… ты бы меня бросил? Молчишь… Вот то-то же, – прохрипел Второй, взвалив на себя десятника. – Отъелся ты в отпуске… Ты лучше скажи, откуда имя мое знаешь?
Тот молчал.
Серый день в приемном покое сеялся сквозь старые, изношенные жалюзи, отпечатывался полосами на деревянном исшарканном полу. Больница и все в ней давно пришло в упадок. Врач, казалось, тоже пришел в упадок, так он был стар – невысокий, совсем седой, одетый в когда-то белый комбинезон. Грустно сказал:
– Сегодня уже восьмой.
Глаза его, выцветшие и строгие, скользнули по лицу Второго. Быстро, будто невзначай. То ли боясь обидеть неловким любопытством, то ли опасаясь понять что-то.
Старик отвернулся и начал ножом разрезать разорванную в клочья одежду десятника. Второй молча шагнул к столу, стал помогать. Гул дернулся, застонал, кровь вытолкнулась из рваной раны на груди.
– Тих-тих, – прошептал Второй, но тот опять провалился в забытье.
Когда одежда была убрана, лекарь строго сказал:
– Теперь я сам.
Но не прогнал. Принялся очищать раны. Инструменты звонко стукали, падая в лоток. Наконец врач наложил последний шов:
– Тяжелая рана, Второй, у твоего десятника. Мы не умеем лечить такие. Порвано легкое. Вряд ли выживет. Другой, обычный бы точно не выжил. Но вы не такие, как мы, парень. Будем надеяться и ждать. Может, волчья суть живучее будет. Третьего тоже два часа назад за стеной нашли. Вернее, то, что от него осталось. Каждый день волки приходят. Хочется, чтобы не наступал новый день… чтобы больше никого не терять…
Второй молчал. Глаза его устало следили за руками врача. За уверенными движениями, которые, может быть, принесут десятнику жизнь.
– Научи меня, – вдруг хрипло сказал он. – Я не хочу больше убивать, старик. Я буду старательным учеником. Буду помогать тебе.
Врач растерянно посмотрел на его забрызганное кровью, серое лицо. Покачал головой:
– Как же тебя звать, парень? А то все Второй да Второй. Ведь есть у тебя кто-нибудь, кто зовет тебя по-другому?
– Зови меня Дымом.
– Значит, Дым. Хорошее имя. Но вот ведь какое дело: пока ты есть, Дым, мне еще есть кого лечить. А взять тебя в ученики – потом… когда-нибудь. Когда придут лучшие времена.
Второй видел, что лекарь еле находит силы, чтобы не отвести взгляд, не обидеть. От напряжения задрожала его рука, державшая блестящий инструмент. И Второй опустил глаза.
– Ты прав, старик, – сказал он и пошел к выходу.
Оказавшись дома, Дым лег на пол, свернулся, подтянув колени к животу. Закрыл глаза. Мельтешило красным, белым, черным. Зеленая трава смешивалась с кровью. Мелькали лица, лица. Волк, Хозяин, Лидер. Дымка. Мама… Ярость душила. Гремящая, чужая. Дышал, будто бежал. Конечности вздрагивали. Открыл глаза.
Белая-белая стена.
Тень от вешалки, похожая на дерево.
Качается лампа.
И дерево-тень качается.
Качается и качается.
Скрипит и скрипит.
Встал на карачки и добрался, не поднимаясь, до родительского сундука. Стал рыться, искать. Там хранилось все, что осталось от отца с матерью. А осталось все, волки ничего из вещей не брали, они просто хотели насытиться.
Тряпки, тряпочки, полотенца, покрывала, мамино, отцово, сестренкино, тряпочная кукла, самая любимая, это не нужно, не то, опять не то, вот… Дым усмехнулся сам себе. Никогда в голову не приходило, что это понадобится.
Баночки с краской, засохшей и поблекшей от времени, стояли пирамидками на самом дне сундука. Отец однажды их принес с похорон друга, долго ворчал о том, как надо жить, чтобы потом, у самого края, жалеть о прожитой впустую жизни, и засунул в дальний угол сундука оставленное ему другом «на память».
Дым развел водой синюю краску. Краска помягчела, стала похожей на глину. Потом добавил воды. Широкие мазки легли на белое. Рукой – кисти нет. Перепачкался весь.
Известь подсыхала быстро. Синий на извести посветлел. Стал белесым. Легким и прозрачным. Облаком. Дым задохнулся. Появилось ощущение неба. Его собственного. Неба, которое никто, кроме него, не видел. Почему-то это сейчас было очень важно. Ведь когда говоришь с другом… с матерью или с отцом… есть такие разговоры, когда никто не нужен. А с Дымкой такие разговоры были все. С ней даже молчание было таким. Только для них двоих.
Дым быстро наносил мазок за мазком. Зеленый… не тот… еще… нет… все очень просто… Белый-белый свет, голубые облака, зеленая трава и тощие перелески там, вдалеке, отчего кажется, что мир никогда не кончается, он уходит туда, за горизонт, и еще за один горизонт… а если за этим горизонтом есть еще один и еще, если солнце встает сегодня, а завтра приходит вновь… это очень похоже на то, что у кого-то есть план. Значит, все это кому-то нужно. И он тоже, вот такой, у этого самого горизонта, тоже кому-то нужен…
Дым лег на полу под своим небом. И уставился открытыми глазами перед собой.
Нет первого, третьего, седьмого и десятника. Его очередь быть десятником. Это ничего. Мальчишки в школе воинов славные.
Вдалеке раздался звук отбиваемой смены. Дым умылся наскоро, переоделся в чистое, оглянулся на свое небо. Вышел на улицу. Начинало светать. Дышалось легко, легко шагалось, мокрая трава клонилась к земле, но солнце уже припекало, и легкий пух с иван-чая поплыл в воздухе. Вспомнились слова лекаря: «Когда придут лучшие времена…» Никогда они не придут, старик, эти самые лучшие времена. Никогда не придут… Если ничего не делать.
В больнице было тихо. Остро пахло лекарством, которым вчера лекарь обрабатывал рану, и горячим сытным варевом. Дым понял, что он давно не ел, со вчерашнего дня, и тут же забыл.
В приемном покое на диванчике дремал лекарь, скрестив руки на груди, посвистывая тихо на выдохе. Услышав шаги, шевельнулся, сощурился на солнце и строго спросил:
– Чего тебе, Дым? Спит твой десятник. Недавно проверял.
– Я пришел учиться. Есть работа для меня?
Лекарь только вздохнул. Сказал:
– А пойдем-ка перевязывать. Лоток держать будешь с инструментом, потом судно, потом завтрак. С ложечки кормить умеешь?
– Научусь, – упрямо сказал Дым. – Сейчас на смену схожу и вернусь. Сюда.
Старик рассмеялся.
Дым улыбнулся. Потом подумал, что с самого прошлого вечера, когда встретился с Дымкой, не улыбался. Будто много-много лет не улыбался. И тоже рассмеялся. Как если бы он был очень долго в темной комнате, искал то свечу и кресало, то дверь. И вдруг дверь открылась. Еще неизвестно, куда она и зачем, но стало хотя бы светло. И он не один в этой темной комнате, с ним Дымка, смешной старик лекарь и Гул…









































