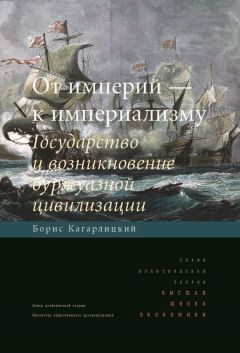
Автор книги: Борис Кагарлицкий
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Европейские банкиры XV–XVI веков (Аугсбургские Фуггеры и др.) активно кредитовали королей и императоров, и именно работа с этими крупными клиентами (а не со средней руки предпринимателями) вела к бурному развитию частных финансовых учреждений. Города-государства позднего Средневековья, где зародились подобные банковские дома, вскоре оказались слишком малы для их развития. Как отмечает Грамши, невозможность эффективного развития капитализма заложена «в самой структуре государства-коммуны, которое не может развиться в крупное территориальное государство»[125]125
Там же.
[Закрыть].
Банкирам нужны были сильные и крупные государства: они обеспечивали доступ к куда более значительным ресурсам, одновременно предоставляя защиту на большой территории. Наконец, именно в этих королевствах появлялась возможность использовать кредит не только в торговле, но и в сельском хозяйстве, которое, несмотря на все происходившие перемены оставалось основой любой экономики. Разумеется, речь, как правило, не идет об аграрном кредите как таковом. Процессы вовлечения сельского хозяйства в рынок и накопление капитала были гораздо более сложными. Землевладельческая аристократия прибегала к заимствованиям для того, чтобы финансировать свое растущее потребление, реконструировать замки и усадьбы, содержать многочисленную прислугу, свиту и своих сотрудников. Расплачиваясь с кредиторами, она усиливала эксплуатацию крестьян и ориентировала село на производство продукции для рынка. Технические и организационные улучшения были чаще побочным эффектом этих усилий, нежели результатом продуманной стратегии и инвестиций.
Британский историк Нил Дэвидсон (Neil Davidson) объясняет, что несмотря на бурное развитие новых общественных отношений независимые города не смогли создать в Италии новое общество – причиной их поражения «была неудача попыток Фридриха II создать единое государство, за которой последовало многовековое подчинение коммун власти феодальных баронов, контролировавших сельские окрестности городов»[126]126
N. Davidson. Discovering the Scottish Revolution. 1692–1746. London: Pluto Press, 2003, p. 73.
[Закрыть]. В действительности ситуация была несколько сложнее: между феодальной элитой и городской олигархией происходило сближение. С одной стороны, феодальные семейства перебирались в города (порой, их даже принуждали к этому), вкладывали деньги в коммерческие предприятия. С другой стороны, ведущие буржуазные кланы приобретали сельские имения в окрестностях коммуны, присваивали себе титулы и феодальные привилегии. Эту картину в равной степени можно наблюдать в Новгородско-Псковской Руси и в средневековой Италии.
Именно ведущие итальянские города, возглавляемые партией гвельфов стали главной силой, которая не позволила Фридриху II и другим германским императорам установить единое государство в Италии, а сеньоры, пришедшие к власти в городах к концу XV или в начале XVI века, сами были выходцами из городской буржуазии. Появление «новых феодалов» из среды городской олигархии само по себе было как раз результатом политического триумфа города, отстоявшего свою независимость и восторжествовавшего над старыми феодальными семьями, которые с течением времени лишились не только влияния на городское правительство, но и собственности.
Если во Франции союз королевской власти и городов стал основной нового государства, то в других частях Европы мы видим куда более сложную картину. Даже во Франции этот союз возникал далеко не автоматически. В Англии королям удалось наладить сотрудничество с буржуазией путем уступок и формального соглашения, закрепленного парламентскими актами. Во Франции королевской власти приходилось постоянно декларировать уважение к городским вольностям и свободам, расширяя и дополняя их. В России правители Москвы вели борьбу с городами-республиками, одновременно поощряя лояльные торговые центры. В Германии именно вольные города оказались в жесткой оппозиции к политике императоров, не будучи в то же время революционной силой, ориентированной на изменение окружающего общества.
Отстояв свою самостоятельность в XIV–XV веках, вольные города Германии к XVI веку оказались в кризисе – «все общественное устройство городских республик разрушалось, не только под давлением извне, но и изнутри»[127]127
H. Schilling. Aufbruch und Kriese. Deutschland 1517–1642. Berlin: Siedler Verlag, 1988, S. 171.
[Закрыть]. Социальная борьба низов дополнялась расколом верхов, соперничеством олигархических группировок и появлением на этой почве «городских тиранов» (Stadttyrannen), игнорировавших традиционные республиканские институты.
Позднее развитие протестантских торговых центров отнюдь не стимулировало развитие Германии в целом, поскольку города не готовы были делиться с отсталыми регионами своими ресурсами во имя создания национального внутреннего рынка. Это вообще задача, которую без вмешательства государства решить крайне трудно, ведь речь идет о перераспределении средств.
Между тем создание единого рынка имеет принципиальное значение не только для развития капитализма, но особенно – на этапе перехода от господства торгового капитала к развитию промышленности. Окончательный распад Германии на самостоятельные мини-государства закрепил ее отсталость точно так же, как объединение страны в середине XIX века стало важнейшей предпосылкой индустриализации. То же самое справедливо и применительно к Италии, если не считать того, что там были свои специфические причины отсталости.
К XVI веку обнаружилось, что купцы из городов-государств «не могли конкурировать с торговцами из новых централизованных государств»[128]128
The Political Economy of Merchant Empires, p. 75.
[Закрыть]. Причем одна и та же тенденция прослеживалась и в Западной Европе, и в Азии, и в России. Успех итальянских купцов не в последнюю очередь основывался на поддержке, которую они получали от французских королей, обеспечивавших им защиту и беспошлинную торговлю на ярмарках в Шампани и Лионе, точно так же балтийская торговля Немецкой Ганзы зависела от политической поддержки Дании и Швеции (и в определенные моменты от способности ганзейских купцов влиять на политику Ливонского ордена). В Новгороде постоянно шла борьба партий – одни тяготели к Москве, другие проявляли интерес к Литве и Швеции, но по сути даже те, кто номинально отстаивал сохранение независимости, понимали, что без опоры на внешнюю силу республика выжить не сможет.
Военная сила Новгорода непрерывно слабела. Неумение и нежелание новгородцев воевать было хорошо известно Московским князьям, которые на этом построили свою политику подчинения купеческого государства. Однако военная слабость далеко не всегда была характерной чертой Новгорода. Причина упадка – в олигархическом характере республики. Здесь не было военного сословия в лице феодального дворянства (имевшаяся аристократия обуржуазилась), но и народного ополчения не было нужно: в условиях постоянных социальных конфликтов оно могло оказаться опасным. Нечто похожее происходило и в итальянских республиках. Чем меньше доверяла олигархия собственным массам, тем больше нуждалась в наемниках. Результатом стало восхождение профессиональных наемных полководцев, кондотьеров, которые во многих случаях уже не удовлетворялись оплатой за свои услуги, а стремились к политическому влиянию.
Постепенно углубляющийся упадок городов не привел к сколько-нибудь существенным реформам или попыткам переломить нарастающую тенденцию. Правящая олигархия была слишком косной, слишком своекорыстной, слишком сосредоточенной на своих привилегиях. А движения городских низов подавлялись жесткой рукой, не приводя – в отличие от крупных государств – к уступкам или компромиссам.
Как заметил чешский историк Йозеф Мацек, XIV век прошел «уже не под знаком борьбы феодалов и городов, а под знаком бурной борьбы бюргерства с патрициатом»[129]129
Й. Мацек. Табор в гуситском революционном движении. М.: Иностранная литература, 1956, т. 1, с. 69.
[Закрыть]. Рост внешней торговли, как отмечает бельгийский историк Анри Пиренн, способствовал тому, что производитель утрачивал прямую связь с потребителем и товар продавался через посредников. Это, в свою очередь, вело к пролетаризации ремесленников, которые теперь работали не на себя, а на купцов, фактически нанимавших их для выполнения экспортных заказов. Таким образом, «между купцом и производителем появилось резкое разделение: первый был капиталистом, второй – наемным рабочим»[130]130
А. Пиренн. Средневековые города Бельгии. СПб.: Еворазия, 2001, с. 222.
[Закрыть].
В первой половине XIV века в наиболее развитых частях Западной Европы наблюдается широкомасштабное распространение наемного труда, причем не только в крупных городах. Как отмечает английский историк: «На удивление много промышленных рабочих может быть обнаружено в период около 1350 года живущими в деревнях. Не только кузнецы, плотники, изготовители седел, кровельщики, ломовые извозчики, что вполне естественно, но также чеканщики, красильщики тканей, мыловары, кожевники, изготовители иголок, специалисты по изготовлению древесного угля и многие другие»[131]131
/. Clapham. A Concise Economic History of Britain. From the Earliest Times to 1750. Cambridge: At the University Press, 1949, p. 115.
[Закрыть].
Фландрия, Северная Италия, некоторые зоны Франции, Англии и Германии переживали бурный процесс урбанизации. В крупнейших городах Фландрии к середине XIV века насчитывалось до 50 тысяч жителей[132]132
См.: А. Пиренн. Цит. соч., с. 227.
[Закрыть]. «Рабочие массы больших городов жили, по-видимому, в условиях довольно близких к условиям жизни современных пролетариев», – констатировал Пиренн в начале XX века[133]133
Там же, с. 224.
[Закрыть]. Число пролетариев увеличилось благодаря экономической экспансии, продолжавшейся на протяжении полутора столетий. А кризис, пришедший на смену росту, сопровождался увеличением безработицы и акциями протеста. Уже в XIII веке ереси, распространявшиеся по Европе, были не только антифеодальными, но и антибуржуазными. Недовольство низов городским патрициатом и олигархическим правлением находило себе выход в религиозных проповедях. Пиренн отмечает, что пролетаризация городского населения во Фландрии уже к концу XII века начала проявлять себя на идеологическом уровне. «Рабочий класс, в котором в XII веке происходило брожение под влиянием еретических учений, в XIII веке охвачен был бурными социальными требованиями»[134]134
Там же, с. 301.
[Закрыть]. На первый план вышел вопрос о заработной плате и о праве наемных работников создавать собственные гильдии.
В итальянских республиках классовая борьба к концу столетия достигла крайнего накала. Городские восстания XIV века во Флоренции и Сиене демонстрировали те же политические и идеологические тенденции, что и развернувшееся позднее гуситское движение в Богемии. Восстания чомпи (ciompi) во Флоренции показали, что попытки переложить тяготы экономического кризиса на трудовые низы чреваты серьезными социальными потрясениями. Чомпи (чесальщики шерсти и другие наемные рабочие сукнодельческих мануфактур во Флоренции и в других итальянских городах) на протяжении XIV века бунтовали неоднократно. Первое подобное выступление имело место во Флоренции в 1345 году в форме забастовки, которая была подавлена. В 1371 году произошли волнения рабочих в Перудже и Сиене. В 1378 году флорентийские чомпи вновь восстали. К ним присоединились бедные ремесленники сукнодельческих цехов. Рабочие требовали политических прав и повышения заработной платы на 50 %. Они добивались, чтобы им предоставили места в правительственных органах коммуны и позволили организовать собственный цех наемных рабочих. Создание такого цеха не только позволило бы трудящимся организовать некое подобие профсоюза, но и сделало бы их полноправными гражданами, поскольку соответствующий статус во Флоренции имели лишь члены цехов. Рабочие также потребовали упразднить должность «чужеземного чиновника» (надсмотрщика, приглашаемого хозяином из другого города). На некоторое время восставшим удалось захватить в свои руки власть в городе и сформировать собственную сеньорию. Однако новая власть столкнулась с экономическим бойкотом, организованным окрестными феодалами, а само движение резко разделилось на умеренных и радикалов, не доверявших правительству и сформировавших собственное альтернативное руководство – «Восемь святых Божьего народа». Захват власти радикалами привел к переходу умеренных на сторону старой элиты, а затем движение было жестоко подавлено[135]135
Подробнее о восстании чомпи см.: В.И. Рутенбург. Народные движения в городах Италии. XIV – начало XV в. М. – Л., 1958.
[Закрыть]. После подавления восстания была разогнана наиболее радикальная из вновь созданных гильдий рабочих, которую Чарльз Тилли определяет как «более пролетарскую» (more proletarian), тогда как «две коллаборационистские гильдии» (collaborators) стали частью реформированной системы городского управления[136]136
Ч. Тилли. Цит. соч., с. 57 (англ, изд.: Ch. Tilly. Op. cit., p. 26).
[Закрыть].
В Венеции патрицианская власть сознательно ограничивала развитие ремесленных корпораций, поскольку они воспринимались как «политически опасные»[137]137
Ж.-К. Оке. Средневековая Венеция. М.: Вече, 2006, с. 154.
[Закрыть]. Ограничивалось и использование наемного труда, даже в ущерб развитию производства (что, впрочем, не сильно волновало городскую элиту, зарабатывавшую на международной торговле).
Олигархии городов-республик могли с помощью террора и коррупции удерживать власть, но не имели ресурсов для того, чтобы обеспечить приемлемый для большинства населения социальный компромисс, без чего невозможно было никакое долгосрочное развитие. Впрочем, в таком законсервировавшемся виде городские олигархические режимы в Италии смогли просуществовать в течение длительного времени, используя накопленные за предыдущие столетия ресурсы, связи и знания.
Французское вторжение в Италию в 1494 году продемонстрировало военно-политическое бессилие городов-государств. Французские армии прошли через всю страну, не встретив серьезного сопротивления. Никколо Макиавелли и другие мыслители того времени, еще недавно считавшие Италию важнейшим политическим центром мира, были потрясены. Единственным способом остановить французов оказалось создание Лиги, в которую наряду с Венецией, Миланом и Папой Римским вошла Испания. Однако вступив на территорию Италии, испанцы уже не собирались уходить оттуда. В XVI веке испанские и французские войска свободно перемещались по стране, сражаясь друг с другом. По мере того как победа склонялась на сторону испанского оружия, гегемония в Италии переходила в руки «католических королей» Испании и наследовавших им Габсбургов. Лишь Венеция и Генуя сохранили независимость и традиционные институты олигархических республик. Неаполь стал владением испанской короны, а северные герцогства сделались фактическим протекторатом Габсбургов на несколько столетий. В униженном политическом состоянии итальянские города и их олигархические элиты еще полтора столетия продолжали воспроизводить свою социальную структуру, гордясь своими культурными достижениями и героическим прошлым.
Победа португальцев над египтянами в Индийском океане и последующее завоевание Египта турками имели катастрофические последствия для венецианской торговли, для которой решающее значение имела Александрия. На фоне снижающейся деловой активности частный финансовый капитал повсюду приходит в упадок в странах средиземноморского региона, хотя продолжает развиваться в Северной Европе. «К началу XVI века, за исключением Генуи, повсюду в Италии наблюдается закат частных банкирских домов, на место которых приходят общественные банки», – констатирует Луццатто[138]138
G. Luzzatto. Storia economica d’ltalia. Il Medioevo, p. 238, 300.
[Закрыть]. По примеру Каталонии такие банки создаются в Сицилии и Неаполе, Риме, Милане, Венеции и, наконец, в Генуе.
Как отмечают историки «точкой невозврата» (fatal turning point)[139]139
The Rise of Merchant Empires, p. 33.
[Закрыть] для итальянских торговых городов оказалась лишь Тридцатилетняя война. Потеря германских рынков привела к крушению экономики Венеции, а генуэзские банкиры, тесно связанные с испанскими Габсбургами, потерпели поражение вместе с ними. Финансовое банкротство Испании, наступившее уже в 1627 году – задолго до окончательного военного поражения, знаменовало конец генуэзских финансовых империй.
В торговых делах города-государства проводили очень жесткую протекционистскую политику в интересах своей олигархии, которая по сути была одновременно и правящим коммерческим классом, и правительством. По мере того как развивалась экономика и торговля внутренних территорий Европы, усиливалась конкуренция между формирующейся буржуазией этих государств и олигархией независимых городов. Доступ к продукции, производимой для понемногу складывающегося внутреннего рынка, становился важнейшим конкурентным преимуществом возникающей национальной буржуазии, одновременно претендовавшей на поддержку «своего» короля.
Итальянские банковские дома в XIV столетии пережили серию банкротств. Развитие кредита вело к увеличению мобильности капитала. Но одновременно оно способствовало укреплению государства и усилению его зависимости от буржуазии. Правительства становились зависимы от кредиторов, но выживание банков, финансировавших королей, теперь зависело от платежеспособности коронованных клиентов. Что далеко не всегда было гарантировано – кредитный дефолт Англии в XIV веке привел к крушению важнейших ломбардских банков.
«Вместе с государственными долгами возникла система международного кредита, которая зачастую представляет собой один из скрытых источников первоначального накопления у того или другого народа», – констатирует Маркс[140]140
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, с. 765.
[Закрыть]. Дефицит средств заставлял монархов постоянно искать способы пополнения казны, однако стратегия, избранная правителями разных стран отнюдь не была однотипной. В то время как французская монархия совершенствовала налоговую систему, английские короли все более зависели от экспорта. В Англии уже в середине XV века около половины доходов короны поступало от внешней торговли, основу которой составлял экспорт шерсти[141]141
См.: The Political Economy of Merchant Empires, p. 47, 93.
[Закрыть]. Рост влияния буржуазии, укрепление ее позиций в парламенте сопровождается усилением контроля за королевскими финансами. Отсутствие у королей свободы в получении и использовании денег вело (хотя не всегда и не сразу) к более эффективному использованию средств.
Островное положение Англии и связь с морем влияли на общественное развитие тем больше, чем более торговой и экспортной становилась ее экономика.
Феодализм так же связан с землей, как ранний капитализм с морем. Но море было не только сферой частного предпринимательства. Оно было также и стихией, стимулировавшей развитие централизованного государства. Именно потому, что феодальная система была привязана к земле, феодального флота в строгом смысле слова быть не могло. Разумеется, феодальная знать нередко промышляла пиратством, а иногда и морской торговлей, но в подобных случаях землевладельцы скорее выступали как частные предприниматели. Феодальная система, привязанная к земельным правам, просто не могла выработать собственный механизм формирования и комплектования флота, как она прежде создала механизм формирования частных армий и ополчений. Морские ополчения были изначально городскими, буржуазными, и чем больше было значение морской войны, тем большим было и военное значение городов, а следовательно, их политический вес. Однако города-республики, хоть и организовали мощные военно-морские силы, все больше зависели на суше от королей с их армиями. Напротив, сухопутные монархии (к числу которых тогда принадлежала и Англия), опираясь на собственную буржуазию, начинали постепенно создавать и свой военный флот.
Незавершенные революции
«Повиновение мертво, справедливость страдает, ни в чем нет правильного порядка», – говорит анонимный автор трактата «Reformatio Sigismundi», написанного в середине XV века[142]142
Цит. по: Я. Альберт. Гуситство и европейское общество. Прага: Обрис, 1946, с. 3.
[Закрыть]. Это было время, которое лучше всего можно было бы охарактеризовать словами Сталина, сказанными про другое время и в других обстоятельствах – «эпоха войн и революций».
Английский историк Томас Брэди (Thomas A. Brady) называет конец XIV – начало XV века «золотым веком простолюдина» (political Golden Age of the Common Man), временем, которое дало массам «элементы самоуправления», но одновременно было «временем стагнации, беспорядка и нестабильности» (stagnant, troubled and disrupted)[143]143
The Political Economy of Merchant Empires, p. 137.
[Закрыть]. Подобная характеристика может быть применима практически к любой революционной эпохе. Народные выступления позднего Средневековья не привели и не могли привести к формированию демократического порядка, поскольку, будучи (как мы увидим ниже) ранней попыткой буржуазной революции, они не могли ни создать нового буржуазного общества, ни удовлетворить потребности масс в реальном народовластии. Кризис позднего феодализма был в конечном счете, преодолен режимами «цезаристского» или даже «бонапартистского» типа. Новое абсолютистское государство могло взять в свои руки управление процессом общественных преобразований, который не сумело осуществить само общество. Но и новая монархическая система не могла полностью преодолеть кризис до тех пор, пока в ее распоряжении не оказались дополнительные ресурсы, позволяющие форсировать процесс развития.
Эпицентрами перемен стали Англия, Богемия и Фландрия, где новые общественные отношения прокладывали себе дорогу через острые политические и идеологические конфликты, подрывая старый, сложившийся на протяжении столетий и, казалось бы, естественный порядок вещей.
Несмотря на то что по уровню экономического развития и традициям городских свобод Фландрия XIV века может легко быть поставлена в один ряд с Италией, она представляла собой более сложную политическую картину. Характеризуя идеологическую эволюцию фламандского общества, А. Пиренн замечает, что среди горожан распространяется, «как почти во всех торговых и промышленных государствах, республиканский идеал»[144]144
А. Пиренн. Цит. соч., с. 259.
[Закрыть]. Города, обретя значительную самостоятельность, не смогли здесь полностью избавиться от феодальной зависимости. Тем самым они оказывались вовлеченными в гораздо более масштабный социально-политический процесс, отстаивая не только собственные интересы, но и выступая силой, преобразующей окружающее общество. Причем не только во Фландрии и Брабанте, но также в Англии и Франции, отчасти даже в Германии.
В начале XIV века города Фландрии пережили острую вспышку социальных конфликтов, завершившихся французской интервенцией, которая, однако, обернулась катастрофой для армии вторжения. Как отмечает Пиренн, франко-фламандская война была результатом «не только политического конфликта, но и борьбы классов»[145]145
Там же, с. 331.
[Закрыть].
Города Фландрии становятся «ареной социального движения, серьезность которого все усиливается по мере приближения к XIV веку»[146]146
А. Пиренн. Цит. соч., с. 304.
[Закрыть]. В 1280 году по всей Фландрии происходили восстания городских низов, сопровождавшиеся баррикадными боями на улицах. Страх перед массами заставил патрициат обратиться за помощью к французскому королю, втягивая Париж в местную политическую жизнь. Так закрутилась спираль событий, которая в конечном счете привела к битве при Куртрэ и к Столетней войне.
Во фламандском войске, вставшем на пути французской армии в 1302 году, лишь немногие вожди были по своему происхождению из феодалов и патрициев, выступая по сути в роли военных специалистов при народной армии. В массе своей привилегированные классы были полностью на стороне французов, именно благодаря их призывам французские силы прибыли во Фландрию. «Все пестрело противоречиями во фландрской армии, в которой молодые князья, воспитанные на французский лад и говорившие только по-французски, командовали массами рабочих и крестьян, язык которых едва понимали»[147]147
Там же, с. 332.
[Закрыть]. Эта наспех собранная и на первый взгляд не слишком боеспособная армия нанесла при Куртрэ (Courtrai) сокрушительное поражение интервентам, уничтожив цвет французского рыцарства. Эта битва оказалась не только первой решительной победой пехоты над кавалерией, положив начало перевороту в военном деле, но и прообразом целого ряда революционных битв, подобных сражению при Вальми, в ходе которых революционная масса демонстрировала свое превосходство над профессиональной армией.
Гражданская война, перемежавшаяся с французскими интервенциями, продолжалась во Фландрии на протяжении двух десятилетий, завершившись в конце концов восстановлением феодального режима и номинального суверенитета Франции. Крупная буржуазия, напуганная растущим политическим влиянием городских низов, предпочла уступить во имя порядка и стабильности. Восстание выдыхалось. Спустя 26 лет после Куртрэ в битве при Касселе (Cassel) французские рыцари смогли взять реванш, одержав верх над фламандским ополчением. Начались массовые репрессии, и казалось, что мятежный дух Фландрии сломлен. Однако конфликту очень скоро предстояло вспыхнуть вновь, уже в форме международной конфронтации, в которую наряду с Францией оказалась втянута и Англия.
Разумеется, понятие «международного конфликта» применительно к той эпохе можно использовать лишь условно. Поскольку национального государства еще не существовало, то и границы того или иного «общества» оставались весьма расплывчатыми. Однако применительно к Богемии и Англии можно все же говорить об обществе, физические границы которого более или менее совпадают с границами государства. Именно поэтому здесь наблюдаются наиболее интенсивные политические и социальные процессы, а социальные и культурные перемены, охватывая широкие массы населения, не оставляют никого в стороне, неизбежно порождая идеологические и политические кризисы. Взаимное влияние города и деревни настолько велико, что кризис феодального порядка охватывает все стороны жизни. Политическая борьба, начавшаяся с одного локального конфликта, разрастается и распространяется по всей стране, вовлекая в себя не только разные территории, но и различные группы населения. Именно в этих конфликтах формируется у людей чувство сопричастности к тому, что происходит по всей стране, складывается национальное государство.
В Англии и Богемии социальные конфликты быстро приобретают масштабы революционного кризиса. Более того, стремление к общественному переустройству получает в обеих странах сходное идеологическое обоснование в виде учений Уиклифа и Гуса, являющихся явными предшественниками и по существу ранними представителями религиозной Реформации. Напротив, во Франции кризис XIV века сопровождается скорее укреплением позиций традиционной феодальной знати – последующие бурные перемены в значительной степени оказались результатом внешних воздействий и вызовов.
Феодальная централизация, осуществленная королями Англии и Франции в XIII веке, имела то неожиданное последствие, что изменила политическую структуру и систему интересов феодального класса. Если в прежние времена удельные князья боролись с королем за самостоятельность, отстаивая интересы провинций против столицы, то в конце XIV–XV веке феодальные магнаты уже борются между собой за влияние при дворе, стремясь, как пишет Эдуард Перруа (Eduard Perroy), «подчинить себе администрацию, держать под контролем государство»[148]148
Э. Перруа. Столетняя война. М.: Вече, 2006, с. 271.
[Закрыть]. При этом они отнюдь не утрачивают связь с провинциями. Модернизируя систему управления в своих собственных владениях, они копируют там структуры центральной администрации, превращая свой двор в «настоящий питомник функционеров»[149]149
Там же, с. 273.
[Закрыть]. Теперь задача состоит не в том, чтобы отстоять политическую самостоятельность, а в том, чтобы использовать королевскую бюрократию и финансы для перераспределения в свою пользу общегосударственных средств. По большей части финансовых, но зачастую военных и дипломатических (внешнеполитические возможности государства все чаще используются для поддержки династических интересов «своей» аристократии за его пределами).
Если в Англии к началу XV века казалось, что с победой Ланкастеров централизованная государственная бюрократия при поддержке буржуазии и мелкопоместного дворянства подавила феодальных магнатов, которые здесь изначально были слабее, чем на континенте, то во Франции магнаты все более брали верх, а буржуазные лидеры метались между соперничающими аристократическими партиями, пытаясь защитить свои интересы, вступая в блок с одной из них. В значительной степени подобная рефеодализация Франции оказалась результатом предшествующей политики централизации. В XIII веке почти все крупные вассальные домены на территории королевства были ликвидированы или жестко подчинены монархии (исключениями были Бретань и Госконь, принадлежавшая английским Плантагенетам[150]150
В литературе это герцогство также фигурирует под старым названием Аквитания (хотя речь идет лишь о небольшой части обширной области, оставшейся к XIV веку в руках Плантагенетов) или как Гиень.
[Закрыть]). Однако королевская власть в XIV веке начала раздавать новые вотчины родственникам и клиентам правящей династии. Хозяева этих наделов первоначально были (в отличие от магнатов прошлой эпохи) жестко ограничены в правах, наследование вотчин не было автоматическим, а Париж мог в любое время изъять или конфисковать эти владения. Но по мере развития экономического и политического кризиса способность центра контролировать ситуацию слабела.
Таким образом, развитие политического процесса в разных странах идет разными путями. Если в Богемии мы видим революцию масс, сопровождающуюся гражданской войной и иностранной интервенцией, то в Англии, несмотря на массовые народные выступления, перемены в конечном счете обретают форму «революции сверху» или, пользуясь выражением Антонио Грамши, «пассивной революции», когда верхи, подавив сопротивление низов, одновременно идут на выполнение значительной части их требований; а во Франции «революция сверху», осуществленная на полвека позже Карлом VII, оказывается как ответом на поражения, нанесенные ему англичанами, так и следствием перемен, сопровождавших английское проникновение в страну.
Социальное преобразование двух стран, которым столетия спустя предстоит стать культурными, экономическими и политическими лидерами Европы, разворачивается на фоне многолетнего вооруженного конфликта между их королями. Именно королями, а не странами, поскольку значительная часть французского общества до самого конца Столетней войны держала сторону английской династии. И вовсе не воспринимала это как предательство национальных интересов, поскольку само понятие о чем-то подобном еще не существовало.
Продолжавшаяся больше ста лет война (в которой, по иронии судьбы, принял участие и основатель династии Богемских Люксембургов Иоанн
Слепой) задним числом представлялась историками как первый межгосударственный конфликт современного типа, легший в основу позднейшего противостояния двух держав или как событие, которое привело к пробуждению национального сознания[151]151
Например, Н.И. Басовская пишет, что благодаря Столетней войне «французы вполне осознали себя французами, а англичане – англичанами» (Н. Басовская. Столетняя война: леопард против лилии. М.: Астрель – ACT, 2007, с. 7). С ней соглашается стоящий на совершенно иных позициях историк Вадим Устинов: «Народы начали осознавать свою национальную принадлежность, понятие Родины начало обретать реальный смысл в умах» (В. Устинов. Столетняя война и Войны Роз. М.: Астрель – Хранитель – ACT, 2007, с. 3). До середины XX века подобные высказывания можно было прочитать и в работах английских и французских историков. Напротив, классовый конфликт и социальная борьба, составлявшая в значительной мере суть происходивших событий, доминирующей историографией затушевывалась. Несмотря на формальную верность советских историков «марксистской» интерпретации прошлого, они уделяли социальным аспектам Столетней войны даже меньше внимания, чем их западные коллеги, ограничиваясь изолированными от общего повествования рассказами об антифеодальных крестьянских восстаниях XIV века, фактически игнорируя городские движения.
[Закрыть]. Однако эта успокоительно-банальная формулировка скорее запутывает вопрос, нежели проясняет его. Какое отношение имеет «пробуждение сознания» к формированию нации как историческому процессу? Одно из двух: либо нации в Англии и Франции уже существовали реально, а благодаря Столетней войне люди вдруг разом осознали этот факт, либо, наоборот, нации сформировались идеальным образом в результате развития сознания, которое как-то само собой пробудилось в ходе войны. При этом любое проявление лояльности к своему королю или просто воинской доблести, религиозной аффектации или наоборот рационального выбора в пользу победителя нам подают в качестве очередного доказательства национальных чувств, хотя горы аналогичных «доказательств» можно было бы набрать и на столетие раньше.
Исследования Эдуарда Перруа в значительной мере поколебали подобное представление о Столетней войне. Однако поздняя советская и российская историография оказывается последним бастионом старой французской школы, описывающей конфликт пятисотлетней давности с позиций национального противостояния[152]152
В ряду позднесоветских и продолжающих эту же традицию российских исследований особенно тягостное впечатление оставляет книга Н. Басовской «Столетняя война: леопард против лилии». Она выделяется не только нарочитыми усилиями представить любое антифеодальное и даже разбойно-феодальное выступление во Франции в качестве примера «национально-освободительной борьбы», но и большим количеством фактических ошибок, трудно объяснимых в работе историка медиависта. Городок Верней, где произошло столкновение между англичанами и армией Карла VII, превращается в Вернейль (с. 317).
Фруассару приписывается оценка битвы при Азенкуре, которую он не мог сделать просто потому, что умер задолго до этого сражения (с. 292). Рассказ об этой битве полон нелепостями, особенно удивительными, поскольку в списке литературы указаны английские и французские труды, содержащие подробное описание сражения. В частности, Басовская утверждает, будто английские лучники «атаковали» французских рыцарей, а затем «отходя» вбивали колья, причем это был «новый прием» (с. 290). На самом деле англичане только обстреливали французов, провоцируя их на атаку (трудно представить крошечное войско Генриха атакующим огромную массу неприятельских латников). Вбивали колья лучники не отходя, а приблизившись к французским позициям. Прием был далеко не нов, а при Азенкуре применить его в полной мере не удавалось: из-за размытой дождем почвы колья падали. Неточности имеются и при переводе имен: «ужасный» Роберт Ноллис превратился в Роберта Кноллиса (с. 239). Последняя ошибка вызывает вопрос о том, насколько были использованы и поняты английские источники, указанные в книге. Несмотря на пространный список английских изданий, в работе Басовской не удается найти следы работы или хотя бы знакомства с ними. Например, в ее книге содержатся ссылки на Хронику Уолсингема (Thomce Walsingham. Historia Anglicana), однако редактор цитируемого издания 1863–1864 годов указан как Rilly, в то время как на самом деле его имя пишется Riley.
[Закрыть]. Если новообращенные варвары склонны быть большими католиками, чем сам Папа, то российские историки в повторении мифов французского патриотизма порой умудряются перещеголять самих французов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































