Текст книги "Сибирский кавалер (сборник)"
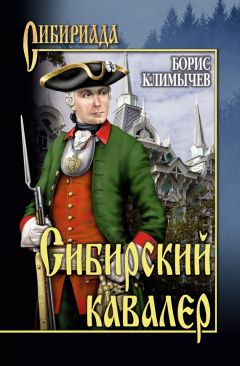
Автор книги: Борис Климычев
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
3. ТОЛЬКО УСОМ ШЕВЕЛИТ
Крепостного художника Алексея Мухина привезли в Москву и упрятали в тесную камеру, где уже находилось несколько человек.
Лицо Мухина посинело от побоев, раненая нога кровоточила. Но обитатели камеры встретили его громким смехом.
– Ишь, красавчик! Кто-то его разукрасил и синей, и красной краской! А ну-ка, Глындя, пошарь у него кошель, чего там, на донышке, завалялось?
Усатый мужчина, в сюртуке явно с чужого плеча, в полосатых штанах и в старых немецких ботфортах, сказал:
– Зря стараться станем. У него на роже написано, что крепостной. У таких кошелей не бывает. Вошь в кармане и блоха на аркане. Ты скажи, я правильно угадал? Как тебя, деревенщину, сюда занесло?
– Барина ножом ударил, – хмуро сказал Мухин.
– Гляди-ка! Убивца бог нам подарил! – невесть чему обрадовался мужчина.
– Я не убивец, я его – не до смерти, а он мне ногу прострелил.
– Эх! Я так и понял, что это деревенская квашня! – опять рассмеялся усатый. – Уж если резать, так чтобы все потроха разом выпустить, тогда барину небось стрелять расхотелось бы. Обучим! А пока пол подмети. Опосля пятки мне почешешь.
– Подмести подмету, а пятки чесать не стану! – сказал Мухин. И тотчас усатый хлопнул его ладонями по ушам. Все в каморе словно только этого и ждали. Наскочили со всех сторон. Словно молотилка заработала. Мухин уже стонать перестал. Тогда усатый остановил избиение:
– Эй, будет! Для начала хорошо поучили. Деревенские люди безвредные. Ну что с него – вреда? Ну, сеял, пахал.
– Да не пахал я! – воскликнул Мухин. – Я художник с малолетства.
– Патреты можешь? – спросил усач. – Вот тебе уголек, делай с меня патрет на стене.
Мухин утер с губ кровь, высморкался и стал рисовать усатого. Старался. Надо главному угодить, тогда его в этом узилище хоть живого оставят. И когда он закончил работу, все стали просить, чтобы и их парсуны сделал бы на стенах.
Мухин принялся малевать и других. Делать все равно было нечего. Народ в камере от души веселился:
– Глянь-ка, Митька – вылитый амператор! Вот утешил так утешил!
И орали, и реготали. Тогда дверной глазок открылся. А потом лязгнул и дверной запор. Зашли охранники:
– Смотри-ка, этот, который с деревни, стены все попортил! Вот бы выпороть дурака, чтобы больше неповадно было! Перевести его в одиночку!
И Мухин, избитый, голодный и холодный, просидел в одиночестве до самого суда. Барина Петра Георгиевича в суде Мухин не увидел. Но были там свидетели из ибряшкинской дворни во главе с управляющим Еремеем. Он то и дело отирал красную лысину огромным платком и гневно тыкал пальцем в сторону Мухина:
– Злодей! Убивец! Это вся дворня подтвердит. Барин ему столько добра сделал, в художники определил, выучил. А он барина – ножом. Июда! Вы любого дворового нашего спросите, все скажут! Чудо, что тот нож в медальон попал! Бог барина спас за его доброту. А этого злодея просим казнить лютой смертию!
Мухин пытался говорить о Палашке, хотел показать раненную барином ногу. Ему и слова вымолвить не дали. Судейский чиновник Иван Семенович Топильский сердито сказал:
– Молчал бы, разбойник. За твои дела казнить бы тебя на Лобном месте. Но мы милосердны. По доброте своей сердечной наш суд решает тебя, разбойника, заслать в вечную каторгу! Ты там сгниешь, а может, и раньше подохнешь, еще на пути в Сибирь, чего я тебе желаю!
И через день Алексей Мухин шагал среди других кандальников в сером арестантском зипуне, с нашитым на спине красным бубновым ромбом. Такой знак видно издалека, если побежишь, то караульный тебе прямо в бубновый знак всадит пулю. За Рогожской заставой караульные дали Мухину вместительный крапивный мешок и велели в больших деревнях возглашать на ходу о подаянии. Мухин шел с краю колонны и тряс мешком возле лавок и окон и тянул с поникшей головой:
– Ради Христа для несчастных кандальничков!
Молоденький, с нежными и добрыми чертами лица, Мухин вызывал жалость у деревенских старух и молодиц. И давали: кто хлеба краюху, кто вареную репу, кто сальца кусок, а кто и тыковку долбленную с домашней бражкой совал в мешок. На привале часовые забирали из мешка выпивку, сало, шаньги, – всё, что повкуснее. Что-то оставалось и арестантам на пропитание.
Получилось так, что рядом с Мухиным шагал тот самый усатый арестант, который в камере хлопнул бедного художника своими тяжкими ладонями по нежным ушам. Он вполголоса говорил:
– Не кручинься, парень! Я пятый раз по Владимирской дороге в Сибирь-матушку иду, да всё никак не дойду. Оно и в Сибири люди живут, да в Москве-то оно – вольготнее! Ну, знакомы будем. Я – Мишка Глындя, а ты будешь Леха Муха. Так теперь отзывайся, я тебя не хуже попа окрестил. Вот. А зачем же ты барина-то ножом пырнул? И еще и неудачно! Барин-то жив-здоров, кофей пьет, омаров лопает, а тебя по этапу гонят, уморить в каторге хотят.
Ладно, Леха! Тосковать не смей. Ты еще с этим барином посчитаешься. В деревнях ты шепотком напильничек у молодух проси. Кудряшки твои золотистые. Глаза голубые, лучистые. Теперь мы – как бы воины плененные. А будет напильничек, кандалы с рук и ног, как солому, стряхнем.
И шли через многие деревни. И везде Мухин шепотком с улыбочкой доброй просил у девок и у молодух дать ему напильничек. Не давали. Боялись. Да и в любой деревенской избе – напильник нужнейшая вещь!
Глындя не унывал, хотя уже и белые мухи с неба стали лететь, и впереди были и первые морозы.
– Ты песню про Уса слыхивал ли? – спросил Мухина, тот только головой покачал. И Мишка Глындя подкрутил свой черный ус и запел:
Эй, усы, эй усы, завелись на Руси
За Москвой за рекой, за смородиновой.
Высоки колпаки, и красны сапожки,
И кричит атаман:
– Есть уродина!
Тот купчина-урод барахло продает
На майданах, собака, куражится,
Сладко ест он и пьет. Но пойдем мы в поход,
Ему небо с овчинку покажется.
Вот в купеческий дом заскочили усы,
А хозяин кричит:
– Ой, Господь нас спаси.
Я бедняк: лишь топчан да квашня еще!
И тогда атаман так усам говорил:
– Нужен лишь уголек, чтоб разжечь огонек.
Пусть с хозяйкой хозяин поджарятся,
Или пусть по сусекам пошарятся.
Вот хозяин дрожит, за кубышечкой бежит,
Вот хозяйка трясется да с деньгою несется.
Вот усы в челноке вдаль плывут по реке,
А река словно ус завивается.
– Хороша песня? – спросил Мишка Лешу Мухина. Ничего не ответил Мухин.
А через неделю, уже и напильник был у Мишки в кармане. Ночами, на привалах, пилил Глындя кандалы, хоть и тихо, да сноровисто. Свои попилит, потом – Лехины. И шепчет:
– Нам ночку потемней да часовых подурней, может, удастся убежать, а уж там: куда кривая вывезет.
Осень уже готовилась сдать все дела зиме. Однажды вечером разыгралась такая буря, с ветром и снегом, что все из сил повыбились. Конвойные решили устроить ночлег на крытом току возле леса. И дождь долбил, и снег сыпал, и шумел лес. Сыро, промозгло. Конвойные прикорнули у догорающего костра. И он погас, а разжигать его дежурный не стал, сном его разморило.
– Теперь пора! – шепнул Мишка Глындя. Поднялись они, кандалы руками придерживая, тихонько ступая, пошли в овраг.
Долго не могли отыскать хоть какой-нибудь камень. Мухин ощущал на лодыжках железную хватку огромного и безжалостного существа. Что за существо это? Здесь его железная лапа, а голова где-то в Петебурхе. Голова-то там, а лапы-то – по всей стране, людей за ноги цапают.
И вот набрели на речушку. И когда нашлись камни, Мухин с великой яростью стал бить камнем по кандальному обручу в том месте, где было пропилено. Оковы вскоре упали. Глындя свои подпиленные кандалы разбил двумя ударами. Сказал:
– Бросать свои железа не будем! Какое-никакое орудие, во-первых, а во-вторых, правило есть: свое каторжное железо сберечь. В Москву вернемся, выточим себе с него по браслету и по кольцу. А можно и по крестику выпилить, чтобы Господь помогал. Милое дело! Такие памятки у многих бывалых каторжников есть.
Прислушался Глындя:
– Сдается мне: дорога рядом. Едет кто-то. По стуку чую, что не мужик на телеге, господский экипаж, он всегда мягче идет. Вон кусты на бугорке, там залечь, так можно будет прямо на облучок прыгнуть. И прыгать будешь ты, потому что полегче меня. Ага! Так и знал – карета! Как поедет мимо, прыгай на кучера, старайся с облучка сбить, а я помогу.
– Не могу я! – прошептал Мухин.
– Ну, брат, не трусь! У нас другого пути нет. Или пожизненная каторга, или в этой карете улизнем!
– А если в карете баре сидят?
– Они дремлют сейчас. Я с ними слажу, твоя забота с кучером управиться. Сам подумай, что нам терять? Прыгай!
Кучер был сбит с облучка, но тотчас вскочил со страшными ругательствами, накинулся на Мухина и стал гнуть его через оглоблю, брызгая ему в лицо горячей слюной. Концом вожжи мужик перехватил Лехину шею и душил его, дыша ему в нос густой зубной гнилью. И Мухин уже задыхался, когда вдруг почувствовал, как тело кучера ослабло и борода его колючим веником царапнула Лехину шею. С бороды этой закапало нечто густое и красное.
– Что это? – спросил Мухин, выпутываясь из вожжей.
– Что, что! – передразнил его Глындя. – Это я мужичка каменюкой по затылку угостил, да и вовремя, не то ты уж задохнулся бы. А камень хорош! В руке хорошо лежит и увесистый!
– Убивцами стали! – сказал Мухин.
– Ну и стали. Не мы их, так они нас. Тут выбирать не из чего. Ты же своего барина резал? Резал? Из-за зазнобы. А тут – не баловство, жизнь спасаем. Кровушки испугался? Чем не краска? Густая, яркая! Бог нашему горю пособил. Экипаж пустой. А то еще неизвестно, что было бы.
Давай-ка, помогай раздевать мужика, его одежка нам пригодится. Нам в наших бубновых сюртуках далеко не уйти. Так! Ни хлеба с собой у него, ни пирогов, я уж не говорю про деньги. Правда, вот табачок-самосад в кисете.
Теперь я кучером наряжусь, а ты в карете спрячешься. Только давай сначала закинем тело в кусты. Бери его за ноги, а я за руки возьму. Раз-два, взяли! Эх, беда, Леха, что у нас тобой головы наполовину обриты. Но я-то в шапке на облучке буду сидеть, никто не узнает, что у меня под нею такое. А ты сиди в карете и без нужды из неё не выглядывай.
Повезло тебе, будешь ехать за барина. До пруда или речки доедем, я кровушку замою, тогда уж экипаж этот до самой Белокаменной погоню со свистом. Кони добрые. Поедем не Владимирской дорогой, а окольными путями. В Москве – к атаману придем. Жеребцов перекрасят, и карету продадут. В Москве затеряемся как иголки в стоге сена. Пока волосы отрастут, парики носить будем.
Мухин молчал. Его свобода забрызгана кровью убитого кучера. Разве она должна покупаться такой ценой? Да и вообще – свобода ли это? Может, это – свобода зайца, за которым охотится рысь? Что делать дальше?
Качание в карете убаюкало. И снилась ему Палашка. Он опять писал её. Но на фанерке была только одна красная краска. И запах у неё был такой, что кружилась голова…
Темные тучи стремительно неслись над куполами церквей и кремлевскими башнями. И сеяли на лету то дождь, то снег. Ветер сбивал с ног прохожих, сваливал на бок экипажи. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит. В такую погоду покрепче запирают ставни и зажигают перед иконами свечи.
А под каменным мостом в арочном пролете притаились люди. С моста их было не углядеть. Кучи мусора и устои моста надежно укрывали их.
Кто-то костюмом напоминал кучера, кто-то был одет почти прилично. Одни были одеты в легкие зипуны, другие имели на себе шубейки. Все эти люди не обращали ни малейшего внимания на посвист холодного ветра, на непогоду.
Был тут странный человек с длинными черными волосами, спускавшимися на щеки и на нос. Когда он встряхивал головой, волосы на миг разлетались, так, что были видны его жгучие глаза. Сверкнут дикие зрачки и вновь скроются под волосяной завесой.
– Ну, Глындя, – сказал этот человек, – ручаешься ли ты головой за нового брата? Смотри, ежели что! Пусть он платит взнос да повторяет за мной клятву.
Жесткой рукой атаман ухватил Мухина за ухо и скороговоркой произнес:
– Уха два, язык один, слухай ухом, господин! Тихарю и сиварю, никому не говорю. Не имаю сроду страху, не продамся за жермаху[11]11
Жермаха – гривенник, десять копеек.
[Закрыть]. Скажи – аминь!
– Аминь! – сказал Леха.
Атаману подали бутыль, он нацедил из неё стакан зеленого хлебного вина.
– Теперь ты наш! – торжественно сказал атаман, посверкивая сквозь волосы глазом. – Выпей! А ежели клятве нашей изменишь, с тобой будет то же, что с Каманей. Как раз будут с ним разборы. Каманя сремизил пять царских, когда ходил к фартовой маме[12]12
Атаман говорит, что вор Каманя получил с перекупщицы краденого сто рублей, а атаману принес только половину (жарг.).
[Закрыть]. Все, что мы у Рогожской заставы взяли, она поставила в десять, а он мне принес только пять. Что за это полагается?
– Карачун! Лахман![13]13
Лахман сделать – убить.
[Закрыть] – воскликнули сразу несколько человек в один голос.
– Правильно! Лахман! Каманя, будешь молиться, али так попрощаешься?
– То неправда! Она дала только пять! – заговорил Каманя.
– Зачем морок пущать, когда и так темно? Марью знают все честные воры в Москве. У нее обману и в заводе нет. Мы ведь можем её сюда позвать.
Каманя отчаянно замотал головой:
– Братцы, простите, бес попутал, я… завсегда! Вы же знаете, на какие дела ходили! Я же свой!
– Бес тебя попутал, к бесу и иди! На вот, покури трубочку, бедолага.
Каманя принялся курить, из глаз текли слезы, лицо покрылось красными пятнами. Он выдохнул вместе с дымом:
– Атаман! Прости, отслужу!
– Каманя! Ты же сам знаешь, что простить нельзя. Я прощу, браты не простят. Верно, браты?
– Верно! – взревела вся ватага.
– Ну, браты, попрощайтесь! Поцелуйте его. Каманя, ты не дрожи, мы тебя – быстро!
– Атаман! Дай напоследок вы-ыпить! – взвыл Каманя. Атаман подал ему стакан и бутыль. Каманя очень медленно, но один за другим опорожнил в себя четыре стакана. Этого хватило бы свалить с ног слона. Но вино его не взяло, хотя было очень крепким. Это поразило всех. Подождав немного, атаман сказал:
– Выпил? Выпил! А теперь – до свиданьица, Ты, значит, там, у Бога, всё обскажи, что мы не виноваты. Скажи не от злого нрава, от мук тяжких ушли в вольную жизнь. Баре-господа нас измордовали, а мы тоже божьи твари и жить хотим. Всюду грозят нам топором да плахой. Татями зовут. Лютуют, а мы только отмахиваемся. Сами они первые начали, сами перед Богом в ответе.
Мухин потихоньку отошел в сторонку, но атаман его вернул:
– Куда? Вернись!
И стал шептать ему на ухо горячими губами:
– Сейчас его на колени поставим, а ты, вот, кистень возьми. Как он молиться станет, заходи сзади, бей по затылку, да так хорошо, чтобы он прямо к Богу летел, без перемены лошадей.
– Не смогу, – сказал Мухин, бледнея.
– Ты этого не изрекал, я этого не слышал! – сказал атаман, вкладывая пест ему в руку. – Ты ведь не хочешь вместе с ним отправиться?
Атаман пнул Каманю в зад:
– Падай на колени! Молись!
Каманя неохотно встал на колени, но не молился, а оглядывался. Заметив, что Мухин держит руки за спиной, Каманя, видно, все понял и заковылял на коленях от него подальше.
– Стой! Что же ты за мужик такой, что же ты за разбойник?! Ты трусливая мышь! Гнусь лесная! Даже умереть по-человечески не можешь! – заругался атаман. – Стой, говорю! На тебе еще стакан хлебного! Пей!
Каманя только поднес стакан к губам, как Мухин ударил его пестом. Попал не по затылку, а по подбородку. Каманя хрюкнул, упал на спину, задрыгал ногами.
– Для первого раза – сойдет! – сказал атаман, отобрав у Мухина кистень. И страшным ударом добив Каманю, ухмыльнулся:
– Вот так надо! Учись!
В это время мощный порыв ветра загудел в пролетах моста, и завыло что-то, словно заплакало.
Один из бандитов указал перстом на небо:
– Ей-богу что-то черное ввысь полетело. Не Каманина ли душа?
– Сие может статься! – сказал атаман. – Душа у каждого есть. Она-то и скорбит, мучается, А телу теперь все равно. Одежку с него не снимайте, она ветшаная[14]14
Ветшаная (устар.) – ветхая.
[Закрыть]. Забросайте сучьями да кровь присыпьте землицей, да скоро расходитесь в разные стороны. После пошлю других людишек, они его прихоронят, царствие ему небесное! Да только попадет ли он в него? Всем нам, видно, одна дорога – в ад! Ладно! Обычай наш знаете, если в ком из вас мне надобность будет, позову.
Атаман поднял воротник собачей шубейки, нахлобучил сильнее шапку. И неслышно ступая, ушел, исчез, словно и не было его никогда.
Тело несчастного Камани было забросано хворостом. Следы крови засыпаны так искусно, что, заглянув под мост, никто не увидел бы следов только что происшедшей здесь печальной пьесы.
Мухин уходил с сего места вместе с Глындей. Спросил:
– Как зовут атамана? И почему он так волосат?
– Теперь тебе можно поведать, теперь ты – свой. Зовут его Бир. Непростой человек. Бойся ему не угодить. А волосат он оттого, что в каторге ему на щеках и на лбу выжгли раскаленным клеймом надпись «Вор». Слово сие никакими силами с лица теперь не сведешь. Вот он и напускает волос себе и на щеки и на лоб. Лютый-прелютый.
– А на что нам с ним якшаться? Жили бы сами по себе!
– Мы где жеребцов продали? В яме около Москвы. Там все его люди сидят. А попробовал бы просто так жеребцов продать, быстро бы в узилище оказался. Бир тебя и из сыскного вынет, ежели что. У Бира друг есть, приятель. Он в печатне самые настоящие «виды» делает.
Что Каманю под мостом убили, так не он первый, не он последний. За лето там уж человек десять под этим мостом угрохали, укаючили. А всего под этим мостом похоронено, может, сто воров, а может, и двести. Только это кладбище невидимое. Мы ведь крестов не ставим. Даже камня на могилки не кладем. И самих могилок нет. Одно ровное место. Но мы помним, где и кого похоронили. И – когда.
Но ты не хмурься, не думай, летом там очень для сердца отрадно! Что твой рай небесный. Ветлы свои ветви над водой склоняют, по угору шиповники и боярышники цветут. Там и добро дуванить удобно, и пить-гулять. А если погоня будет, так на реке следов не бывает. У нас летом лодки в кустах спрятаны. Крючки[15]15
Крючки – сыщики.
[Закрыть] явятся, прыгай в лодку и – беги. Река никому не скажет, не выдаст. Лишнее можно утопить, концы в воду.
Пойдем-ка в ночлежный дом, переночуем, а утром во Всесвятской частной бане всё обдумаем, обговорим. Там воры собираются. Может, с кем в дело войдем!
4. ВРЕМЕННЫЙ БАРИН
После ареста Пьера Жевахова Еремей остался в поместье полноправным хозяином. Он ездил в Москву, но князь Георгий Петрович дал понять, что теперь не до деревенских дел. Граф хлопочет о судьбе Пьера. Шут с ними, недоимками, порубками, неурожаями. Пусть Еремей делает всё, как сам знает.
Теперь Еремей ходил по поместью с хлыстом. Лупил им встречных и поперечных. С парика его сыпалась пудра, попадала в красные, воспаленные глаза. Но всё надоело. Все книги о путешествиях, индейцах, колдунах и магах были давно перечитаны. Он столько знает! И – что? Его не примут в хорошем доме, и уж тем паче не попасть ему в масонскую ложу, в которой, как он знает, состоят и старший и младший Жеваховы. Обидно!
Он продал на сторону зерно и заготовленные для ремонта бревна. Ему хотелось съездить к соседу Захару Петровичу Коровякову. Там, знал он, собираются со всей округи картежники. Бары-господа? Он ничем их не хуже.
Вечером Еремей велел запрячь лучших жеребцов в княжескую коляску и покатил к Коровякову, усадив на козлы самого бородатого и рослого в Ибряшкине мужика Нефедыча. Еремей был одет по моде и опрыскан лучшими французскими духами. Когда подъезжали к Шараховке, Нефедыч перетянул кнутом вороных. Жеребцы взъярились, в пене, в мыле, понесли, казалось, умчат на небо. Бубенцы и шаркунцы забренчали, колокольчик захлебывался. Пыль взлетела до солнца.
Выбежав на крыльцо, гусар Захар Петрович Коровяков следил из под руки: кого бог дает? Коровяков был в халате, из-под которого выглядывали чикчеры[16]16
Чикчеры – обтягивающие гусарские брюки.
[Закрыть], а в руке его дымилась трубка с длинным чубуком, И он расправлял кончиком чубука свои длинные черные усы. Когда из экипажа вышел Еремей, Захар Петрович не мог скрыть насмешливого недоумения:
– Еремешка? Ты? Опять насчет порубок? Эким ты франтом разоделся! Что с тобой?
Еремей сделал вид, что не заметил насмешки. Поправил нашейный бант и парик, солидно ответствовал:
– Вовсе я не насчет порубок, просто по-соседски. Поговорить, трубочку выкурить, может, в картишки перекинуться?
– Ты как в лужу глядел! – отвечал Захар Петрович. – Проходи, проходи! А! Так ты еще и корзину с бургундским прихватил? Чудно, брат, право слово, чудно! Тащи-ка, Нефедыч, эту корзину в дом! Вот это я уважаю. Это по-соседски! А то споры из каждой поломанной палки! Ягодку с куста сорвешь, кричат – уворовал! Зайчишка в петлю попадет, кричат – наш зайчишка! Нешто зайцы меченые? Они скачут где хотят! Эх, и погуляем!
Попав в дом гусара, и Нефедыч, и Еремей закашлялись. Табачный дым плавал под потолком парадной залы наподобие грозовой тучи. На большом обеденном столе в полнейшем беспорядке были расставлены тарелки со снедью. Скатерть была вся в бурых винных пятнах. Рыбные головы и индюшиные кости валялись и на столе и под столом. В центре стола лежал великовозрастный копченый поросенок с пучком голубых цветков в зубах. Приподнявшись на задних лапах, борзые собаки, рыча, вгрызались в живот поросенка. А седоусый господин от этого же поросенка зубами, по-собачьи, рвал заднюю часть, и тоже урчал.
За ломберными столиками сидели люди с картами в руках, всё здоровяки с военной выправкой, и пели самозабвенно и зычно:
Бес проклятый всё затеял,
Мысль картежну в сердце всеял,
Руки к картам простирайте,
С громким плеском восклицайте,
Дабы слышал всяк окрест:
– Рест!
Слово «Рест» эти господа кричали громовым хором, так, что стекла в окнах дрожали. И на сердце у Еремея сделалось тревожно, и даже бородатый великан Нефедыч побледнел и пошел на двор, к лошадям.
– Играть будем на деньги или на живот? – вопросил Коровяков, оторвавшись от горлышка бутылки с бургундским.
– А как это, на живот? – поинтересовался Еремей, снимая с головы парик и отирая им пот с лица.
– Проще простого, мы тут удумали правила. Выиграешь, со всех нас получаешь по сотне. Это несколько тысяч будет. Состояние. Проиграешь, из трех пистолетов выбираешь один. Причем, из трех только один заряжен. Потом компанией идем в ближайший лес, и ты там себе стреляешь в живот. Если пистолет холостой – дальше живешь, если нет, – извини, игра такая. Да ты не хмурься! Мы уже раза три играли. Я дважды проигрывал, брал пистолет, выпивал пару бутылок доброго вина. Шли в лес, стрелял. И оба раза мне попались пистолеты с холостыми зарядами. Достался бы – заряженный пулей, я бы теперь с тобой не говорил. Что наша жизнь вообще? Случай! Ты, Еремей, мог бы не родиться. Родился – выиграл, а мог и проиграть. Так ведь?
– Так-то оно так, но у меня есть деньги, почему на деньги не играть?
– Ну, смотри, на деньги так на деньги. Я же тебе как лучше предлагал, как дешевле. Ни за что ни про что, и – богат! Это у меня деньги не держатся все равно, а ты – мужик прижимистый.
– Я бы просил вашу милость не называть меня мужиком, я не мужик и у меня есть имя и отчество! – сказал Еремей краснея.
– Да будет тебе, Еремей Иванович! – воскликнул гусар. – Право, порох! От каждого слова так и вспыхивает! Садись за третий ломберный стол, я сам за него сяду, а то за другими столами тебя враз обштопают, там такие разбойники сидят, не приведи господь! Скажи, что тебе подать? Кофею? Или, может, отужинаешь сперва?
– Отужинали уже, спасибо! – ответствовал Еремей. – Вот если бы трубочку выкурить!
Он не привык к обществу. Смущался. И все же ему хотелось побыть здесь равным среди равных. Они уселись за столик. Захар Петрович Коровяков с треском раскупорил новую колоду, залихватски перетасовал её. Игра началась! Еремей начал выигрывать. Это ему придало бодрости. Он изредка стал кидать взгляды по сторонам. Примечал, что мебель у Коровякова вовсе не богатая. Очень много было собак. Высоких, тонконогих, с длинными мордами. Собаки свободно вбегали в залу, опять убегали. Некоторые кобели пристраивались к ножке стола или стула, делали лужу, никто на это не обращал внимания. Игроки пили вино, кто из горлышка бутылки, кто из бокала. Один усач потребовал подать ему пиво в ночной вазе:
– Не люблю мелких сосудов! – пояснил он. – Пить, так пить так!
Странная прихоть этого гостя была тотчас исполнена.
Еремей не знал никого из гостей. Но то, что ему везет в игре, его успокаивало.
– Свобода – великая вещь! – сказал Коровяков, в очередной раз сдавая карты. – Вот вашего князя Пьера заарестовали, и вы, Еремей Иванович, сразу стали свободным. Пришли в гости, играете. Это ли не отдых для души и тела? Ваш сатрап, ваш, можно сказать, мучитель, в узилище, а вы здесь – среди благородных людей.
Еремей побагровел, даже лысина, казалось, у него начала потрескивать от жара. Он прохрипел:
– Я сам – благородный! И не зовите меня боле Еремеем Ивановичем. Дурацкое мне дали имя, хамское: Еремей Иванович Еремеев. Но отчество мое достойное. Я – Георгиевич. Я сын Георгия Петровича Жевахова. Я – княжеский сын! Жевахов! Они меня нарочно Ивановичем величают, чтобы никто не догадался, чей я сын. Я такой же благородный, как и Пьер. А может, и достойнее его во всех отношениях. Но мать моя была крестьянкой. Она родила меня от князя и во время родов умерла. Теперь вы знаете!
Еремея колотила дрожь. Он задыхался.
– Ого, как вы взволнованы! Я понимаю вас! – воскликнул гусар. – Так вы – бастард! Но дорогой Еремей Георгиевич, ваше имя можно и переделать на библейский лад. Я буду вас величать Иеремия Георгиевич! Идет? Сейчас я скажу, чтобы нам подали моего прекрасного хлебного вина. Вы хлобыстнете стаканчик, это восстановит ваши душевные силы!
Поверьте, что перед вами сидит ваш друг. Я очень рад тому обстоятельству, что этого зазнайку упрятали в клоповник. Тоже мне, парижанин! Ни с кем из соседей не желает общаться. Привез какого-то французишку. А теперь их обоих взяли за шкирку. И поделом! Наверняка фальшивые деньги печатали! Или еще что-то такое творили. Вот тебе и князь! В нем и княжеского-то ничего нет, одно название.
– Вы знаете, Иеремия Георгиевич, я вам даже помог! – сообщил Коровяков. – Как? Очень просто! Ко мне приехали люди из сыскной канцелярии. Прибыли на простой телеге и в мужицких одеждах. Показали бумагу, попросили приюта на время сыска. Они ходили в мужицких одеждах вокруг вашей усадьбы. Высматривали. А по ночам надевали на лица маски и заглядывали в ваши окна. Я их кормил и поил. И в карты с ними играл, не то бы они тут с тоски сдохли. Вот! Выглядели, что хотели, потом вашего мучителя и сцапали! Ну, как? Благодарны вы мне?
Еремей закивал. Выпив домашнего хлебного вина, он почувствовал блаженство. Все хорошо. Он принят в обществе, он развлекается господской забавой. И так теперь будет всегда! Хороший друг этот гусар!
Но почему-то к Еремею пошла плохая мелкая карта. Он стал проигрывать.
– Уже темнеет! – напомнил он Коровякову. – Приказали бы свечей подать?
– Свечей в особенных канделябрах! – возгласил Захар Петрович Коровяков. Тотчас в зале возле столов стали загораться свечи. Света в зале становилось все больше. Еремей на миг оторвался от карт и остолбенел. Вокруг столов девки встали на руки и головы, вздев вверх оголенные зады, скрюченные ноги их молочно белели. И из щелей, предназначенных природой совсем для иных целей, торчали длинные свечи. И горели эти свечи ровным пламенем, освещая то потаенное, что обычно тщательно скрывают под одеждами.
От такой картины Еремею стало не по себе. Какие уж тут карты! Он то и дело оглядывался, и стал проигрывать все больше. Девки долго простоять в такой замысловатой позе не могли, потому через некоторое время заменялись по команде Коровякова:
– Подать свежих канделябров!
Еремей хватил подряд пару стаканов хлебного вина, протягивал руку то к одной свече, то к другой, пытаясь не то вытянуть свечку из заветного отверстия, не то заткнуть её еще глубже. Девки уклонялись от его рук, теряли равновесие. И тогда на их нежную белую кожу, и на розоватую кожицу щелей, капал раскаленный воск, и девки издавали дикий визг!
– Ну, довольно, Иеремия Георгиевич! – сказал наконец Захар Петрович Коровяков. – Так ты мне все канделябры перепортишь! Пора тебе домой, баюшки-баю. Да ты не противься, завтра, будь добр, приезжай снова. Приезжай вообще всегда, хоть каждый день! А сейчас, во-первых, ты пьян сильно, во-вторых, у тебя деньги кончились. Ты проиграл мне уже и дубовую рощу, а расписку написать не можешь… Но у меня полная зала свидетелей. Да я знаю, что ты – честный человек, не откажешься. Так что пока поезжай! И знай, что у тебя есть тут верные друзья.
Еремею не очень хотелось удаляться от игры с «канделябрами», но Захар Петрович Коровяков с ним говорил дружески, приглашал заходить, это ему льстило. «Действительно, перебрал», – подумалось ему, он вышел под руку с Захаром Петровичем на крыльцо, и крикнул Нефедычу, чтобы подал лошадей. В этот самый момент в открытую дверь вырвались звуки дикого хора:
Бес проклятый всё затеял,
Мысль картежну в сердце всеял,
Руки к картам простирайте,
С громким плеском восклицайте,
Дабы слышал всяк окрест:
– Рест!
В дороге Еремею казалось, что коляска едет слишком медленно. Он вырвал у Нефедыча кнут и принялся хлестать своего кучера по чему попало:
– Как смеешь, скотина, ползти как черепаха! Поняй!
Нефедычу терпеть удары хлыста было невмоготу, но лошадей погонять ему было теперь нечем. Он ухватился за козлы и ударял жеребцов в зад носками сапог.
– Рест! – орал Еремей. – Окрест-рест!
Раза два Еремей вываливался из коляски, набил себе огромную шишку на лбу. Все же прохладный воздух вечера произвел на него некоторое отрезвляющее воздействие, он отдал кнут Нефедычу и отряхнул от пыли сюртук.
Коляска подкатила к барскому дому. Еремей сказал Нефедычу:
– Езжай на конюшню, пусть конюх распряжет жеребчиков. А ты возьми у него хорошие тонкие вожжи. Узлы, чать, вязать умеешь?
– Как не уметь!
– Ну так поспеши!
Нефедыч вернулся, они вошли в темный дом. Еремей принес из своей комнаты канделябр. Сказал:
– У них свои канделябры, а у нас свои. И ступай потише, не как слон, а не то убежит.
– Кто?
– Канделябр.
Нефедыч подумал, что управляющий рехнулся. Но пошел на цыпочках. Пришли к комнатам, в которых Пьер Жевахов разместил Палашку с той поры, как она стала его любовницей. Она жила теперь как барыня, в её комнатах были цветы в горшках, диваны, картины, книги. Голландская раззолоченная лютня и статуя Аполлона Бельведерского украшали её жилье. В клетках резвились щеглы и канарейки. Кровать в спальне была застелена простынями и покрывалами с рисунками русских пейзажей.
Еремей рванул дверь, она оказалась заперта изнутри задвижкой. Это было особенно обидно: безродная крестьянка, а барыню из себя корчит! Еремей рванул дверь, и оторвалась дверная ручка!
– Отопри! Хуже будет!
– Ни за что не отопру, барину пожалуюсь!
– Барину? Я сам теперь барин! Нефедыч, тащи топор!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































