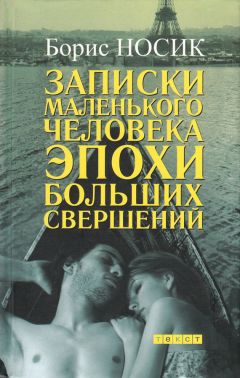
Автор книги: Борис Носик
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Русинов вдруг понял, отчего пришло воспоминание, и взъярился. Юноша-атлет из раввинского дома. Он еще мне будет рассказывать о моей принадлежности, сытая сука из сытого французского городка! Он мне будет указывать, кого мне сегодня любить и куда ехать! Что мне и где строить, какие петь песни! Это мне-то, устоявшему перед соблазном дешевого патриотизма, соблазниться вдруг убогим их национализмом!
– Стоп, Сеня, стоп! – сказал Русинов. Не тот, который расстегивал штанишки в чужой квартире, а тот другой, который вежливо хлебал воду с мятным сиропом. – Стоп, Сеня, стоп! Вы себе лежите на холме среди степу широкого, однако вы еще не мертвый. Вы еще не написали свой «Заповит», хотя вы себе собрались умирать на чужбине… Как же это было в одном таджикском стихе (перевод, наверное, Немы Гребнева, но стих таджикский):
Когда в чужом краю мне гибель суждена
И саван мне сошьет не мать и не жена —
Я на горе хочу лежать, быть может,
Твой дым ко мне дойдет, родная сторона.
Ох, как жалко себя и как он пахнет, таджикский дым! Нигде так не пахнет дым, так горько и так сладко. Может, это горелый навоз, но все равно, пусть так, пусть только пахнет, пусть дойдет ко мне этот дым. Если ж и дым не доползет, если уж я решился на это, умереть вдали, неужели он, упитанный мальчик из французской облсинагоги…
Прошла мимо жена фермера в тряпичном жакете, спросила, не холодно ли ему здесь. Видя, что он плохо понимает диалект, повторила раз, и два, и три.
– Нет, не холодно, – ответил наконец Русинов. – Тут у вас хорошо…
Он спросил, можно ли купить молока, и она засуетилась – можно, конечно, можно. Лучшие люди, крестьяне и философы. Философы и крестьяне. Никто не травит его собаками, не гонит с луга. А если очень попросить, то, верно, пустят и в сарай. Конечно, это не Россия, не Средняя Азия: никто не тащит тебя в избу, не заклинает ночевать в горнице, убеждая, что «ночлег с собой не носят». Никто не мечет на стол все, что еще уцелело в печи, в тануре. И все же – они доброжелательны к нему здесь. И крестьяне. И философы. И глупые леваки…
Он еще не совсем привык спать на земле и испытывал неудобство. Однако в неудобствах этой жизни было свое удобство и своя отрада. Он вдруг вспомнил, как изнеженный Пьер Безухов ночевал в Москве, в чужом доме, во время отступления. Граф Николаич, познавший где-то клошарскую бесшабашную отраду, писал, что это было чисто русское чувство презрения к удобству, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, что почитается большинством людей за высшее благо. И тут же добавлял, что и богатство, и благо если и стоят чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить…
Привет, мон вье Пьер! Привет мон шер! Привет Ясной Поляне на рассвете, зеленой могилке в росе, статным соснам Оптиной пустыни, под которыми довелось однажды ночевать вот так же, в спальном мешке. Привет всем. Салютти афеттуози а тутти! Адье!
Ночью ему приснилось, что он плывет по реке. Одежда его промокла, Русинов ощутил холод и проснулся. Он и правда лежал в воде. Он не успел испугаться, вспомнил, как текут, меняя направление, потоки по склонам таджикских гор… С вечера здесь тоже было совсем сухо и вот…
Всю ночь он пытался согреться, а утром обсох в кафе, съел кусок хлеба, запил горячим молоком и ощутил простую радость тепла и сытости, более доступные и острые там, где их не хватает, где они достаются с трудом. И пожалел тех, кого постоянное довольство и достаток лишили остроты этих ощущений…
На следующую ночь он вдруг вспомнил сына, оставшегося Там, и к нему пришла жгучая, нестерпимая боль. Вспоминалось все – каждый жест, каждое слово, каждая размолвка и каждая невольная ласка. Тогда впервые ему по-настоящему захотелось умереть. Но было еще не время, и он призвал на помощь жестокую индийскую мудрость одиночества… Тогда чуть-чуть отпустило, и он даже уснул под утро.
* * *
Еще он жил на длиннющем пляже в Камарге, где рдеют на закате фламинго и люди ходят голые, как в раю. Потом он снова перебрался в Прованс и жил возле Байона на душистом плоскогорье среди полей лаванды и белых камней. Жил там в брошенной пастушьей хижине – «бержери», сложенной с гениальной простотой и умением из тех же белесых провансальских камней.
Здесь, в этой блаженной жаре на голых камнях, посетило его однажды мучительное воспоминание о русской весне – о ее бродящем хмеле и запахе, о бесконечно долгом набухании и таянье снега, об аромате весенней прели и бесстыдном обнажении из-под снега давно потерянных, брошенных и забытых предметов (старой куклы, рваных подштанников, дохлой собаки и презерватива). О робком солнце, незрелом, как школьница, о холодной еще белизне берез, о первой капели и перезвоне птиц, о нежном и тоже похожем на капель, остром весеннем ощущении возраста, когда все хвори – в тело, и седина – в бороду, и бес – в ребро.
Однажды он увидел на указателе название, что-то ему напомнившее, порылся в длинном списке адресов и увидел это самое названье Ле-Мезон, и вспомнил, как получил этот адрес в дороге от какой-то лихой интеллектуалки («Мы с мужем будем очень рады…»).
Его вдруг потянуло на люди. Он добрался туда ночью фэр-дю-стопом, услышав крики и музыку, постучал, отворил дверь и увидел танцующих полуголых или почти голых людей. Узнав его (хотя и не без труда), дама представила его своему старому мужу, который тянулся, изо всех сил тянулся за богемной кодлой, собранной молодой женой-интеллектуалкой. Дама сказала, что Русинов очень «вписался» в их компанию, а он уже выпил молока и приглядывался теперь к молодым и старым гостям, пораженный их исступленным стремлением быть «на уровне», быть богемой, быть людьми без условностей. Из этого он заключил вскоре, что все они мирные добропорядочные буржуа, ощущающие неудобство от своей буржуазности. Самым голым, изнеженным и развязным в компании был юный «профессор», а точнее говоря, учитель французского языка из местной средней школы. Все веселились так бурно и говорили так много, что Русинов ушел спать под утро, твердо решив, что это посещение достойно увенчало светскую карьеру всей его жизни.
Однажды человек, подвозивший его в Провансе, пригласил Русинова ночевать у него на вилле, а утром, узнав, что Русинов был у себя на родине какой-то там писатель-засратель, предложил ему издавать вместе газету. Он был готов выделить Русинову второй этаж своей виллы для жилья и даже оклад жалованья, потому что у него были деньги, время и какие-то амбиции, однако Русинов отказался, а потом, уже где-то за Экс-ан-Провансом, вспомнив вдруг об этом предложении, ощутил необычайную легкость и стал напевать, на свою собственную мелодию, однако на чужие стихи:
О как счастливы мы, свободные от жадности,
Среди прочих, снедаемых жадностью,
Так живем мы, свободные от нее…
* * *
Разнообразие и сладостная красота французских гор приносили ему неизменную радость, пейзажи менялись – от Перигора к Гаскони, от Пиренеев к Провансу… Он обнаружил с удивлением, что жажда общения иссякает в нем. Ему виделся какой-то незнакомый еще собеседник, но по самой удивительной понятливости этого таинственного собеседника, по его удачным репликам Русинов иногда угадывал в нем самого обыкновенного двойника, другого Русинова, того самого разгульного шута, который надругался недавно над кроткой дочерью Израиля, который все время подавал свои охальные реплики, и зачастую весьма некстати…
Туристический сезон еще но вовсе угас, и небо время от времени все же посылало ему собеседников – то школьников, то студентов, то дикарей-туристов из недальних стран старой Европы, то бодрых детей Нового Света…
В жестокую пору мистраля Русинов стал подумывать о новых маршрутах миграции. В запасе у него были еще Италия, путешествие ко Гробу Господню, а может, также и к Каабе, странствие по Северной Африке и Сицилии…
В сентябре, напившись воздуха лавандовых пустошей Прованса, он повернул на юго-восток, к Лазурному берегу и сладостной французской Ривьере.
Он стоял полдня на пустынном шоссе возле Граса и вспоминал: Бунин в Грасе. Он входит в кабинет под вечер, глядит из окна на горы, на плод мандарина под окном. Слышит ярмарочный шум в День святого Михаила. Выходит в сад лунной ночью, чтоб запереть часовню… И всегда, всякий раз вспоминает Россию – «удивительная, ни с чем не сравнимая страна». Иногда, глядя на Эстерель, изумляется красоте Божьего мира – среди чего приходится жить? «А когда-то Озерки…» Что было там, в Озерках? Та же красота Божьего мира? Ведь главное, что внутри, настроение, магия души – поворот, и блеснуло горлышко бутылки на плотине (что твой Цейлон?), море засмеялось оптимистическим смехом соцреализма (что Сорренто?). Гнетущая тоска разлуки, сосущая боль и легкий ностальгический кайф – эмиграция. Правда ли, что она бесплодна, эта грусть, эта «обольстительная тайна» набоковского героя? Плодился же Бунин. Плодился все долгие полвека сам блистательный Набоков. А бесплодны были те, кто и дома был бесплоден…
Он проехал Грае, уютный Валлорис, а потом за два дня поспешно проскочил все эти французские Гагры и Сочи. Впрочем, за Тулоном вдруг замедлил темп – здесь было меньше курортников и больше Франции. Заночевал в горах возле маленького Олюля. Утром у моря вспомнил:
Над океаном блеск и тишина,
И в этом блеске стынут корабли…
Еще один из тех, кто заселил русиновскую дорогу стихами, словами, томительной грустью…
Узнает ли когда-нибудь она,
Моя невероятная страна,
Что было солью праведной земли?
А соли нынче что же – грош цена…
Да, правда, и какое это имеет значение – узнает, не узнает, во что оценит… Неужели это и впрямь так важно? А если важно – то ведь, может, еще все-таки узнает… Дошел уже черед до Набокова, до Бунина, дойдет черед и до Русинова, через добросовестного Дашевского или еще как-нибудь, но еще до этого подойдет другой, тоже очень важный срок и черед, уйти за теми, кто был. Все в свой черед…
Он задержался в прелестной бухте возле Кассиса, а потом вдруг оказавшись ночью в Марселе, бродил по кварталу Кур-Бельзен, вороша в памяти пацанские песни о притонах Марселя. Под утро он, увлекшись, залез в какую-то темную кофейную, попал туда не вовремя и чуть не напоролся на нож – еле успел объяснить по-английски, что он никто и ничто. И тогда совсем черный человек – почему-то он был вьетнамец – забрал его к себе ночевать, чтобы показать ему квартиру (жалкая современная халупа в новом квартале), невесту (судя по всему, это была портовая шлюха) и старушку маму, которую он вовремя перевез из Вьетнама. Романтика пацанских песен облезала в убожестве мещанской квартирки, в предутреннем семейном скандале, в усталости, в маминой жалкой улыбке и чашке рисовой каши…
Наутро Русинов снова двинулся к северу. Дорогая машина подобрала его невдалеке от Экса, в душистом сосновом лесу, где так хорошо было шагать одному. Он не преодолел соблазна, сел в машину и вступил в разговор с попутчиками: там были серб-художник, искусствовед-француз и беременная жена француза…
Это случилось на спуске, на крутом вираже серпантина. Завизжали тормоза, водитель что-то крикнул жене, сидевшей с ним рядом. Удар. Толчок… Русинов очнулся на склоне, в кустарниках, огляделся – увидел чуть ниже, в кустах, свой красный спальный мешок, а еще ниже, на скалах, машину: она еще катилась, переворачивалась, почти так, как он тысячу раз видел это в кино… Он отвел взгляд, посмотрел в синее, безоблачное небо. Он был жив, конец был отсрочен по каким-то неведомым причинам, которые он был согласен считать состоятельными…
1978
Песни и молитвы горнолыжника
(из повести «Гора»)
Предисловие горнолыжника
По утрам в Чегете я что-то такое сочинял. Какие-то романсы и молитвы. Потом, по дороге на канатку, забегали ко мне чегетские инструкторы – в комнатку украинской биостанции, где я спал, или на ее плоскую крышу, где пытался сочинять прозу. Спрашивали: «Новые есть?» Хозяйски спрятав в шуршащий комбинезон мой единственный экземпляр, обнадеживали: «Музыка будет к вечеру». Иногда теряли бумажку где-нибудь на горе. Но Влад Чеботарев никогда не терял: он был старший инструктор и мой друг. Со временем я стал проводить месяцы «межсезонья» у братьев Чеботаревых в Крыму. Там тоже писал. Там тоже пели.
В Москве друзья-композиторы сочиняли иногда музыку на мои тексты – бедный Саша Тараненко, почтенный Алмаз Манасыпов, прелестная Анечка Икрамова (добрый отчим Камил привез ей из Франции синтезатор).
Пели эти песни чаще всего в горах, но иногда и в долине. Переводные пела по-русски волшебная полька Эва Демарчик, анонимно, как водится, пели их в московских театральных спектаклях, а недавно спела русская актриса в польском фильме «Маленькая Россия». Одну, о травке (на музыку Ани Икрамовой), грозилась спеть чудная Камбурова. Может, даже и спела. Что-то спел Сергей Никитин. Но чаще прочих, конечно, пел Влад Чеботарев. Под гитару, в горах. Предприимчивый палаточник Карп даже продавал у нижней станции чегетского подъемника наш «альбом». Это был пик нашей скромной высокогорной славы.
Все свои «серьезные» стихи я давно растерял. Но вот, отправляясь недавно на вечернюю прогулку в лес Дило, что близ нашего хутора в Шампани, прихватил я, как всегда, «уокмэн» и первую попавшую под руку кассету, а войдя в лес, нажал кнопку – и обмер: Владик поет… Отгуляв в лесу прописанное кардиологом время, вышел я на опушку, двинулся к своему хутору через поле пшеницы, ячменя и рапса, а он все пел, пел и пел, Владик. Он пел, а я слушал – про былую безбедную жизнь горнолыжника. Господи, велика щедрость Твоя…
Домой пришел чуток растревоженный, сел за стол и чуть не все расшифровал с пленки.
МОЛИТВА
О Господи, Твоя разлита благодать
В сосне, горе и белой этой снежности.
А может, и во мне, в моей усталой нежности —
О Господи, Твоя разлита благодать.
О Господи, дела Твои чудны —
И неба твердь, и каждое создание, И шум лесной, и тайное свидание —
О Господи, дела Твои чудны.
О Господи, Ты славен и всеблаг.
Как высшее Твой день приемлю благо.
В Твоем творенье сложности отвага —
О Господи, Ты славен и всеблаг.
О Господи, Ты добр и милосерд:
Под небом я беспечною мишенью
Семижды семь умножил прегрешенья —
Но Господи, Ты добр и милосерд.
О Господи, всезнанью Твоему
Так явны все дела мои ночные
И мысли, и движенья потайные —
Всевиденью, всезнанью Твоему…
О Господи, открой Твои пути
Заблудшему в бессмысленном хожденье,
Погрязшему в тоске и наслажденье —
О Господи, открой Свои пути.
О Господи, где грань Добра и Зла?
Опутаны порукою греховной,
Божбою лишней, лаской безлюбовной —
О Господи, где грань Добра и Зла?
Осенний лист
Может быть, отчаянны да исты,
Нам накличут смерть иеговисты.
Может быть, неправедные яйцы
Нам отрежут желтые китайцы…
Все ж, однако, бурый лист осенний
Мне сулит надежду на спасенье.
Падшая, опавшая листва
Шепчет мне утешные слова.
Говорит: «Все было, было, было
И быльем давно уж поросло.
Все, чем нас гнобили, не сгубило,
Все, что нам грозило, пронесло.
И пока пылит твоя дорога,
Не спеши откинуть костыли:
Много городов еще у Бога,
Много неисхоженной земли.
Пора отъезда
Пора отъезда – грустная пора,
Напрасная морока расставанья…
Я вас покину, белая гора,
И неба синь, и снежное блистанье.
Как ни тяни, всему придут конец
И грубость непрощенная ухода.
Глянь – ледниковый светится венец,
И столь нежна кавказская природа.
Как тяжело в такой вот день уйти,
И странствий дух мне нынче неприятен.
Мне суета дорожная претит,
Приезд же будет, как всегда, некстати.
Так объясни, зачем же я спешу,
Зачем в тоске терзаю расстоянья,
Зачем мне эти суета, и шум,
И грустная морока расставанья?
А может, просто должен привыкать
Я к грубости последнего ухода?
За тем и марта нынче благодать,
И так нежна кавказская природа.
В какой мы, друг, поре?
Ночь холодна, и день, как снежный наст,
И все на памяти старик Екклезиаст,
И все на памяти, что каждой вещи – час,
Что день родившийся закончится без нас.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Есть время шить и время разрывать,
Злодейства время, время врачевать.
Есть время обнимать, и час уйти за дверь,
Есть время поисков, и есть пора потерь.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Есть день любви и ненависти ночь,
Пора прихода – и ухода прочь.
Есть время сберегать, и время все бросать,
Есть время сад садить, и время вырывать.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Смеяться время, время слезы лить,
Есть время, чтоб молчать, и время говорить,
Разбросанные камни собирать,
Родиться время, время умирать.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Мой скуден хлеб, я одинок в труде,
А там, где двое, – им светлей в беде.
И там, где двое, – им теплей в ночи.
Но мы одни, мы мерзнем и молчим.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Все, что по силам, сделай на земле.
Что не успеешь – скроется во мгле.
Мы путь земной проходим только раз —
Так говорил мудрец Екклезиаст.
А мы с тобой – в какой мы, друг, поре?
Последний снег растаял на горе…
Письмо из Ленинграда в Гаспру
Какое холодное лето
У нас в изумрудном раю.
И мы по-ноябрьски одеты
У Духова дня на краю.
И тяжкое серое небо
Нависло, как вечный обвал.
Июнь будто сроду здесь не был,
А зной никогда не дневал.
Так влажно полощется ветер,
Так мокро свежи тополя…
Мне вспомнилось вдруг, что на свете
Есть южная ваша земля,
Где солнцем прогретое море
И пляжа сухие пески
В негромком полночном раздоре
Касаются темной руки.
И жизнь, наподобие круга,
Замкнулась, как старый недуг:
Затем и примчался я с юга,
Чтоб снова стремиться на юг,
Чтоб снова вкусить перемену,
Подставить себя под удар…
Как будто бы вырвал из плена
Свободы довременный дар.
Песня о ели
Ты просишь песню спеть о ели.
Как мне украсить песней ель?
Она растет без слов и трелей,
Сама себе судьба и цель.
В ней острых игл терпкий запах,
Надменность стройного ствола.
Как много света в колких лапах
Она из мрака принесла!
Зеленоигла и ветвиста,
Она невинна и стара.
Она и сумрачна, и мглиста,
И многоцветна, и пестра.
Она качается приветно
Под чуткой тяжестью синиц.
Она мне щурится ответно
Зеленомножеством ресниц.
Твой пот янтарный ароматен,
А хвоя хрупкая звонка…
О ель, мне облик твой приятен.
Мне стать бы елью на века.
Сосна
Сосна возле третьей опоры,
Где домик, и спуск, и бугры,
Отрада несытого взора,
Красавица белой поры,
Мне тайны твоей не разведать,
Рассудком красы не разъять —
Свеченье коры твоей медной,
И всю твою гордую стать,
И ласку ветвей, и улыбку,
И хвои чуть слышную дрожь —
Когда ты с отвагою гибкой
Тот северный склон стережешь.
На этом заброшенном склоне
Я встречу тебя и замру,
Жемчужина в горной короне,
Цветок на морозном ветру…
Пусть вьюга чегетская злится,
И путь мой ведет под уклон,
Я так же хотел бы продлиться,
Последней красой убелен.
Я так же хочу, в полудреме,
Сходя к непробудному сну,
Стоять на заброшенном склоне,
Где вьюга ласкает сосну.
Мне тайны твоей не разведать,
Рассудком красы не разъять.
Позволь хоть пока, до обеда,
Мне рядом с тобой постоять.
Притчи
Не проворным победа в беге,
И не храбрым победа в бою,
И не мудрым – корзина хлеба,
Не разумным злато дают.
Не искусным хвала и милость,
Не красивым радость утех…
Все для неба такая малость.
Только случай и время для всех.
Никакой не таи обиды,
Не проси никаких щедрот.
Подожди – твое солнце выйдет,
Погоди – твое время придет.
Не порвалась еще цепочка,
Золотая повязка цела,
И на дереве три листочка…
И Господни светлы дела.
А когда, завершив дорогу,
Прах твой станет опять чем был,
То душа возвратится к Богу,
И не будет другой судьбы…
Суету сует и томленье
С мудрой горечью, без прикрас,
Описал векам в назиданье
Ветхий старец Екклезиаст.
Ни слова про весну…
Ни слова про весну – еще морозит
И на канатке руки леденит,
Из-за горы метелью склон заносит,
И лед еще по-прежнему звенит.
Но целый вечер мне певунья-птаха
Пророчит долгожданное тепло.
В лицо метели без тоски и страха
Она кричит, что минуло, прошло…
Что скоро солнце обожжет долину
И расцветит Чегета белизну.
Тогда уж я тебя, мой друг, покину
И в суету надолго окунусь.
Там, ползая весь день по подземелью,
В метро, где мы ни люди, ни кроты,
Увижу вдруг за черными тоннелями
Просвет чегетской белой красоты.
Услышу склона тихое шуршанье
И сонное молчание долин
И в толчее московской, опечаленный,
Останусь на мгновение один.
Замрут вокруг скрежещущие звуки,
Чтоб не порвать воспоминанья нить…
Не для того ли нам даны разлуки,
Чтоб брошенное нами оценить?
Не оттого ль мы мечемся по свету
И в завтра мчимся, вовсе не ценя
Ни горы, ни страну и ни планету,
Ни вечер угасающего дня?
Не оттого ль придет воспоминанье
И я замру, догадкой уязвлен,
Что без нужды спешил я с расставаньем,
Что до поры покинул белый склон?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































