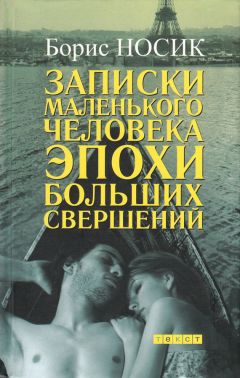
Автор книги: Борис Носик
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
18 июля
Дорогой Яков!
Не знаю даже, есть ли у тебя время на чтение моих бесконечных писем. Я словно звоню тебе каждые полчаса по телефону (конечно, письма более милосердная форма принудительного общения – их можно не читать). Звоню – а потом идут длинные и путаные рассуждения о долге мужчины и женщины или о детской психологии.
Сегодня вот я думал о бегстве от себя и от окружающих. Человек был всегда опутан множеством забот – о хлебе насущном, о прокормлении потомства. Но были же монастыри, да пустыни, да малые скиты.
Шпионы из детективных романов сообщают, что прятаться в лесу и в поле – дело безнадежное. Прятаться надо в толпе в часы пик, в перенаселенных трущобах сверхгородов. Ты знаешь мое отвращение к шпионству и к тайнам, дорогой Яков, но как неудержимо наше стремление к тайности своей жизни, ко «второй» или даже «третьей», сокрытой даже от второй… Неужели только в современной трущобе можно обрести освобождение от никчемушных обязанностей и от собственного «я». Неужели именно там возникают упрощенные, ни к чему не обязывающие связи, не задевающие тебя по-настоящему и не касающиеся тебя прежнего. Ты проходишь незамеченным через толпу или валяешься на кушетке, никем не знаемый, брошенный всеми. Время отступает. Отступают твои заботы, связи, обязанности. И какие странные раскрываются при этом кишащие вокруг тебя миры! Какие нелепые люди, согбенные тяжестью своего креста! Загадочные утра и ночи, наполненные шорохами чужой суеты, чужой тщеты. Такова моя нынешняя трущобно-подмосковная деревушка, в которой я нашел себе временный, то многолюдный, то до ужаса безлюдный приют. Целое утро какой-то моложавый мужчина бродит по двору под суетливо-ласковые причитанья супруги. Человек этот давно слепой, с самой войны. Что делает он в этом темном своем мире? Какую фальшь различает в голосах, и прежде всего в этих знакомых ему жениных причитаниях? Чуть не с шести утра по двору бродит крошечный забитый сосед-шофер в серой милицейской рубахе, подаренной старшим сыном. Его рослая жена с уважением сообщает мне о нем, что он уже в половине шестого утра достал выпить. Она то снисходительна к нему, то помыкает им безжалостно, а может, и поколачивает. Она и сама была когда-то шофером самосвала. Чем озабочен с шести утра этот косноязычный, бессловесный, вечно нетрезвый человек?
Дети копошатся в песке. Взрослые смотрят на них с надеждой, напоминая порой, что в этих безвинных малышах и содержится смысл жизни. Но мы-то с тобой, Яков, должны были понять, что значит все это. Иначе как сможем мы об этом писать?
Твой Зин.
Письмо четырнадцатое(Без даты)
Дорогой Яков!
Какую странную жизнь я веду, Боже, какую странную жизнь! Ставши не нужен семье, я схожу, просто спадаю с орбиты привычных обязанностей, а вместе с тем и с привычных маршрутов. Так, неделю назад, в сильную жару, проезжая в тысячный, наверное, раз мимо привычной станции метро, я вдруг увидел за окном водоем. Это был наполненный водой строительный котлован, в котором купались в жару взрослые и ребятишки. Я вышел из поезда, разделся у воды и просидел здесь почти полдня в какой-то случайной компании – над зеленой, зацветающей водой, почти в центре города, под оградой метро. Я даже вошел разок в эту воду, преодолевая брезгливость, поплавал между автобусной остановкой и станцией метро, потом просыхал у решетки рельсового ограждения и размышлял о странной особенности этих людей, в компании которых оказался. Люди эти не ищут живописных и уединенных мест, предпочитая ближайшее подобие природы и многолюдное общество. Многолюдство они, вероятно, считают вовсе не недостатком этих пляжей, а скорее их преимуществом, еще одним свидетельством того, что это место стоящее. Я замечал такое не раз, видя неравномерное распределение людей на городских и курортных пляжах. Помню, как поражен я был однажды этим свойством простого человека в тихом городке Осташкове, что на берегу озера Селигер. Гуляя по окраине городка (несколько удаленной от озерного берега), я обнаружил, что на берегу крошечного, затянутого мазутом пруда с довольством отдыхают несколько семей, на пожелавших идти к лежавшему за километр отсюда роскошному озеру, – отдыхают всерьез, с выпивкой, провизией, с транзисторами и картами. Ни мазут, местами густо покрывавший пруд, ни торчащие из воды автомобильные скаты, ни свалка железа на берегу словно бы не омрачали безмятежность воскресного отдыха трудящихся и их дружеского пира…
А вчера – удача: я забрел в старинный московский парк на пути к дому и обнаружил в нем укромный, хотя и не вовсе безлюдный мир близ прежних моих городских путей. Рядом с утопающими в зелени старого парка дощатыми бараками я обнаружил заселенный каким-то случайным людом старинный дворец. Доброжелательная и беззубая местная бабка меня заверила, что дворец это нарышкинский и что если к нему подойти с фасада, то увидишь мраморную статую какой-то «дочери Нарышкина». Я обошел дворец и статуй обнаружил великое множество – все какие-то неопознанные дочери Зевса. Статуи белели и по обе стороны аллеи, спускавшейся к Москве-реке. Внизу была лодочная станция. Я взял лодку, плавал дотемна, а потом сдал лодку и вернулся ко дворцу. Теперь здесь было пустынно, и я почувствовал себя одиноким и вконец несчастным в опустевшем Кунцевском парке.
Я пошел прочь по шоссе и вспомнил стихи Огарева, пожалуй что с этим самым парком и связанные:
Мне жалко радости былой,
И даже прежних жаль страданий,
Знакомых мест, любимых мной,
И наших кунцевских скитаний.
Куда только не заводят меня сейчас мои праздные скитания, милый Яков.
Твой Зин.
Письмо пятнадцатое6 августа
Дорогой Яков!
Мы с тобой вступили в совершенно новую, еще не очень понятную мне сферу отношений. Поверь мне, они есть, эти отношения, иначе бы я не писал тебе в полной уверенности, что письмо мое до тебя дойдет. Я думал об этих непрекращающихся наших отношениях, уже и когда мы везли тебя через весь-весь город, на Востряковское кладбище. Я думал тогда, конечно, и о том, как виноват перед тобой, что не побывал у тебя в больнице и не писал тебе весь долгий период твоей болезни. Но ты ведь знаешь, что я успел пережить за это время… Теперь у меня все как будто забыто (не знаю, впрочем, надолго ли), и Кока ведет себе так, будто между нами ничего такого не случилось, а я вот…
Но тем временем случилось это ужасное и неповторимое с тобой. Какое то время мне казалось, что тебя больше нет. И я был так виноват перед тобой, которого теперь нет. Но вот я решил для себя, что все же ты есть, и теперь я тебе пишу без всякого налета отчаянья – во мне ты живой, и пока я есть сам, ты будешь жить.
Как обычно, расскажу о новостях. Мой редактор Валерий Афанасьевич оказался лицом достаточно влиятельным, чтобы со мной после всех хлопот все же заключили договор на пьесу – о любви агронома к звеньевой, отличнице междурядных посевов. Это очень нужная в этом году тема, и на последнем совещании молодых драматургов было во весь голос сказано, что нам нужен не просто рабочий класс как герой, а рабочий класс в сфере производства со всей его спецификой, равно как и трудовое крестьянство с его особой спецификой. Сам понимаешь, что я ничего не собирался писать про междурядные посевы, и если честно тебе сказать, то и про агрономов тоже, но Валерий Афанасьевич заверил меня, что в моей пьесе все это уже есть. Сам он столько лет работает в издательствах и главках, что, конечно, знает это лучше нас с тобой. Теперь на мою долю выпадает трудная для меня задача – написать эту пьесу или в худшем случае вернуть аванс и утратить всякую надежду на успех. Я часто вспоминаю о времени, когда, нищий и гордый, жил на пустой даче и у меня еще не было ни с кем договора, а только была надежда, вещь несравненно более привлекательная. С аванса мы отдали часть долгов, оба вставили себе зубы, и Кока выбросила наш старый диван. Честно говоря, жаль: у меня столько с ним было связано чудных и горьких моментов, право жаль… К тому же аванс растаял так быстро, словно их и не было, этих четырехсот пятидесяти рублей – почти полтысячи!
Конечно, все это ужасная мура, суета сует и всяческая ерунда, то, о чем я пишу тебе, лежащему в уютной тени берез на Востряковском кладбище, дорогой Яков, лежащему невдалеке от могилы писателя Ф.Сито, куда долетает приглушенный гул кольцевой дороги, и от ограды, где бродят местные жители, крадущие цветы с могил и снова продающие их этим старушкам и молодым евреям, которые так носятся со своими покойными родственниками, как будто лучше их никого не было и нет на свете. Я пишу про это, думая, что все это тебе интересно… Странное дело, эта моя уверенность передалась Коке. Она вошла в комнату, спросила, кому я пишу, а когда я сказал, что тебе, то добавила спокойно: «Передавай привет!» Потом она раз или два заглядывала в мою комнату, но от работы меня не отрывала, а это ведь главное – чтобы не отрывали.
Твой Зин.
Письмо шестнадцатое20 августа
Милая, любимая жена Кока!
Я совершенно уже обосновался в этой красивой украинской деревне, но мне скорее плохо тут, чем хорошо, потому что я не понимаю, зачем я тут и как мне отдыхать.
Сегодня утром, когда я завтракал, в комнату вошел украинский мальчик и спросил меня, что это нарисовано (по-украински говорят – намалевано) на картине. Картина висела у меня за спиной, оборачиваться мне было неудобно, и я сказал ему, что художник здесь изобразил глубокий обморок сирени. Он ушел, а я, милая Кока, задумался о путях искусства в моей жизни и даже решил написать тебе об этом письмо, учитывая твою жалобу на то, что я пишу тебе только о проблемах «ножа и вилки», совершенно не выходя из сферы бездуховности. Так вот, задумавшись над местом изобразительного искусства в моей жизни, я вспомнил, что мое первое знакомство с мировой живописью произошло еще в детские годы, в деревянной пристройке на северо-восточной окраине Москвы, в селе Алексеевском, где у дедушки и бабушки была собственная клетушка. Сейчас на месте их домика стоит замечательный памятник космической ракете, улетающей ввысь и даже дальше. А в ту докосмическую пору у их соседей по пристройке, у супругов Хаимовичей были две милые грубоватые девочки – Беба и Нюся, с которыми я, будучи ребенком, всю неделю играл в разные городские игры, например в дочки-матери. А вот по воскресеньям сам Хаимович, большой и грубый мужчина, работавший пожарником (это было популярное занятие среди тогдашних лимитчиков, конечно, не столь престижное, как в США или в романтической Франции, но все ж дававшее московскую прописку) и бывший хорошим отцом, нам «показывал картины». Это было для нас большое событие, и хотя в будние дни мы иногда и сами, тайком, без спросу, кое-что в его «альбоме» подглядывали, все же можно с уверенностью сказать, что искусство вошло в мою жизнь вместе с Хаимовичем. В эти минуты неторопливо-торжественного исполнения отцовского долга Хаимович доставал из шкафа собрание бумажных репродукций (кажется, это было дешевое издание Пушкинского музея) знаменитых картин, принадлежавших кисти выдающихся работников зарубежного искусства, осторожно, по одной, вынимал эти картины из папки, а потом, как ученый лектор или искушенный экскурсовод, с неторопливой важностью сообщал нам содержание подписи на обороте. «Эта картина, – говорил Хаимович, – изображает мельницу в деревне, 1886 год, Государственный музей…» Иногда Хаимович от себя добавлял, что мельница – это такое место, где зерно превращается в муку и так далее. При комментировании более сложных сюжетов Хаимович проявлял похвальную сдержанность, и оттого эти сложные сюжеты оставались для нас необъясненными (понятное дело, они-то и толкали нас на будничные тайные экспедиции в бельевой шкаф, где надежно прикрытые могучими кальсонами пожарника таились мировые шедевры). Должен признать, что наши торопливые тайные просмотры тех же «картин» по будним дням, в отсутствие взрослых, все же не доставляли нам того удовольствия, как сеансы, проводимые самим местечковым богатырем Хаимовичем. Никто из нас не умел так торжественно вытягивать репродукции из папки, так искусно сокращать время демонстрации сомнительных сюжетов и так многозначительно крякать при этом в знак восхищения, как останкинский пожарник Хаимович, павший впоследствии смертью рядового винтика на каком-то из фронтов великой войны титанов. На своих тайных просмотрах мы обычно извлекали из заветной папки ту самую картину, которую Хаимович, как правило, поворачивал лицом к стене почти мгновенно, а то и вовсе оставлял ее в папке невынутой, вдруг заявив, что на сегодня хватит. Это была картина «Геркулес и Омфала» (я так и не помню, кто ее создал, но этот пробел в своем художественном образовании списываю на счет просветителя Хаимовича). Картина изображала, упитанную женщину, которая сидела на коленях у здоровущего голого мужчины и при этом, кажется, еще и целовала этого здоровяка Геркулеса. Запретная картина необъяснимо волновала наше незрелое воображение, но насколько я помню, мне было трудно представить, чтобы я смог когда-нибудь усадить на свои тощие коленки обнаженную Бебу или Нюсю, да еще и самому раздеться при этом, хотя бы и до трусов… Прошло с тех пор много лет, и жизнь внесла губительные коррективы в мое нравственное развитие, однако я и сейчас не очень себе представляю, как я стал бы держать на коленях такую толстую и совершенно голую тетеньку. Означает ли это, что я и тогда уже проявлял слабое понимание законов искусства?
Может, просто быстротекущие опыты жизни привели меня к антихудожественной мысли о том, что глаза жаднее брюха. А может, я просто не встретил на жизненном пути свою Омфалу. Тебе судить, милая Кока, тебе видней, я лишь могу изложить тебе несколько фактов из своей биографии, без всякой претензии на анализ, зато с полной откровенностью и честной беспощадностью к самому себе.
Война и эвакуация на время удалили нас, довоенных заморышей, от сферы прекрасного, зато в нашей послевоенной московской школе гуманитарное просвещение занимало весьма почетное место. Нас регулярно водили в Третьяковскую галерею, где передавали в руки ученых искусствоведов. Именно здесь мы раз и навсегда усвоили, что картины отражают различные моменты из жизни прошлого и настоящего. В первом случае картины разоблачают прошлое, во втором – они радостно воспевают нашу действительность. Чем решительней они это делают, тем картины художественнее и реалистичнее. Лучшими творениями мирового искусства считались картины русских художников-передвижников, на которых как живые предстают перед нами быт и нравы различных классов обреченного общества. Когда глядишь на эти картины, то становится совершенно ясно, что весь этот мир с его серебряной посудой и тщательно прописанными ломтиками лимона был обречен на перемены к лучшему, в чем убеждали нас жизнерадостные картины, развешанные в последних залах Третьяковской галереи. Наименее понятную часть экспозиции представляли собой картины на религиозные темы. Экскурсоводы, конечно, объясняли, что все эти сюжеты являлись для художника лишь поводом для того, чтобы реалистически отразить жизнь и нарисовать, где можно, своих близких родственников и знакомых, а может, заодно и разоблачить религию, пользуясь неправдоподобностью ее сюжетов. Так что если все эти Рублевы и шли порой на кое-какие уступки клерикальным предрассудкам, то лишь для того, чтобы можно было изобразить в конце концов вполне полновесно реальные тело и реальную жизнь, отразить мирскую радость жизни. Так ли это, милая Кока? Тебе видней…
Обнимаю тебя и радуюсь, что у меня такая милая и образованная жена-друг, с которой всегда можно поговорить на серьезные темы.
Любящий тебя
Зиновий
Письмо семнадцатое2 октября
Глубокоуважаемый Валерий Афанасьевич!
Я пишу именно Вам, потому что наша с Вами давняя, ставшая дружеской связь и Ваше ко мне снисхождение дают мне смелость потревожить Вас снова.
Дело в следующем. Главтеатром был прикреплен к моей пьесе дополнительный редактор, который испещрил мой текст пометкам. Каждое слово ему хотелось поправить на другое, лучше ему известное, и, поверьте мне, на самом деле далеко не лучшее, порой более затасканное, чем мое, а главное – просто не мое. Не сочтите это за особую авторскую эгоцентричность, но автору непременно хочется, чтобы в произведении было его, именно его и только его слово – в этом, наверное, одно из условий авторства. Между тем редактор важнейшим условием своего существования и своим долгом считает исправление слов, называемое им редактированием. Это элементарное условие только сейчас предстало передо мной во всей своей ужасающей очевидности, хотя мне и самому доводилось некогда учиться на редакторском факультете полиграф-института. Ныне я с отчетливостью вспоминаю, что нас в качестве будущих редакторов учили воспринимать всякое произведение (за исключением классики, для которой существует текстология) лишь как сырье для создания «оригинала». В произведениях, попадавших нам в руки, неизбежно должны были существовать идейные просчеты, затем композиционные, а потом – и прочие, скажем, стилистические и даже грамматические. Добросовестный редактор должен искать все это и как человек честный непременно найти. Даже признав произведение идейно зрелым, он никогда не упустит случая наставить автора по части стиля. Однако ежели навязать вкус читателя-редактора всем редактируемым авторам, может создаться библиотека одного читателя или одного автора. Даже если это читатель превеликого ума и вкуса, то из мировой литературы что-нибудь уйдет безвозвратно. А ведь в число редакторов попадают люди разного вкуса и уровня, и с годами люди эти приучаются свое слово считать обязательным, потому что испуганные авторы соглашаются и говорят: «Бог с ним, пусть правит, пусть выйдет что-нибудь, не то испортишь отношения – тогда и вовсе конец». Грешен, и у меня самого было сегодня такое вот побуждение, однако внутреннее возмущение и надежда на Вашу помощь побудили меня писать Вам обо всем.
Кстати говоря, образование, подобное тому, что было мной некогда получено, глубоко проникает нынче и издательские круги. Людей с высшим редакторским образованием много стало нынче и среди корректоров, так что теперь и корректоры ту же полученную ими в школе сомнительную ученость норовят вставить в каждую строку и против каждого истинно авторского слова ставят вопрос, а в каждом повторе видят тавтологию и так далее…
Вот и мой новый редактор из главка повелел мне все мои пометки «сказал» заменить на такие слова, как «воскликнул», «вскричал», «скривился», «выпалил», «проговорил», «пробормотал», «захохотал», а еще чаще – «возразил», «спросил», «пошутил».
От этого произошло в тексте большое жеманство, и каждая шутка на корню засохла. То же и с кавычками. Корректоры наши и редакторы более не приемлют простой иронии, если она не обозначена для полного понимания кавычками. А уж когда с кавычками, тогда ясно, что здесь ирония и юмор. Так что иронический способ выражения полностью в России скомпрометирован и отдан на откуп журналу «Крокодил», который шутит таким образом: «Этот, с позволения сказать, "организатор" не организовал своевременный подвоз…» И так далее. Смешно, животики надорвешь!
Простите, дорогой покровитель, что оторвал Вас от работы своими разговорами, но, право, не знаю, что делать, второй день надрываю сердце над пометками редактора из главка и ни на что решиться не могу.
Ваш Зиновий Кр-ский
P.S. Милейший Валерий Афанасьевич! Дело это с редактором оказалось действительно пустячным и разъяснилось в минуту. Было так. Промучившись три дня над замечаниями редактора и не в силах совместить их ни со своим понимание художественных задач, ни с простыми правилами русского письма, пошел я в коллегию в полной готовности ко всему худшему. И там, ожидая приема у самого Главного (чем бы еще кончилось, не знаю, но человек этот, судя по всему, не злой), разговорился я с секретаршей, нестарой еще и милой женщиной, у которой попытался выяснить, что же за человек этот мой Пилипенко, которому отдали меня редактировать в главке. Она сказала, что Пилипенко – человек добродушный, но несчастливый, потому что был он раньше администратором где-то на Украине по театральному делу, но сгорел за какие-то хищения, в которых он как будто и не повинен даже, так что все полны к нему сочувствия и готовы помочь, также и здесь в министерстве. Поэтому, желая его поддержать, дают ему на редактирование пьесы, за что платится менее ста рублей, а все же подспорье в его временных трудностях. Конечно, для него самого это дело хлопотное и непривычное, да он и по-русски-то говорит еще с акцентом, но склочничать не следует, потому что человек в беде. А следует все эти его замечания карандашные стереть, так будто их не было, и сказать, что спасибо, хорошо поработали и нынешний вариант намного приемлемей прежнего. После такого разговора в очереди на прием я больше сидеть не стал, а пошел и купил этой милейшей женщине-секретарше коробку конфет, которую вручить ей все же не решаюсь, так и лежит в шкафу непочатая.
Ваш Зиновий Кр-ский
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































